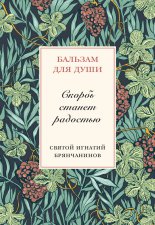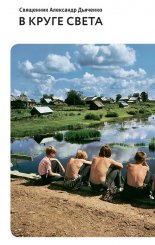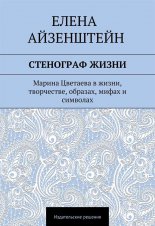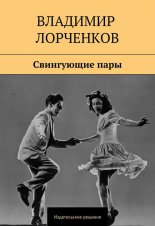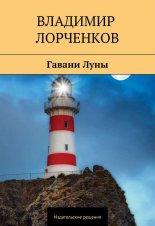Повести Ильи Ильича. Часть первая Алексеев Иван
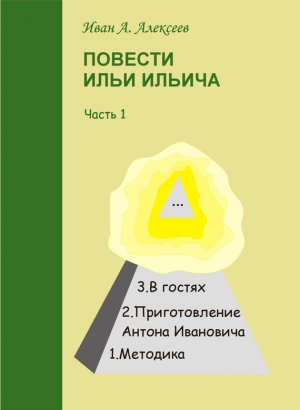
Читать бесплатно другие книги:
В условиях, когда не просто найти духовного руководителя, святитель учит руководствоваться тем, что ...
Яркие, современные и необычайно глубокие рассказы отца Александра завораживают читателей с первых ст...
Елена Айзенштейн – автор трех книг о Цветаевой: «Построен на созвучьях мир», «Борису Пастернаку – на...
В данный сборник вошли рассказы В. Орехова. Многие из них предстают на широкий взгляд публики впервы...
…Писатели часто – как кокотки, которые мучаются, подбирая платье на выход, – размышляют над первой ф...
«Гавани Луны» – остросюжетная история любви и предательства, преступлений без наказания. Писатель и ...