Вы не видели мужчину, с которым я спала? (сборник) Мирная Татьяна
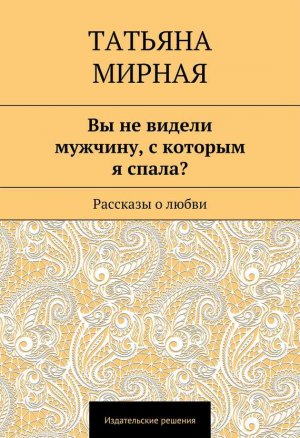
Соседка
Умерла соседка баба Уля. Было ей восемьдесят четыре года. Жили мы рядом лет тридцать. Дружили столько же, и за все время ни разу друг на друга не обиделись и не поругались.
Была баба Уля очень дружелюбной и «подельчивой». Угощала нас огурчиками и помидорами, которые у нее почему-то созревали недели на две раньше, чем у нас. Ловила рыбу в речке, что протекала неподалеку от нашего села и приносила к ужину уже жареную, щедро присыпанную мелко порезанным зеленым луком. Весной несла букеты сирени и тюльпанов с нарциссами, а осенью украшала нашу жизнь хризантемами, которые продолжали цвести у нее и под снегом.
Мои дети очень привязались к ней и называли бабушкой. Я рано осталась без матери, и баба Уля мне частично заменила ее, во всяком случае, я всегда была рада своей соседке и искренне к ней относилась. Была она одинока, правда, изредка к ней приезжала какая-то внучатая племянница, но последние лет десять она «глаз не казала». Так мы и жили: баба Уля у нас ужинала, мылась в бане, приглядывала за детьми и домом, помогала по мере возможности, но и мы ее не оставляли без внимания и заботы.
Жила она в низенькой хате, состоящей из двух комнат – «большой» и «маленькой». В большой стояла кровать с никелированными спинками и пружинистой сеткой, на которой властвовала огромная перина и четыре подушки: две больших и две маленьких. Над кроватью висел шерстяной узорчатый ковер – подарок за многолетний и добросовестный труд в местном колхозе, чем соседка по праву гордилась. В одном углу комнаты стоял старый шифоньер из фанеры, а в другом, напротив, полированный сервант, купленный бабой Улей лет на тридцать позже шифоньера. Сервант, кроме посуды, старенькой и однообразной, украшало множество открыток и сувениров, которые мы дарили соседке к праздникам и в день рождения. Еще в большой комнате на тумбочке для белья стоял черно-белый телевизор, который баба Уля смотрела редко: летом некогда, а зимой она коротала вечера у нас. Комната была чистая и светлая. Два больших окна щедро пропускали божий свет в старушечью обитель. Деревянный пол был устлан малиновыми шерстяными половиками, которые продавались в каждом сельском магазине лет тридцать назад. В маленькой комнате стоял старинный неуклюжий комод, многочисленные ящички которого были набиты всякой всячиной. В углу примостилась маленькая скамеечка, на которую взгромоздился мешок с сахаром – признак благополучия и сытости, по мнению бабы Ули. Сахар в мешке никогда не кончался с тех самых пор, когда сей продукт перестал быть дефицитом. Очень редко баба Уля брала из этого мешка сахар, так как у неё всегда в столе было ещё не меньше пяти килограммов.
На деревянной самодельной вешалке с четырьмя рожками висел повседневный гардероб соседки. Бабушка была небогатой, но она и не переживала по этому поводу, всякий раз говоря: «Слава Богу, хватает на хлеб и на сахар, и на том спасибо».
Умерла баба Уля во сне, никому не доставив хлопот. Мы хватились её утром, когда я, проснувшись пораньше, не услышала во дворе её разговора с курочками и котом Маркизом. Хохлатки были заперты в курнике, а рыжий проказник тоскливо сидел на пороге бабушкиной кухни. Я ещё надеялась, что баба Уля жива, когда в холодном поту открывала дверь запасным ключом, который соседка всегда оставляла у нас «на всякий случай». И вот этот случай наступил.
Хоронили бабу Улю всей улицей. Отметив сороковины, принялись разбирать вещи, так как завещала свой маленький домик соседка нам. В одном из ящиков комода я наткнулась на потертую ученическую папку, в которой были какие-то бумаги. Я стала внимательно рассматривать их. Пенсионное удостоверение, паспорт, справка о реабилитации, желтая, на сгибах выцветшая, выданная почти пятьдесят лет назад. За что сидела баба Уля? Почему об этой странице своей жизни не только никогда не рассказывала, но даже не намекала? Хотела ли навсегда вычеркнуть ее из жизни или больно было от воспоминаний? Я задумалась и продолжала перебирать бумаги соседки.
Полоска обертки ученической тетрадки. Крупным детским почерком выведено: «Бабушка, я люблю тебя». Конечно, без запятой. Это писал мой младший сын, едва освоив грамоту. Он признавался в любви всем: сестре, брату, мне, папе, родной бабушке и, оказывается, бабушке Уле. Он учился тогда в первом классе, сильно простудился, сидел дома, мне надо было работать, и я попросила бабу Улю за ним присмотреть. Сын писал свои записки на обрывках газет, на конфетных обертках и тетрадных листочках. Не сохранилось ни одной, а баба Уля хранила эту полосочку пятнадцать лет. Значит, дорога была…
Я увидела пожелтевший лист А-4, сложенный вчетверо. Это было завещание, составленное по форме, заверенное нотариусом, написанное десять лет назад. Мы же узнали о волеизъявлении своей соседки незадолго до ее смерти. Почему она столько лет молчала? Может, боялась обидеть. Понимала, что не хоромы завещает. Стеснялась. Она ведь скромной была, добро старалась делать незаметно. Я отложила в сторону документ, подтверждающий наше право на наследство.
Следующими были «платежи» – так баба Уля называла плату за свет, воду и газ. Книжки все были в порядке, оплата всегда производилась в срок, первого числа каждого месяца. Умерла она пятого, выходит, на месяц вперед рассчиталась с нашими олигархами, никому ничего не должна. Вместе с расчетными книжками выпала потускневшая черно-белая фотография 9х12, на которой был снят неизвестным фотографом молодой парень в белой косоворотке, с аккуратной короткой стрижкой и напряженным взглядом. На обратной стороне надпись химическим карандашом: «На долгую и вечную память Улечке от Николая». Почему эта фотография лежала отдельно, ведь рядом, в небольшом ящике комода, лежал альбом. Пусть фотографий в нем было немного, но все они аккуратно, с любовью, заправлены в уголочки, подписаны и даже даты стояли. А эта хранилась отдельно… Кто он, этот молодой человек? Не тот ли, из-за любви к которому соседка так и не вышла замуж?
Я задумалась, а между тем, уже листала ученическую тетрадку, которая вся, от начала до конца, была исписана мелким убористым почерком бабы Ули. До войны она успела закончить семь классов, училась в школе хорошо, чем очень гордилась и всегда подчеркивала: «Вот мама моя была неграмотная, а я обучилась грамоте». Я стала читать: «О Пресвятая владычица, Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад… И далее красной пастой были перечислены имена членов всей моей семьи. У меня бешено заколотилось сердце, я продолжала читать: «Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да даруй им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу. Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рожденную, сущую Богородицу Тя величаем». Я плакала, благодарные слезы сами лились из моих глаз. «Царствие небесное тебе, дорогая моя вторая мама, спасибо, что ты была столько лет рядом, что молилась за нас. Мы всегда тебя будем помнить и молиться за тебя». Я перевернула страницу, был тот же самый текст, он повторился двенадцать раз. А на тринадцатой странице была написана другая молитва. В ней она просила Богородицу спасти и сохранить Николая. И тоже переписанная двенадцать раз.
Последним в папке был старый конверт, а в нем письмо, датированное 3 июня 1989 года. Письмо было из Бразилии. Он писал, что долго помнил о ней, но приехать не мог. Затем женился, родил троих детей, имеет свой дом и небольшое дело. «Прошлое не вернуть, Уля, напиши, как ты жила эти годы, есть ли у тебя дети? Я каждый день в молитвах упоминаю тебя, прошу у Господа для тебя защиты и утешения. Прости за то, что ты пострадала из-за меня. Пожалуйста, прости». И подпись: «Всегда твой Николай».
Кусай
У него было странное имя – Кусай. Сначала я думала, что это прозвище, но однажды, покупая на маленьком сельском базарчике большую ароматную айву, я услышала, как он, грозя кому-то невидимому пальцем, обидчиво говорил: «Раз Кусай не начальник, то его можно обижать, да? Кусай все стерпит, Кусай молчать будет» И его маленькое сморщенное лицо от горечи и обиды стало еще меньше, он вытер грязным кулаком слезу, набежавшую, может быть, от ветра, который в нашей степи дул круглый год, и через мгновение, улыбаясь, рассказывал бабе Ганушке:
– А я говорю Николаю Ивановичу, давай меняться жинками, твоя Галя и моя Галя, моя чай калмыцкий варить может, а твоя нет, а ты же любишь калмык-чай. А он смеется, сказал, что подумает. Я вот тебя хочу спросить, Ганушка, как ты думаешь, поменяется Казак со мной жинкой или нет? – хитро прищурив один глаз, спрашивал Кусай.
Казаком у нас в селе звали директора совхоза, может быть за его взрывной характер, за то, что любил рубить с плеча, был горяч, но справедлив. Любил шутку, с ним запросто мог общаться такой никчемный мужик как Кусай. Но если дело требовало дисциплины, тут Казак был крут, его уважали и побаивались в селе. Жена его, Галина Александровна, была сельским врачом, доброй, внимательной, мягкой – настоящий профессионал. До обеда она принимала больных в амбулатории, а после обеда и до позднего вечера посещала на дому. Машины в амбулатории не было, и Галина Александровна в любую погоду с неизменным чемоданчиком в руках спешила на помощь к односельчанам. Вот так однажды она попала в дом Кусая, когда заболела его жена Гульнара. Мужику так понравилась обходительность доктора, что он тут же перекрестил свою суженую Галиной Александровной и даже предложил Казаку обмен. Долго в селе смеялись над предложением Кусая, но это был беззлобный, веселый смех.
Кусая у нас любили за незлобивый характер, за юмор, за душевную простоту. Был он одним из самых бедных мужиков в селе, работал от случая к случаю, чаще болтался по улицам,
вступая в разговоры то с одним, то с другим. Ходил и летом, и зимой в фуфайке и шапке-ушанке, только летом фуфайка его была распахнута, а зимой застегнута на все пуговицы и подтянута солдатским ремешком, а шапка летом была с заломленными обоими ушами, а зимой было открыто только левое ухо, так как на правое ухо Кусай был глух. На ногах его были не поддающиеся износу кирзовые сапоги и простые, давно потерявшие свой первоначальный цвет брюки, подвязанные бечевкой. Кусай был легок на подъем и уже ранним утром можно было встретиться с ним, услышать его громкое приветствие и перекинуться парой веселых фраз, которые, записывай их кто-нибудь, могли бы запросто стать афоризмами.
– Привет, Кусай. Как дела? – обычно спрашивал мой отец. Они вместе с ним некоторое время работали на стрижке овец, папа – наладчиком стригальных машинок, а Кусай подавал овец стригалям.
– Как у той овцы, которой полбока оттяпали, а она думает: «Хорошо, что голова цела».
Жили они с женой в небольшом низеньком саманном домике, который был целый день распахнут для знакомых и незнакомых людей. Жена его варила калмыцкий чай и целый день распивала его с подругами и соседями. Кто никогда не пил этот полезнейший напиток, много потерял. Готовился чай по-особому рецепту с добавлением молока, сливок, даже сливочного масла, соли, горького перца, обладал необыкновенным ароматом, насыщал человека не меньше, чем русский борщ. У Кусая в доме было шаром покати, но ни он, ни его жена по этому поводу совершенно не переживали. Из того, что у нас в селе считалось богатством в то время, у них была только корова белой масти, с огромными блестящими черными глазами и с выменем, как цибарка, по словам завистников. Корову Кусай любил, добывал сено, выпрашивая трактористов тайком забросить ему на двор пяток тюков, пас по очереди с соседями и даже, бывало, разговаривал с ней.
– Ты хорошая корова, я тебя никому не отдам, теленка отдам, а тебя нет. Ты прости, что я теленка продам, Галина Александровна болеет, надо лекарство купить, а денег нет. Я теленка продам – куплю лекарство. Спасибо тебе за молоко, мы чай варим, вот и сыты.
Корова слушала, лизала с грязной Кусаевой ладони соль, мотала головой и хвостом, отгоняя мух, и молча жевала жвачку. Она опять ждала теленка, Кусай это точно знал: обычно худая, она на глазах начинала поправляться, когда готовилась стать матерью. Вот и сейчас бока ее округлились, но до счастливого события еще было далеко. Был июль, а отелиться корова должна была зимой, поэтому Кусай не говорил о предстоящем событии даже жене, боясь сглазить.
То лето выдалось в наших краях сухим и жарким, уже третий месяц не было дождя. Ногайцы, которые занимались в основном скотоводством, были в отчаянии. Степь выгорела, овцы и коровы щипали бесполезную сухую траву, но и от той вскоре остались одни былинки. Они пошли к мулле. Тот и сам был готов на все, чтобы выпросить у Аллаха живительную влагу, поэтому решил принести в жертву белую корову. Белая корова была в селе только одна, и делегация во главе с муллой пришла к Кусаю. Он понял сразу, зачем к нему пришли кунаки и молча вывел корову из стойла, а сам, натянув поглубже шапку-ушанку и опустив оба уха, пошел туда, куда вели его непослушные ноги.
Единственная в селе женщина-шофер, отчаянно сигналя, до последнего не верила, что идущий по пыльной дороге Кусай ее не слышит. Обычно он останавливался, приветливо махал рукой, улыбался, цокал языком, всякий раз удивляясь: «Ай-ай-ай, Тамарка, зачем села за руль? У тебя же муж есть. Непорядок. Женщина должна дома быть и чай варить».
Он лежал на дороге, широко раскинув руки, шапка-ушанка отлетела далеко в сторону и собравшийся народ наконец увидел черные с проседью волосы Кусая, которые перебирал легкий ветерок. В открытых голубых глазах был не испуг, нет: в них застыл немой вопрос, который был обращен… А впрочем, какая теперь разница, кому был предназначен вопрос.
Записка
Умирала мать. Ее желтое исхудавшее тело лежало почти неподвижно на кровати под белой простыней. Она уже не чувствовала боли и даже, когда ей делали уколы, не вздрагивала как обычно. Сил у нее осталось только на то, чтобы поднять сухую жилистую руку с обвисшей кожей и костлявыми полусогнутыми пальцами кого-то молча звать. Дети подходили, брали ее руку, еще теплую и родную, гладили, пытались спросить, кого она зовет, но она, тяжело приподняв веки, мутными глазами обводила вопрошающего и опять обреченно закрывала их. Она уже неделю ничего не ела и почти не пила. На столике рядом с кроватью стояли напитки в трех разных кружках: в одной чай, в другой – компот, в третьей – вода, содержимое постоянно менялось, но мать отказывалась от пищи. Только однажды, подозвав сына, мать долго слипшимися непослушными губами объясняла сыну, чего она хочет. Наконец он смог разобрать просьбу матери:
– Огурчика солененького хочу, – несколько раз повторила она и даже попросила приподнять ее.
Младший сын полез в погреб за огурцами, но там не оказалось ни одной банки. Да и откуда им было взяться? Мать заболела в мае, на исходе был июль, сезон огуречный прошел, и хоть уродили огурцы в этот год неплохо, но закручивать их было некогда, поэтому сын завел машину и поехал к тетке, сестре матери, за огурцами. Та обрадовалась, кроме соленых, еще и свежих (только что с грядки) сунула в машину на переднее сиденье, да и хлебушка домашнего булочку: «Вдруг Наташа захочет, ведь она так любит хлеб».
Вэто время старший сын, обрадованный просьбой матери, готовил ее к трапезе: приподнял на кровати, причесал мягкие послушные волосы, обтер мокрым полотенцем лицо и руки.
Когда младшенький принес на тарелке два маленьких темно-зеленых пупырчатых огурчика, слабо пахнущих уксусом и укропом, мать зажала огурец в руке и принялась жадно сосать его, как конфету, причмокивая и судорожно глотая рассол.
– Мама, может тебе рассольчику в стакане принести? – с надеждой спросил старшенький.
– Не надо, – устало ответила мать, – наелась уже, спасибо, сынок.
Иположила целый огурец на тарелку, тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Больше к банке с огурцами никто не притронулся, в холодильник поставить забыли, так и скисли они на столе в кухне.
Больше мать ни о чем не просила. Она лежала неподвижно то на одном боку, то на другом, то на спине – дети периодически переворачивали ее, чтобы не было пролежней.
Почти два месяца прошло с того времени, как она слегла. Сначала мать пыталась бороться с недугом, свалившим ее, выполняла все рекомендации врачей, пила горстями таблетки, покорно подставляла тело для инъекций, но улучшения не было.
– Почему, сынок, мне все хужей и хужей? – обращалась она к сыну, когда тот садился у ее изголовья. – Сколько я химии этой проклятой приняла и ничего не помогает. А денег сколько вы истратили! Вон вся тумбочка уставлена этими лекарствами, а толку?
Тумбочка, стоящая у окна, действительно была заставлена коробочками и тюбиками, пузырьками и таблетками, но она не знала еще, что и два ящика тумбочки были плотно набиты аптекарским товаром, оттого в комнате пахло больницей и безнадежностью.
Через месяц, прикованная к постели, мать почти перестала спрашивать о выздоровлении, она смирилась с приближением конца и стала просить почитать Библию. Эта книга, большая и тяжелая, досталась ей бесплатно от какой-то благотворительной организации лет десять назад, и она в последние годы читала только ее и ЗОЖ., который теперь аккуратной стопочкой лежал на подоконнике. Каждый номер был прошит белыми нитками, наиболее интересные и нужные рецепты выделены красной пастой. Последние десять лет, после первого инсульта, мать лечилась сама по рецептам этого народного лекаря. Посадила в огороде различные лекарственные травы, делала настойки и отвары и подолгу пила то с медом, то с орехами. Давление пришло скоро в норму, и мать жила, почти не болея.
Дочка брала Библию, читала, но недолго: надо было стирать, гладить, готовить, мести двор, словом, забот хватало. Видя, что дочь нервничает, а может, потому, что уставала слушать, мать отказалась и от этой радости.
Она лежала молча и о чем – то думала. Может, прокручивала, как в киноленте, свою нелегкую жизнь? Ссылка, война, голод, замужество, потери близких, рождение детей и внуков, работа с раннего утра до позднего вечера, тревоги и радости – все, как у любой русской женщины.
Иногда она задавала явно волнующий ее вопрос:
– А как там мои цветочки?
– Ничего, мама, растут, – отвечала дочь, – рыхлим, поливаем, не волнуйся, поднимешься – увидишь.
Мать согласно кивала головой. Цветов у нее во дворе и в саду было великое множество. Зная ее пристрастие, и дети, и соседи, и родственники делились с ней семенами, корешками, клубеньками, росточками. И из самого захудалого росточка у нее всегда вырастал удивительный цветок. К бабе Наташе 25 мая и 1 сентября вся улица приходила за букетами. Особенно шикарными у нее выходили астры и хризантемы. Красные, синие, белые, цветы украшали ее двор с ранней весны до поздней осени. Она ухаживала за каждым цветочком как за ребенком и радовалась раскрывшемуся бутону так же, как ребенок радуется новой игрушке. Сзывала соседей посмотреть, как цветет царская корона или какой-нибудь редкий вид тюльпана. После смерти мужа, лет двадцать она жила одна, никому из детей не хотела становиться обузой, и цветы были для нее и лекарями, и собеседниками, и гостями, и детьми. Теперь же она подолгу смотрела в окно напротив кровати, но ничего не видела, кроме куста сирени, который давно отцвел, а листья его, густые и жирные, загораживали от матери все остальное пространство.
Приезжали внуки проведать бабушку, бабулю. Их у нее было семеро: четыре внучки и три внука. Старшие стеснялись проявлять свои чувства, сидели на стуле и смотрели на бабушку, коротко спрашивая и так же коротко отвечая:
– Бабуль, как дела?
– Плохо, – всегда отвечала она, (а совсем недавно говорила: лучше всех).
– Ты брось это, давай поднимайся, цветочки надо поливать, выздоравливай, пожалуйста.
– Хорошо, – покорно соглашалась она. – А у тебя как дела?
Выйдя же из комнаты, где лежала бабушка, внуки нервно курили, а внучки принимались рыдать.
Авот самый младшенький, любимый внучок, хоть и двадцать лет было ему, не мог сдержаться и на глазах его наворачивались слезы, когда он гладил руку бабушки и усердно прятал лицо, чтобы она не заметила слез
– Ничего, Владюша, все будет, внучок, хорошо, – утешала она его. – Как ты учишься?
– Хорошо, бабуль, – еле слышно отвечал внук. – Может, ты чего-нибудь хочешь?
– Уже отхотелось, – отвечала она и горько вздыхала.
Выйдя из комнаты, Владик обращался к матери:
– Мама, а бабушка умрет? Я почему-то никогда об этом не задумывался. Мне казалось, что она никогда не умрет.
– В таком возрасте редко поправляются, сынок. Ей ведь через месяц восемьдесят четыре будет. Да и веру она потеряла, не хочет выздоравливать.
Да, это было так. Ее измучила боль, которую лекарства останавливали лишь на время. Она не хотела быть обузой, так как видела, что дети ее все заняты мыслями о домах, которые им пришлось оставить в связи с болезнью матери, о работе, где пришлось брать внеочередной отпуск. Да и устали они, сами уже не молоды: старшей дочери почти шестьдесят, среднему сыну – пятьдесят пять, младшему совсем недавно пятьдесят отметили.
На улице стояла июльская жара. Правда, саманный домик дольше сохранял прохладу, но только ночью и утром, днем же было душно, хотя и работал вентилятор. Мать лежала под простыней совершенно голая, она стыдилась своей наготы, просила надеть ей ночную сорочку, но дети не надевали, так как боялись пролежней. Это ее мучило страшно до тех самых пор, пока она перестала понимать, что с нею происходит, стала путать имена, иногда сознание ее отключалось полностью, она переставала узнавать окружающих. Сползала простыня и обнажала уже почти плоскую грудь матери, когда-то вскормившую троих детей. Придя в себя, она натягивала простыню до самого подбородка, нервно мяла ее, и тогда обнажались худые синюшные ноги.
Господи, зачем ты устраиваешь такие испытания людям7 Неужели нельзя забрать к себе без боли, стыда и унижения, без страха и упрека, без мучений?
Все понимали, что близится финал. Первым о неизбежном заговорил старший сын:
– Надо подумать, как маму будем хоронить, – пряча измученные глаза, предложил он брату и сестре.
– Мама должна была приготовить себе на смерть, пойду, поищу, – тихо промолвила сестра.
Через некоторое время она вернулась с белым холщовым мешочком, туго завязанным бечевкой, словно мать, готовя его, не хотела, чтобы его скоро развязали. Наконец младший сын зубами развязал узел, и дочь стала вытаскивать содержимое. Сверху лежали, свернутые в трубочку, носовые платки. Они были разные: мужские и женские, новые и явно стиранные, аккуратно, фабрично подрубленные и с разлохмаченными краями.
– Это она по похоронам ходила и складывала те платочки, которые дают на похоронах, себе, – догадалась дочь. – Надо перебрать, может, какие и сгодятся. И достала аккуратно сложенные и перетянутые веревочкой фартуки для кухарок, которые будут готовить поминальный обед. Когда их разложили, наступило тягостное молчание.
– Боже мой, мама, неужели нельзя было купить новые фартуки? – растерянно произнесла дочь. Фартуки были собственноручно сшиты матерью на старенькой швейной машине «Подольск» из отцовских старых рубашек. Разного цвета, вылинявшие (отец работал агрономом, и рубахам доставалось немало от южного жаркого солнца), больше выгорела спина, поэтому фартуки были сшиты из передних полочек с пуговицами посередине.
Следующими лежали тапочки, и все дети переглянулись между собой. Тапкам этим было лет двадцать. Это были светло-коричневые, велюровые румынские тапочки без пяток, купленные в Москве в эпоху тотального дефицита. Дочь привезла их матери в подарок в 8 марта. Она их некоторое время носила в комнате, а потом…. оказывается, отложила…
Наконец платье. Чисто черное, тоже когда-то ношенное.
– Эх, мама, мама, при жизни во всем себе отказывала, и, даже о смерти думая, не захотела на себя тратиться, – заплакала дочь.
Кому, как ни ей, мать помогала больше всех, потому что одна растила дочь, потому что в проклятые девяностые научные работники были стране не нужны, и они не жили, а выживали. Мать делила пенсию, оставляла себе малую толику, только на «платежи», как она говорила, сама ходила завтракать и обедать к сыну, а на ужин порой один чай пила, месяцами себе ничего не покупала, но к дню рождения каждому внуку готовила подарочек. Вон листочек с именами и датами висит у нее на стенке под простенькой иконкой, приколотый канцелярской кнопкой, которые сохранились у нее еще с тех времен, когда она работала бухгалтером. Последними были записаны четыре правнука; появившиеся на свет один за другим.
Дочка достала из мешочка небольшой узелочек. Развязали, в узелке были гвоздики для гроба – четыре больших и горсточка мелких. Гвоздики уже поржавели.
Лежало еще в мешочке метров пять белого ситца, пожелтевшего от времени, капроновая накидка, когда-то служившая занавеской, чулки с распустившимся столбиком и новое нижнее белье. На самом дне лежала записка, написанная каллиграфическим бухгалтерским почерком: «Не судите строго. Похороните рядом с родителями и крест поставьте как у них»
Журнал
В школе села Рощино проходил традиционный вечер выпускников «Искорка». Учителя и ученики, ответственные за проведение вечера бегали, суетились, бросали последние мазки на своё творение – зал, который в этом году был украшен необычно по инициативе классного руководителя 11 класса Татьяны Ивановны. На столах, накрытых тёмно-вишнёвыми шёлковыми скатертями, стояли разного цвета свечи в хрустальных подсвечниках, купленных на деньги, заработанные в ученической бригаде. Ребята своими руками на уроках технологии сделали украшения из цветных пластиковых бутылок, оригинальные и скромные, в виде вазы с цветами, развесили по стенам воздушные шары, к стульям привязали по шарику-сердечку. В центре каждого стола призывно сверкал серебряными боками самовар, и стояли не казённые стаканы, а принесённые из дому чашки с блюдцами и, конечно, выпечка: печенье, пирожные, торты.
Целый месяц активисты ходили по дворам, просили у родственников фотографии выпускников, колдовали над стенными газетами для каждого выпуска, до позднего вечера мастерили фильм, состоящий из воспоминаний самих выпускников и их учителей, работающих и пенсионеров, которые с радостью откликнулись на предложение и не только вспомнили своих «детей», но и принесли различные свидетельства их школьной жизни: тетрадки с корявыми буковками первоклашек, грамоты, пожелтевшие и с выцветшие от времени, дневники наблюдений, записочки и открытки.
Одна из бывших учительниц, выпустившая свой первый класс ровно пятьдесят лет назад восьмидесятидвухлетняя Евдокия Гавриловна с нескрываемым волнением ждала своих питомцев. Старенькая, седая, с неизменным клубком на голове, с костылём, который она поминутно то приставляла к стене, то вновь опиралась на него из-за больной ноги.. Евдокия Гавриловна приготовила речь, и листочек с простыми и сердечными словами дрожал в её руке, как осиновый на ветру. По случаю праздника она надела то же самое платье, в котором провожала со школьного порога своих питомцев. Платье бережно хранилось в шифоньере, поэтому не потеряло ни своего цвета за пятьдесят лет, ни привлекательности, только строгости в нём, конечно, убавилось. Высокая, стройная, Евдокия Гавриловна полвека назад в этом синем платье с кружевным воротничком была грозой всех прогульщиков и разгильдяев, или «тунеядцев», как чаще всего она называла проказников. Сейчас же похудевшая, постаревшая, ставшая гораздо ниже ростом со своей палочкой, учительница превратилась в бабушку, милую и трогательную своим нескрываемым волнением.
Пришли первые выпускники, но среди них не было ни одного из класса Евдокии Гавриловны. Одни, постарше, подходили к ней, приветствовали, обнимали её худенькие плечи, справлялись о здоровье и спешили, радостные и счастливые, к своим классным «мамам», целуя их, даря улыбки и цветы. Другие, помоложе, здоровались издалека из вежливости, и, не задерживаясь, шли к своим одноклассникам.
Уже несколько групп выпускников стояли со своими учителями, галдели, смеялись и плакали одновременно. И только Евдокия Гавриловна с надеждой и тревогой смотрела на входную дверь, которая радостно впускала бывших учеников и после каждого закрывалась громко, как бы выстреливая их из своего дула.
«Что ж я, дура старая, так волнуюсь. Вряд ли мне придётся кого-нибудь дождаться. Ведь тем девочкам и мальчикам, которых я выпустила в жизнь, уже под семьдесят. У них болезни, старость такая же, как и у меня, бедная, нищенская. Многие живут далеко, как они приедут в наше богом забытое село, это какие деньжища надо, чтобы, например, приехать из Новосибирска, где сейчас живёт Надя Гирик, бывшая староста и правая рука моя. Или, например, из Санкт-Петербурга, где живёт Толик Адрианов, спортсмен и отличник класса. Тогда почему директор школы прислал за мной машину, сказал, что меня сюрприз ждёт. Какой же всё-таки подарок ждёт меня?»
Размышляя, Евдокия Гавриловна не заметила, как в фойе появился высокий седой мужчина с огромным букетом алых роз. По одежде (он был в элегантном сером костюме и водолазке) и манерам в нём безошибочно угадывался интеллигент. Очки в золотой оправе поблёскивали в свете электрических лампочек, которых к вечеру дополнительно вкрутили штук десять. Он внимательно изучал зал и, наконец, твёрдой походкой направился к Евдокии Гавриловне. Когда учительница поняла, что это бывший её ученик Ваня Маслов, он уже обнимал свою старенькую учительницу, пожимал её руки и говорил взволнованно не те слова, которые он готовил всю дорогу, пока ехал в родное село, а что приходило в данный момент в голову.
Евдокия Гавриловна растерялась, букет, как сумасшедший, прыгал в её руках, она говорила своему бывшему ученику то вы, то ты, называла то Ваней, то Иваном Васильевичем, потом присела, заплакала, вместе с ней прослезился и гость, но всё-таки учительница взяла себя в руки, и повели они неспешный разговор.
Когда Евдокия Гавриловна спросила о работе своего ученика, она невольно слукавила. Знала ведь, что Иван Васильевич крупный инженер, много лет возглавлял один из известных в стране заводов, имеет правительственные награды, является лауреатом Государственной премии и много ещё чего порассказали школьные следопыты о гордости школы, да и родная сестра Ивана Васильевича всего лет десять, как уехала из села. Она и предположить не могла, что такой занятой человек когда-нибудь вспомнит о своей малой родине и приедет на встречу с выпускниками из самой Москвы. К сожалению, больше никто из их класса на «Искорку» не пришёл, и учительница с учеником сидели одни за столом, между тем, как за соседними столиками был шум и гам, звучали школьные песни и смех. Особенно веселились те, кто окончил школу десять, пятнадцать и двадцать лет назад.
После общих воспоминаний, как учились, как ходили в походы, как трудно жилось, о тех, кто жив и кто, к сожалению, покинул уже этот мир, Иван Васильевич неожиданно сказал:
– А ведь я приехал покаяться перед вами, Евдокия Гавриловна, – и пристально посмотрел на учительницу. Она опешила.
– В чём, Ванечка? – неожиданно для самой воскликнула учительница. – Разве ты виноват в чём-то передо мной? Я помню тебя очень славным мальчиком, не отличником, но твёрдым хорошистом, добрым, отзывчивым, добросовестным.
– Вы стали нашим классным руководителем в пятом классе, а в начальной школе я ведь учился на двойки и тройки, хуже меня ученика в классе не было. Первая моя учительница, Зоя Васильевна, махнула на меня рукой, говорила маме, что толку из меня не будет, учёба, мол, ему не даётся, но выйдет из него хороший тракторист. Мама ей поверила и перестала меня заставлять учить уроки. Целыми днями я забавлял себя сам: то сусликов в степи выливал, то кроликов разводил, то для бабушки очки мастерил, то в поле дядьке помогал. Отца-то у нас не было, и дядька часто брал меня с собой на трактор, приучал к работе. В пятом классе я продолжал валять дурака, получал свои двойки и тройки, мама с родительского собрания приходила пристыженная и раздосадованная. Бралась в сердцах за ремень, потом махала рукой, садилась и плакала. Мне было очень жаль её, я тоже начинал реветь, обещал исправиться в очередной раз, но всё возвращалось на круги своя. Пока я наконец не получил пятёрку. И поставили её мне вы, по истории. Помните?
Учительница, конечно же, не помнила, мало ли она за свою жизнь поставила пятёрок, но согласно кивнула головой.
– Так вот, эта пятёрка перевернула всю мою жизнь. Вы рассказывали нам о Древнем Египте и так увлечённо, что я, раскрыв рот, слушал. А когда вы предложили выйти и повторить рассказ, я смело направился к доске и передал всё слово в слово. И вы с огромным удовольствием поставили мне пятёрку, первую в моей жизни.
– А в чём же ты решил раскаяться, мальчик? – задумчиво спросила учительница.
Евдокия Гавриловна, наконец, увидела перед собой того вихрастого мальчишку-пятиклассника с последней парты, очень шустрого и верткого. Он постоянно кого-то задирал, и его то и дело приходилось одёргивать, пока она не пересадила Ваню за первую парту. И хотя сразу он естественно крутиться не перестал, но слышал гораздо больше, чем за последней партой, а память у него была феноменальная.
– А в том, что я журнал, в котором вы мне пятёрку поставили, украл.
– Как украл? – испуганно воскликнула Евдокия Гавриловна и оглянулась.
Учительница и верила, и не верила словам Ивана Васильевича.
– Очень просто. Вы вышли из класса, а я подошёл к учительскому столу и незаметно положил журнал в холщовую сумку, с которой ходил в школу. Домой я летел как на крыльях. Мне хотелось быстрее маме показать свою отметку, но когда я пришёл, её дома не оказалось. Я свою пятёрку и гладил, и целовал, и смотрел на неё во все глаза и не мог налюбоваться. Наслаждаясь оценкой, я всё-таки сообразил, что родительница вряд ли погладит меня по головке за такое дело, поэтому свидетеля своего преступления спрятал в сарае в укромном местечке, а маме просто похвастался своим успехом. Она сначала не поверила, а потом расцеловала меня и испекла мои любимые пышки на кислом молоке, которые мы ели только на праздники. На другой день в школе был переполох из-за журнала, вы пришли на урок заплаканной, но потом новый журнал завели и отметку мою перенесли в него. Я не осознавал своей вины, каждый день уходил в сарай, любовался пятёркой и с удовольствием учил уроки. Мама заметила во мне перемены, но объяснила всё просто, по-крестьянски: «Перебесился». Один я знал, отчего со мной произошли такие метаморфозы. Много лет мне было стыдно признаться в преступлении и вот, наконец, я созрел. Простите меня, Евдокия Гавриловна.
И припав на одно колено, улыбаясь, он поцеловал учительнице руку и склонил голову.
– Прощаю, мой дорогой, – смеясь, ответила учительница. – Хотя, если честно, я этот случай совершенно не помню.
Свидание
Она назначила ему встречу на той самой лавочке под раскидистой ивой.
Правду говорят, что люди меняются быстрее вещей. Вот эта зелёная скамейка в парке осталась такой же, как и тридцать лет назад, даже цвет не поменяла. Та же гордо выгнутая блестящая спинка, чёрные ободья по краям, тяжелые стальные ножки, которые много лет не дают возможности убежать со своего места этой свидетельнице любовных утех и драм. Жёлтый вытоптанный песок под ногами. Та же ива, которая своими склонившимися ветвями почти круглый год создавала интим влюблённым парочкам, скрывая их даже от фонаря, который бесстыдно светил на углу сквера.
Да и весь сквер почти не изменился. Театр, в честь которого он был назван, как стоял, так и стоит, афиши зазывают многочисленных студентов, общежития которых находятся неподалёку. Дорожки сквера посыпаны таким же красным и жёлтым песком. Памятник М. Ю. Лермонтову не сдвинулся со своего места ни на сантиметр, всё так же великий поэт молод, как и тридцать лет назад, да и через триста он не изменится.
И только люди сменяют друг друга, рождаются, влюбляются, женятся, рожают детей, стареют и умирают. А солнце продолжает светить другим, небо не падает после каждой трагедии, всё остаётся таким, как было.
Так или приблизительно так думала немолодая уже женщина, сидя на зелёной деревянной скамейке под раскидистой ивой вдали от пешеходной дорожки. Она была ещё хороша собой: пышные тёмно-русые волосы аккуратно уложены в парикмахерской, на лице французский макияж, большие выразительные серые глаза, немного вздёрнутый маленький носик, довольно полные губы, на которых остался едва заметный след губной помады. Женщина была полноватой, но это была не безобразная полнота, а приятная. Белые бриджи подчёркивали красоту её ног, а цветная трикотажная майка с геометрическим рисунком необыкновенно молодила её.
«И зачем я пригласила его на это свидание? Столько лет минуло. Почти целая жизнь. И дёрнул же чёрт меня искать его в Интернете. Ради интереса. Вот тебе и интерес.»
Она стала вспоминать события тридцатилетней давности. Общежитие политехнического. Первый курс. Четыре сельские девчонки, только что познакомившиеся друг с другом. Робкий стук в дверь их комнаты. На пороге – высокий застенчивый парень. Скромно опустив долу очи, попросил хлеба. Потом они с другом Мишкой стали ходить в гости, слушали вместе музыку, спорили, готовились к экзаменам. Привязанность незаметно переросла в любовь, а потом они убегали от всех и прятались вот под этой самой ивой. Целовались до головокружения, небо опрокидывалось им под ноги, и они плыли на мягких невесомых облаках, не замечая времени. Любовь их была такой же скромной, как и он сам: рук не распускал, при девчонках никаких поцелуев, в кинотеатре сидели только рука в руке, на танцах – нежное объятие – и всё. Зато цветы в их комнате не переводились: каждую неделю приносил новый букет кроваво-красных гвоздик. В то время не было такого многообразия цветов, как сейчас, и гвоздики стали символом их любви. Да, именно любви, тихой и ясной. Как жаль, что она поняла это, спустя много лет. А тогда… Надоело однообразие: общежитие, прогулки по городу, кино, театр, гвоздики и скамейка под ивой. Хотелось чего-то нового, экстремального. И оно не заставило себя ждать.
Подруга Изольда познакомила их прямо на улице. Они шли с занятий, а навстречу курсант училища связи, подтянутый, улыбающийся, с четырьмя нашивками на рукаве.. Это потом она поняла, что встреча не была случайной, что всё было спланировано заранее. Он оканчивал училище, и для хорошего распределения ему нужна была жена. Что ей ударило в голову, она до сих пор не может понять. Взрыв атомной бомбы был меньшей силы, чем её страсть. Всё закрутилось, завертелось с бешеной силой. Она забыла обо всём на свете, в том числе и о нём, а он тактично отошёл в сторону. В начале июня отгремела свадьба, в конце выпуск в училище, а в августе она с мужем уже была в Германии. Там родился сын, а через два года они опять оказались в Союзе, родилась дочь. Муж никогда не любил её, изменял, пристрастился к выпивке, в конце концов его с треском выперли из армии, а она уехала к маме. Развелись без слёз, без упрёков, по-человечески, совсем не так, как жили.
Вспоминала ли она свою первую любовь? Теперь-то можно признаться, что да, причём очень часто. Когда лила слёзы над своей неудавшейся семейной жизнью, когда одна ходила в кино и театр, когда в одиночестве гуляла по незнакомым улицам как в калейдоскопе меняющихся городов, в которые забрасывала её судьба с непутёвым мужем. Дети выросли, а ей ничего не осталось, кроме как вспоминать молодость, да ещё Интернет, который занимал всё её свободное от работы время. Не веря в удачу, она сделала запрос.
Когда он получил письмо от неё с предложением встретиться, у него перехватило дыхание, застучало в висках, руки и ноги похолодели. Только бы жена не заметила его волнения. Нет, лучше ей рассказать: она знала о его трагической любви. Он сам ей обо всём рассказал. А она жалела его, утешала. Утешая, влюбилась. Потом они оказались в постели. Он сделал предложение, потому что иначе поступить не мог. За тридцать лет привыкли друг к другу, вырастили детей, уже внуки радуют. Жена стала необходима как воздух, как сама жизнь. Любил ли он жену? Он сам не смог бы ответить на этот вопрос. Но когда она куда-нибудь уезжала или задерживалась на работе, он не находил себе места. В одной комнате им не было тесно. У них были общие переживания, общие желания. Он не часто говорил супруге о любви, но целовал всегда страстно, обнимал искренне. Жизнь их текла мирно, без всяких потрясений. Он почти забыл о своей роковой страсти, сердце его оставалось спокойным, когда он вспоминал её. И только их общая единственная фотография, которую он иногда ненароком находил, волновала его, но уже с меньшей силой, чем прежде. Фотография эта была сделана совершенно случайно. Они, взявшись за руки, как всегда гуляли в сквере и очень приглянулись фотографу. Тот не удержался и предложил щёлкнуть на память.. Они остановились, посмотрели друг на друга влюблёнными глазами, и мгновение это осталось навечно на чёрно-белом снимке. Вскоре она встретила курсанта. Позже он узнал, что фотографироваться вместе не стоило: примета плохая, но уже поздно было что-либо менять. Как-то он хотел порвать фото, но жена удержала. Так и напоминала ему эта фотография его несостоявшуюся любовь.
Жена хлопотала на кухне, готовила обед. Вкусно пахло жареным мясом. С лучком, с перчиком, на сковороде, так, как он обожал, хоть врачи во весь голос кричат, как это вредно. Он представил жену, с едва заметным румянцем на щеках, с сединками на висках, которые никакая краска не может закрасить, полноватую. Она одновременно могла делать несколько дел: жарить, печь, резать, мешать – и всё это с улыбкой, мурлыча себе что-нибудь под нос. Он так привык к её домашним борщам, соусам, пирогам и пирожкам, жареному и тушёному, что никакая, даже самая изысканная пища не могла покорить его избалованный желудок.
Он встал из-за стола, выключил компьютер, заглянул на кухню.
– Что-нибудь случилось, дорогой? На тебе лица нет, – встревожилась жена. – Дай-ка я давление померяю.
– Не надо, я себя хорошо чувствую, пойду, прогуляюсь, – остановил он её.
– Отлично, – всё ещё тревожно вглядываясь в родное лицо, сказала жена, – Только не задерживайся, через полчаса ужин будет готов.
Он вышел из подъезда, в нос ударили привычные городские запахи, так и не ставшие родными: до службы в армии он жил в деревне. И аромат луговых трав ему был милее запахов цветочных клумб, деревенская пыль не вызывала першения в горле в отличие от городской, жара в деревне не была такой знойной, как в городе. Навстречу шли люди, старые и молодые, девчонки и мальчишки, мамы с колясками, но он никого не замечал.
«И зачем она написала? Что я ей скажу? Я ведь в глубине души желал этой встречи много лет, а сейчас будто и не я иду на свидание с ней. Любимой и желанной?»
Он остановился. Как-то неестественно, с огромным трудом, споткнувшись о что-то, промелькнули эти два слова Итут вдруг он услышал последние слова жены: «Не забудь купить хлеба, Коля». Жена всегда его называла только по имени, даже когда пошла мода кликать мужей по фамилии или «лапками, зайками, котами». Сейчас многие в их возрасте величают суженых по имени-отчеству, она же по-прежнему, как в юности, с каким-то особым теплом в голосе.
Он подошёл к перекрёстку и увидел хлебный киоск, который уже лет двадцать стоял на этом месте. Хлеб в него завозили два раза в день: утром и вечером. Сейчас как раз возле киоска стояла «Газель», и продавщица Юлечка принимала вкусно пахнущие кирпичики и батоны. Терпеливо подождав, пока Юля подписывала бумаги шофёру, протянул 50 рублей:
– Одну булку белого и французский батон, пожалуйста, – сказал он мягко и улыбнулся.
Интернет
Как быстро все меняется в нашей жизни? Пять лет назад, для того чтобы позвонить за границу, надо было идти на почту, заказывать переговоры, ждать не меньше часа и только потом услышать долгожданное ало на другом конце провода. Вскоре у самых продвинутых и богатеньких сельчан появились сотовые телефоны, и, гордо вертя их в руках, можно было демонстративно разговаривать на зависть окружающим хоть с Америкой.






