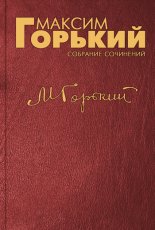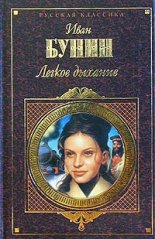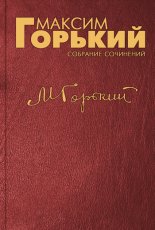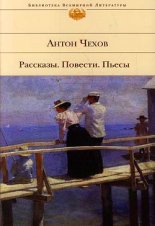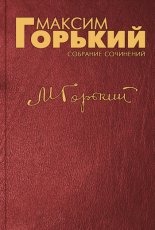Victory Park Никитин Алексей

Часть первая. Пеликан и Багила
Глава первая
Фарца голимая
1
Виля просыпался медленно, тяжело выбираясь из вязкого предутреннего кошмара, но проснулся быстро и тут же, отбросив одеяло, сел. Было тихо и сумрачно. Он не помнил, что ему снилось, и не понимал, где находится. Виля впервые видел комнату, в которой провел ночь: громоздкий полированный шкаф, какой-то хлам, сваленный сверху, телевизор на тумбочке – кажется, «Электрон», – на полу дешевый ковер, вешалки и полки по стенам. На ковре валялись его туфли, джинсы и наспех сброшенное женское белье. Пахло пылью, несвежей одеждой. Пахло нелюбимым неухоженным жильем, домом, где живут в спешке, без удовольствия и без внимания к милым пустякам, способным если не сделать жизнь осмысленной, то хотя бы скрасить ее унылую бесприютность. А Виля любил пустяки. Он был мастером детали.
– Миша, – раздался из-за спины сонный голос, – не спишь уже?
Миша… Ну, конечно. Виля осторожно оглянулся. Из-под одеяла выглядывало чуть полноватое колено и пухлая женская рука. Судя по обручальному кольцу – правая. Виля задумчиво погладил колено: как же ее зовут?
– Да, дорогая. И очень хочу кофе.
– Тогда свари и мне тоже. Кофе в банке на столе у плиты…
Виля рассчитывал услышать немного другие слова, но спорить не стал.
– Конечно, солнышко, – его рука неторопливо заскользила по гладкой коже женского бедра и скрылась под одеялом. Из-под подушки донеслось довольное урчание.
– Свари кофе и приходи скорее, милый.
«Теперь всем подругам расскажет, что Боярский ей кофе в постель приносил», – чуть усмехнулся Виля.
Встав с дивана, он быстро натянул старые потертые левайсы, и разыскивая рубашку, еще раз оглядел комнату. Джинсы Виля купил прошлым летом. Взял две пары за восемь червонцев у финна с «Ленинской Кузницы» в валютном баре «Лыбеди». Вторую пару он потом сбросил за стольник Белфасту, отбив покупку. Белфаст уже за двести загнал ее на «точке». Виля не фарцевал постоянно, только иногда бомбил случайных фирмачей. А у Белфаста это дело было поставлено основательно.
Рубашку Wrangler Виля нашел на полу, в углу между стеной и шкафом. Сбившись тугим комком, она валялась в пыли под зеркалом.
Виля с детства не любил зеркала, особенно в сумраке пустых полутемных квартир. Он боялся воды, темноты и зеркал. Повзрослев, Виля кое-как сумел наладить отношения с зеркалами в блеске огней освещенных залов и студий, но от отражавших темноту стекол его и теперь отбрасывало прежде, чем он успевал хоть что-то сообразить. Потом он мог вернуться к чертову зеркалу и, пересилив себя, даже заглянуть в него. Но первая реакция оставалась неизменной.
Застегивая рубашку, Виля вышел из-за шкафа и, набравшись мужества, попытался разглядеть свое отражение. В сумраке спальни можно было различить только роскошные «боярские» усы, отчетливо темневшие на еще не загорелом лице.
В соседней комнате его ожидали руины давешнего стола. Хлеб черствел, зелень вяла, сморщенные огурцы грустили рядом с подсохшими помидорами. Большая муха тяжело и лениво поднялась с финского сервелата и, сделав круг над столом, опустилась на остатки селедки. Пустая бутылка из-под виски лежала на полу у балконной двери. Коньяка и конфет на столе не было: наверное, Белфаст и подружка Афродиты забрали их, уходя.
Афродита! Вот как зовут дремлющую за стеной в ожидании утреннего кофе обладательницу полного колена и обручального кольца.
Виля отрезал ломтик колбасы, затем еще один, подцепил вилкой оливку из салата и отправился на кухню.
В этот дом накануне вечером его привез Белфаст. В шесть часов, закончив работу, Виля закрыл фотоателье в парке Шевченко и по бульвару направился к Крещатику. Во всю мощь цвела сирень, затапливая и сам парк, и прилегающие дворы густым приторным ароматам. Девушки с черно-белых портретов, вывешенных в витрине ателье, едва уловимо улыбались Виле, друг другу и всем, кто этим ранним вечером оказался в парке. Из Ботанического сада уже тянуло свежестью, а сверху, над коричневыми крышами домов, освещенных уходящим на запад солнцем, перекрикивая друг друга, носились стрижи. Стоял май, такой, каким он бывает только в Киеве.
Виля шел легко. Впереди у него был вечер, который он пока не знал чем занять, а в переброшенной через плечо кожаной сумке лежала пара кроссовок Puma любимого женщинами тридцать шестого размера. В обед он обошел свои адреса: «Театральную» и «Интурист» на Ленина, «Ленинградскую» и «Украину» на бульваре Шевченко. В «Украине» ему повезло: дежурная по четвертому этажу Ниночка завела его в номер к бундесу, и тот отдал Виле эти кроссовки всего за полтинник. Белфаст, Харлей или Алабама забрали бы их у Вили за сотню не думая, но если не спешить и поискать покупателя самому, то новенькие красно-белые «пумы» можно было отдать и за сто семьдесят.
Выйдя к Бессарабке, Виля на минуту остановился, раздумывая, куда бы ему сегодня свернуть. Крещатик приветствовал его, вспыхнув солнцем в окнах верхних этажей. Решив, что это знак, Виля пробежал подземным переходом и оказался под каштанами нечетной стороны. Вслед ему оглядывались студентки младших курсов, тридцатилетние фам фаталь, которыми всегда были полны киевские улицы, и их ревнивые спутники, преждевременно полнеющие на жирных борщах и ленивых варениках. Вслед ему оглядывались все. Виля надел итальянские очки и вроде бы скрылся за их затемненными стеклами от невозможно любопытных взглядов. На самом же деле, и он это знал, его сходство с главным мушкетером Советского Союза после появления очков только достигло апогея.
– Боярский! Смотри, Боярский, – подгибались коленки у киевских красавиц. – Боже мой, точно же он!
Виля шел по асфальту Крещатика, как по красной ковровой дорожке за давно и безусловно заслуженным Оскаром, только что не останавливался улыбнуться камерам и дать автограф фанаткам, изнемогающим от восторга.
Но Крещатик – не только место медленных прогулок под руку с подружкой с протекающим вафельным стаканчиком сливочного пломбира за девятнадцать копеек. Для многих это станок, мартен, прокатный стан – одним словом, сеть точек. Первую точку – у выхода из перехода – Виля привычно проследовал без остановки, как троллейбус, уходящий в депо. Здесь все слишком хорошо просматривалось, простреливалось, было почти невозможно скрыться от лишних любопытных взглядов. Зато вторую – возле Мичигана – так просто он пройти уже не мог. Едва миновав «Болгарскую розу», Виля заметил впереди знакомую физиономию. Веня «Минус семь диоптрий» так доверчиво хлопал глазами, разглядывая стрижей в киевском небе, что случайный покупатель ни за что не заподозрил бы в этом долговязом инфантильном типе самого опытного фарцовщика на Кресте. Его брали десятки раз, но отчего-то всегда отпускали. Кто знает, может, и правда дело в том, как Веня беспомощно заглядывал в глаза и доверчиво шевелил ресницами, вплотную придвигая лысеющую голову вечного мальчика к форменной фуражке лейтенанта Житнего.
– Как вы сказали? Чем сегодня фарцую? Извините, я почти ничего не вижу. Я инвалид по зрению. У меня и справка есть, не желаете взглянуть?
– Да знаю я, знаю, – отмахивался Житний. – Видите вы плохо, гражданин Сокол, но слышите-то вы хорошо.
Веня Сокол и слышал, и видел превосходно, куда лучше лейтенанта Житнего. Шесть лет назад он ушел из Театра русской драмы, оставил сцену, выбрав карьеру фарцовщика, и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Со своей точки он мог смотреть на родной театр теперь каждый день, целый день, а если бы вдруг решил сходить на любой из спектаклей, то место в партере за проходом ему было бы обеспечено. Но Веня презирал киевский Театр русской драмы и место за проходом занимал только когда с гастролями приезжали москвичи или грузины. «Кавказский меловой круг» Брехта в постановке Стуруа он посмотрел ровно столько раз, сколько его давали тбилисские гастролеры.
Сегодня утром, у церкви, я сказал Георгию Абашвили, что люблю ясное небо. Но, пожалуй, еще больше я люблю гром среди ясного неба, да-да.
Грузинские актеры, повидавшие достаточно и в Тбилиси, и в Москве, надолго запомнили элегантного киевского красавца, подарившего на прощальном банкете всем мужчинам по бутылке ирландского виски, а дамам по комплекту французского белья. Причем белье удивительным образом пришлось впору всем без исключения.
Если бы на том банкете по какой-то невероятной, невозможной прихоти его милицейской судьбы вдруг оказался лейтенант Житний, то он просто не узнал бы полуслепого, всегда чуть пришептывающего Веню «Минус семь диоптрий».
Но пообщаться с Веней в этот день Виле суждено не было. Едва он только миновал магазин тканей и первые легкие капли фонтана, обустроенного заботливыми городскими властями перед Мичиганом, вспыхнув на солнце, тяжело висевшем над противоположным концом улицы Ленина, легли на поляризационные стекла итальянских очков Вили, как наперерез ему ринулся плотный лысый невысокий человек.
– Верной дорогой идете, товарищ! – театрально картавя, выкрикнул плотный лысый невысокий и обнял Вилю так, словно не видел его годы. – И дорога эта ведет вас ко мне.
– Здоров, Белфаст! – Виля подумал о кроссовках, лежащих в сумке, и решил ничего Белфасту о них пока не говорить.
– Надеюсь, ты сегодня свободен? – Белфаст взял Вилю под руку и повлек за собой. – Вечер только начался, и хотя звезды еще не появились на нашем южном небосклоне, они уже сулят нам романтическую ночь. Ты готов?
На самом деле заманчивого в предложении Белфаста было немного. Виля прекрасно знал, что его «романтическая ночь» – это всего лишь очередная пьянка с какими-то мерзкими бабами из Главного управления торговли Горисполкома. Или из Киевлегпищеснабсбыта. Или из Укрювелирторга. Или из Укринвалютторга. Словно специально для таких стареющих похотливых стерв были созданы бессчетные множества управлений, трестов и контор. По заиленным руслам этих чиновничьих каналов, проложенных среди полупустыни социалистического хозяйствования, слабеющими год от года, но все же не иссякающими до конца потоками шла продукция инофирм и качался отечественный дефицит. Пухлые руки чиновных дам мастерски открывали нужные шлюзы или опускали задвижки, отчего одни поля колосились и зеленели, а другие сохли и переставали давать урожай.
Как же были они неприступны в своих кабинетах, заставленных типовой лакированной мебелью с обязательным профилем вождя на одной стене и анфасом генсека на другой. Как презрительно смотрели на посетителя сквозь приопущенные ресницы. Как умели улыбаться, передавая едва заметным движением накрашенных губ тончайшие градусы чиновней спеси и брезгливого безразличия.
Но все их неприступные бастионы были смешны Белфасту. Он знал, чем их взять, знал, где отыскать незаметные на первый взгляд щели в их чиновничьих латах. И даже тех, у которых было уже все, тех, которые привыкли есть с руки одного только хозяина и яростно облаивали посторонних, не слушая намеков и соблазнительных посулов, он брал одним именем – Боярский. Боярский! И тут же в холодных глазах чиновных сук появлялся живой блеск. И в улыбках проступало не совсем еще доверчивое внимание, и уже какая-то готовность что-то слушать, и куда-то идти, встречаться где-то за стенами этого лакированного кабинета. Готовность снять латы и заменить их тем милым итальянским костюмчиком, который до сих пор не было повода надеть.
– Но неужели Миша в Киеве?..
– Да-да, всего два дня. Всего один вечер, а потом улетает. Пригласили на киностудию, обсуждают новый сценарий…
– Какая прелесть, Миша в Киеве! Так, может, он и споет?
– Миша – актер, творческая личность, не будем забывать об этом. Может быть, споет, но, может, и не станет…
Ах, эта непредсказуемость актеров, ах, эта дразнящая неопределенность, способная так приятно разнообразить унылую повседневность, в которой давно уже все расчерчено, расписано и установлено раз и навсегда: это можно, это нельзя, а это нельзя ни в коем случае. Спеть с Боярским, спеть вот эту: А-ап, и тигры у ног твоих сели… Спеть, положив ему руку на плечо, чувствуя запах его французского парфума – ну не «Шипром» же ему пахнуть, в самом деле…
Белфаст загадочно улыбался, ничего не обещал, и в этом необещании таилось куда больше, чем если бы он тут же посулил и песни из «Мушкетеров», и танцы с Мишей под «Арабески».
На самом деле все у них с Вилей было и давно оговорено, и опробовано не раз. Виля опаздывал, приходил на час-полтора позже назначенного времени, когда чиновные дамы, слегка истомленные ожиданием, успевали выпить по первой, закусить нежнейшим балыком, извлеченным Белфастом из недр УРСа Главречфлота, повторить и перейти к икорке.
Виля врывался, как свежий ветер, в их затхлые гостиные улучшенной планировки с шифоном и бархатом на окнах, плюшем и вельветом на диванах. Он белозубо смеялся, сходу, не успев присесть, выпивал, целовал всем ручки, рассказывал новый анекдот, выпивал еще раз и под водку, смеясь, наскоро пересказывал свежую питерскую сплетню. Потом извинялся, обнимал Белфаста и жаловался, что срочно вызывают в театр, что запись, что съемки и что такси в Борисполь все это время ждет его у подъезда. И правда, в окно видна была «Волга» с шашечками, и желтый огонек за лобовым стеклом в правом верхнем углу светился укоризненно и призывно.
– Ну хотя бы фото, Миша! Фото на память!
И Миша, то есть Виля, не отказывал. Прежде чем умчаться в свои прекрасные заоблачные дали, он послушно усаживался на плюшевый диван в самом центре перезрелого цветника в итальянских костюмчиках. Виля белозубо улыбался, деликатно прижимая к себе свисающие салом бока соседок, чувствуя на шее их мягкие ласковые пальцы с холодными бриллиантами колец, а на щеках их дыхание, отдающее водкой, балыком и следами неудачной работы отечественных стоматологов.
– А спеть, Миша! Спеть на прощанье, а? Вот эту: «А-ап!..» – набирались нахальства и переходили черту дозволенного дамы. – Вот и гитара есть!
И Виля улыбался им ласково, но и слегка укоризненно, дескать, не забывайте, милые, кто с вами здесь и куда зовут его фанфары славы. Не было в его улыбке грубого чванства или резкой заносчивости, которую собравшиеся распознали бы мгновенно. Уж в этом-то они смыслили как ни в чем другом. Нет, одно лишь сожаление о невозможности оставаться дольше в этой чудной компании и легкая усталость от того, что он вынужден вести такую поспешную и безостановочную жизнь.
Виля бы и спел, если б мог. Спел бы обязательно, Белфаст нашел бы резоны и аргументы. Но Вилины таланты распространялись только на его внешние качества. Музыкальным слухом усатый фотограф из парка Шевченко не обладал.
Миша прощался, такси срывалось с места и уносилось в ночь, а Белфаст оставался с потекшими расслабленными дамами, бесконечно благодарными ему за эти минуты редкого счастья. И то, что Миша не спел им, играло только на руку Белфасту. Значит, есть им чего еще хотеть от жизни, значит, споет для них Боярский в следующий раз. Обязательно споет, никуда не денется. И «А-ап», и «Городские цветы». Значит, еще порадуются они на своем веку и, значит, пригодится им Белфаст. Этот полезный человек с таким замечательным другом.
Вот только друга эти вечерние маскарады не радовали совсем. Понятно же, что однажды обман раскроется, и что тогда? Нет, они не мошенники, и денег у доверчивых статс-дам не вымогали. Доказать присутствие корыстных мотивов в их поведении не смог бы никто. Да у Вили их и в самом деле не было. Но всякий раз, представляя возможную месть обманутых женщин, Виля замирал в ужасе: их невинные забавы могли кончиться очень неприятно. И ведь Белафсту – что? Он все равно отмажется. Скажет: я не знал, меня обманул этот усатый проходимец. А Виле придется потом выгребать в одиночку.
– Ты знаешь, старик, – Виля аккуратно высвободил руку и сел на скамейку под каштаном. Белфаст устроился рядом, – меня наши выступления перед подшефными колхозами уже утомили. Давай заканчивать со всей этой боярщиной. Побудем немного самими собой.
– Виля, я понимаю тебя, как никто, – Белфаст по-отцовски положил ему руку на плечо. – Ты знаешь, я редко прошу тебя о чем-то для себя. Только для дела. Но сегодня – совсем другой случай. Может быть, впервые это нужно мне лично. А? Как другу. Я уже сказал им, что со мной будет Боярский. Не поверили, сучки. Ну, мы им покажем…
– Кому им-то? – вздохнул Виля, понимая уже, что и на этот раз ему не отвертеться.
– А с ней подруга будет. Ну и пусть, подруга. Так даже веселее.
И Виля согласился.
Они отправились на Бессарабку, чтобы к бутылке виски, сервелату и банке черной икры, уже лежавшим в кейсе Белфаста, добавить селедочки и овощей, способных украсить вечер двух деловых людей свободных взглядов и профессий. Виля не успел прицениться к крымским абрикосам, как Белфаст, махнув кому-то, взял его крепко за руку и завел в кабинет санврача. Туда же, быстро перебирая короткими ногами, невысокий усатый человек в белом переднике немедленно доставил ананас и ветку бананов. Белфаст брезгливо двумя пальцами пощупал фрукты и едва заметно кивнул. Затем еще один, в точности такой же усатый и коротконогий, принес Белфасту бутылку «Наполеона», «Крымского игристого» и коробку «Вечернего Киева».
Десять минут спустя «восьмерка» Белфаста уже сворачивала с улицы Кирова на Петровскую аллею, чтобы потом, промчавшись по мосту Метро, миновав Гидропарк и Левобережную, свернуть на Комсомольский массив и остановиться у блочной двенадцатиэтажки, выстроенной полукругом.
– Так мы почти домой ко мне приехали, – огляделся Виля, выйдя из машины. – Вот парк «Победа», я здесь когда-то фарцевал у Алабамы, там метро «Дарница». До моего вигвама отсюда двадцать минут пешком или пять минут на колесах.
И двести четвертая школа рядом. Я семь лет назад закончил двести четвертую школу, Белфаст. И с тех пор, говорят, мало изменился. Только усов я тогда не носил. Меня на массиве каждая шалава знает. Еще раз говорю, мне не стоит тут включать Боярского.
– Виля, не кипишуй, – похлопал его по плечу Белфаст и, взяв в охапку покупки, направился к двери. – Пошли скорей, девушки стынут. А страхи свои забудь. Она из Литвы. Зовут Афродита. Не знает здесь никого, и хотя, может быть, слегка сомневается, но как все бабы верит в чудо и ждет в гости Боярского. Так давай сотворим ей чудо, если это так просто.
Белфаст оказался прав. Как, впрочем, и всегда. Легкое сомнение, кое-как скрывавшееся за первыми вежливыми улыбками Афродиты и старшей ее подруги Лены, рассеялось мгновенно, едва лишь на стол в гостиной легли бананы и ананас, а к «Наполеону» присоединились бутылка скотча, продукт финских колбасников и черная икра. От дней сотворения этого стола на нем еще не лежало столько сказочной роскоши одновременно. И если бы осторожным девушкам вдруг не хватило абсолютного внешнего сходства гостя с любимым актером, то его дары говорили и за себя, и за него. Кто же еще мог явить все это в киевской малометражке, на самой окраине города, возле леса?
– Девочки! – решительно скомандовал Белфаст. – Режем бутерброды, селедочку, достаем припрятанные салатики. Хоть мы гости почти нежданные, но я уверен, что пара салатиков у вас заготовлена. У Миши время есть, а уж для вас точно есть, но его мало. На десять вечера уже заказано такси в Борисполь, а завтра заслуженного артиста России ждут в Театре Ленсовета. Кроме того, артист голоден. Он целый день провел среди чиновных рыл на киностудии Довженко. Так что скорее! Время работает против нас, но за нас – что? За нас любовь!
Белфаст был человеком умным и успешным, однако грани между уместным пафосом и неуместной пошлостью часто не чувствовал. Возможно, именно потому, что не отвлекался на эти пустяки, Белфаст и был успешным человеком.
– Дитка, – выскочила на кухню после речи Белфаста подруга Афродиты Лена, и ее ошеломленные глаза едва умещались на круглом украинском лице, – это настоящий Боярский! А я, дура, не верила.
– Ага, – растерянно кивнула головой Афродита, не переставая быстро крошить огурцы, – и я сомневалась. – Достань вареные яйца из холодильника. И майонез там в баночке.
Доверив дамам сервировку, Виля с Белфастом вышли на балкон. Внизу зеленел тихий киевский двор, еще не выгоревший, не выцветший до желтизны под раскаленным летним солнцем. В тени шестнадцатиэтажных башен мирно поспевали абрикосы и вишни, кричали о чем-то дети, дворники поливали асфальт из шлангов.
– Как они тебе? – спросил Белфаст, доставая пачку московской «Явы».
– Афродита, конечно, хороша, – улыбнулся Виля, разглядывая знакомый двор. – А Лена просто красавица, хотя ей, понятно, уже не двадцать. Но я тебе скажу, таких, как она, я всегда боялся. И муж у нее наверняка висит в шкафу на вешалке. Она его снимает, когда захочет, а потом отправляет назад, в нафталин. Хотя как раз за такими, как она, многие бегают.
– Ладно, – хохотнул Белфаст, – ты просто поработай два часика, а дальше я сам. И я твой должник, Вилька.
– Да ладно, – отмахнулся Виля.
Все бы в этот вечер могло пойти по привычной, месяцами отработанной программе, если бы не неофициальный статус встречи. Не чувствуя обычной ответственности, Виля расслабился и после двух программных рюмок виски позволил себе третью, а под нежную селедку с удивительным салатом, приготовленным ласковыми руками Афродиты, еще и четвертую. И Афродита, и подруга ее Лена (которая тоже, как оказалось, не киевлянка, а приехала из Донецкой области несколько лет назад и жила тут же, неподалеку с мамой, дочкой и мужем), как-то так уютно устроились по обе стороны от Вили, что его мушкетерские руки сами крепко обняли обеих, не отпуская ни ту, ни другую к оставшемуся в одиночестве Белфасту. И если Лену Виля был готов в любой момент отпустить к загрустившему приятелю, но та сама не шла, то Диту, прижавшуюся к нему полным теплым бедром и так тонко пахнувшую нежной сиренью рижской фабрики «Дзинтарс», Виля отпускать уже никуда не собирался. Он быстро забыл, что приехали они сюда потому, что Белфаст хотел развить недавнее знакомство с Дитой. Единственное, что беспокоило Вилю, – как бы не забыть, что он все еще Боярский.
Белфаст, хоть и злился слегка на Вильку, но тонкость ситуации понимал и ждал десяти часов. Белфаст терпеливо ждал появления такси, в котором Виля уедет не в Борисполь, разумеется, а к себе домой или куда он там захочет, оставив его наедине с девушками. Вот тогда и придет его время. Время настоящего хозяина этого праздника.
Кто же знал, что загусаривший, замушкетеривший и захмелевший уже Виля слышать ничего не пожелает о такси, когда оно наконец появится, и уезжать откажется наотрез.
– Как мне хорошо с вами, девчонки, – довольно жмурился Виля, допивая виски и переходя к коньяку «Наполеон», – не поеду я никуда. Ну зачем мне все эти съемки, записи, Ленсоветы, когда у меня есть вы, такая чудесная компания.
– А-а! – подпрыгнула Лена так, словно только что выиграла «Москвич». – Миша остается!
Афродита отреагировала не так бурно – видно, сказывался спокойный литовский темперамент, но благодарное пожатие руки говорило Виле о том, как она приняла его решение.
– Миша, да ты что! – ошалело уставился Белфаст на Вилю. – У тебя самолет! Ты забыл? Са-мо-лет! В Ле-нин-град! Давай быстренько! А то тебя разжалуют – оглянуться не успеешь. Был заслуженным, а станешь застуженным, – вспомнил он старую шутку и поднялся, чтобы помочь Виле выйти из-за стола, дойти до лифта и раствориться в теплой киевской ночи.
– Ничего себе! – возмутилась Лена, встав на пути Белфаста. – Хорош людям праздник ломать! И не надо тут гнать, никто Мишу не разжалует. Если б он был капитаном, как некоторые, – подмигнула Лена Дите, – то еще могли бы. А он мушкетер! Мушкетера не разжалуют.
– Его могут только убить, – неожиданно согласился с ней Белфаст. Работа научила его принимать легкие удары судьбы и уворачиваться от суровых. – Значит, Миша остается! Отлично! Тогда споем. Спой, Миша!
– Вот это другое дело, – поддержала Белфаста Лена. – Спой нам Миша вот эту: А-ап… И тигры у ног твоих…
– Есть в этом доме гитара? – продолжал свою подрывную работу Белфаст. Такси еще стояло под подъездом, и он рассчитывал, что если сейчас надавит на Вилю, тот все же сбежит, оставив за ним поле неожиданного сражения.
Но хоть гитары не нашлось, Виля неожиданно принял брошенный вызов.
– Споем, – решительно поднялся он с дивана, но тут же качнулся, и если бы не заботливо подставленное плечо Диты, Виля вполне мог оказаться на полу. – Споем, – повторил он, тяжело опираясь на Афродиту, – только тихо споем. Тихонечко. Вот это: Па-ад кры-лом са-ма-ле-та…
– Народный артист России устал, – грустно определила Лена. – Какой тут Ленинград? Ему дальше этого дивана уже нельзя.
– Заслуженный, – ревниво поправил Белфаст и подумал, что этот вечер он Вильке запомнит надолго. – Ну что ж, Лена, тогда я отпущу такси, а тебя могу подвезти домой. Время позднее, а у меня тут машина.
– Да мне и пешком недалеко, – пожала плечами Лена, но отказываться от предложения не стала.
Вилю отвели в соседнюю комнату и уложили. Какое-то время из гостиной доносились голоса, кто-то звонил по телефону. Потом послышался шум отъезжающего лифта и все смолкло. Подождав еще минуту, Виля приоткрыл дверь. Свет в гостиной был выключен, но на кухне лилась вода. Это мыла посуду Дита.
Виля тихо подошел к ней сзади, обнял и, легко щекоча усами, сказал на ухо:
– Может, и не народный, но пьяного сыграть могу неплохо, правда же?
– Неплохо, – вздрогнула от неожиданности, но после тихо рассмеялась Афродита, и Виля наконец различил в ее интонациях тот легкий литовский акцент, которого ему не хватало весь этот вечер. Не домыв посуду, Афродита выключила воду и повернулась к Виле. – Но и не очень хорошо. Я ведь догадалась.
Прижав ее к себе сильнее, Виля хотел спросить, не догадалась ли она еще о чем-то, но решил не искушать лишний раз судьбу. Сегодня судьба была к нему ласкова, и этого пока хватало.
2
Поднявшись над плоской крышей еще не достроенного «Детского мира», солнце заливало кухню ярким светом, беспощадно подтверждая догадку Вили, что обитатели квартиры не любят свое жилье, да и вообще мало радуются жизни, то ли не умея, то ли не имея возможности. А между тем, весь его опыт говорил уверенно и в полный голос, что Афродита, ожидавшая сейчас в спальне в легкой полудреме его и чашку утреннего кофе, готова на многое, лишь бы наполнить жизнь радостью, наполнить ее до краев, чтобы плескаться в ней, как в бассейне под ласковым летним солнцем, забыв обо всем, и не бояться расплескать. И вряд ли она сильно огорчится, узнав, что ее новый знакомый вовсе не заслуженный артист РСФСР, а обычный фотограф из ателье в парке Шевченко. Что ей Боярский, по большому счету? Она встречалась бы с ним, если наивно предположить, что вообще встречалась бы еще когда-нибудь, в лучшем случае раз в полгода. А Виля здесь, всегда рядом, всегда свободен. Если, конечно, она свободна для встреч с ним.
Виля поставил на огонь джезву и окинул взглядом кухню в поисках сахара. Сахара не было. Виля порылся в ящиках, открыл сперва один настенный пенал над мойкой, потом второй, но все безрезультатно. В третьем, висевшем на противоположной стене и уже явно предназначенном не для продуктов, но все же проверенном дотошным Вилей, сахара не было тоже. Зато он там нашел милицейскую фуражку.
«Так вот что, наша Дита – мент», – рассмеялся сперва Виля, и эта мысль ничуть его не огорчила. Была в этом какая-то острота и просматривалась легкая игра судьбы. Женщин с погонами у Вили еще не было, эта первая. Однако следом пришла другая мысль, отрезвляющая. Виля взял фуражку в руки и понял, что в первом своем предположении ошибся. У Диты не могло быть фуражки пятьдесят восьмого размера. Эту фуражку носил мужчина, не очень аккуратный, если судить по тому, как сильно была засалена ткань на обруче, а если присмотреться к жирному пятну в том месте, где фуражки касалась макушка, еще и лысоватый. Обручальное кольцо, милицейская форма в доме… Все это требовало осторожности и размышлений.
Неухоженная квартира, в которую вчера привез его Белфаст, была очень похожа на квартиру мента. Не мента-сибарита, сытого гаишника или подполковника, оседлавшего спокойную синекуру в республиканском управлении внутренних дел, но мента-сыскаря, фанатика, проводящего на работе по тридцать часов в сутки, даже во сне вычерчивающего криминальные схемы, не выбирающегося из командировок и вспоминающего о доме, когда уборщица приходит запирать его кабинет. А о жене – когда он переступает порог своего дома. Но даже с таким ментом, и, скорее, именно с таким, Виля не хотел бы встретиться на этой пустынной кухне с мойкой, предательски полной немытой посуды.
Поэтому, разлив горький кофе без сахара по чашкам, Виля решил изменить планы на ближайший час. Надо было немедленно мотать из этой квартиры. Под любым предлогом. Брать у Диты телефон, обещать позвонить, когда будет в Киеве, и мотать сейчас же…
Но едва Виля зашел в спальню, как тут же едва не отказался от этой разумной и единственно верной в его положении идеи – так соблазнительна была Афродита, уже проснувшаяся, но еще нежившаяся в кровати в ожидании его возвращения. Одеяло вроде бы случайно, хотя, конечно же, совсем не случайно, укрывало Диту так, что Виля тут же вспомнил, как ласково ложилась ему в руки этой ночью грудь Афродиты, как нежно касались его ног ее бедра и как требовательны были движения ее губ и языка.
– Кофе, – довольно потянулась Афродита, поворачиваясь на бок и на недолгое мгновение выскальзывая из-под всех покровов. Потом она села на кровати, закутавшись в одеяло как-то так, что оно вроде бы и прикрывало ее чуть полноватое тело, но, в то же время, почти ничего и не скрывало. И взяла наконец чашку из рук Вили, стоявшего все это время перед ней, не зная, ни куда деть руки, ни куда поставить чашки.
Выпив залпом слегка уже остывший кофе, Виля наконец нашел в себе силы отказаться от всего, что так красноречиво, хоть и не говоря ни слова, только что предлагала ему Дита. Отведя взгляд от ее огорченного личика, он сказал, что ему нужно мчаться, что, не улетев вечерним самолетом, он просто обязан лететь утренним, а он опаздывает уже и на этот рейс, что при первой же возможности позвонит, если Дита оставит ему телефон, и что, как только он будет в Киеве, они увидятся, и что Киев для него теперь – это Дита, и он обязательно ей споет при встрече. И «А-ап…», и «Городские цветы», и все, что она захочет. Виле пришлось говорить коротко и быстро, иначе Дита, будь она чуть предприимчивей, одним долгим поцелуем могла заставить его и замолчать, и изменить это твердое решение.
Она написала ему номер телефона на листке, вырванном из подвернувшейся под руку записной книжки. Набросив платье, в котором была накануне, проводила до двери. Легко поцеловала на прощанье, закрыла дверь, долго смотрела в глазок, как он ждет лифт, и удивлялась: надо же, на нашей лестничной площадке стоит Боярский и ждет наш лифт. Буквально так же, как все мы ждем его каждое утро. Обо всем, что было до этого, Афродита пока не была готова даже думать.
Наконец дверь перед Вилей раздвинулась, и он махнул Афродите на прощанье, словно знал, что все это время она смотрела в глазок.
На первом этаже, выходя из лифта, Виля столкнулся с крупным высоким кудрявым, но лысеющим блондином, который показался ему смутно знакомым. Однако Виля так и не смог вспомнить, где и когда его видел. А Йонас Бутенас, старший оперуполномоченный БХСС, вернувшийся из командировки в Вильнюс на двое суток раньше расчетного времени, Вилю вспомнил. Не сразу, но вспомнил, потому что фотограф был в разработке у его отдела, как и все спекулянты, контактирующие с иностранцами. И не то чтобы капитан Бутенас сильно удивился, но все же был озадачен этой встречей.
Глава вторая
Волшебная сила дизайна
1
Воздух был пропитан запахами близкого леса, мокрого, только что вымытого, асфальта, запахом набирающего силу майского утра. Если бы Пеликан решил, что этот день ему, как обычно, нужно провести в университете, и поехал на трамвае в сторону Ленинградской площади, чтобы сесть там на четырнадцатый автобус, то через три-четыре остановки он привычно увидел бы, как над трубами и градирнями заводов гигантской промзоны на северо-востоке города поднимается солнце. В эти утренние часы контуры солнца в потоках горячих выбросов, рвущихся к небу, всегда казались размытыми и неуверенными.
Но здесь, на Комсомольском, близкое соседство большой химии почти не ощущалось. И только когда восточный ветер становился особенно настойчив, характерный режущий запах сернистого ангидрида смешивался с ароматами цветущей сирени и акации. От него чуть заметно белели бордовые розы, высаженные под окнами пятиэтажных жилищ их хозяйственными обитателями, текли слезы у детей в песочницах и надсаднее обычного хрипели в кашле старики, дремавшие с газетами поблизости.
Пеликану следовало ехать в университет хотя бы потому, что в расписании, уже неделю висевшем на доске объявлений возле деканата, именно на сегодня для его группы был назначен зачет по матфизике. Но вместо этого он пошел в парк.
И дело тут, конечно, не в матфизике. У добрейшего профессора Липатова он получил бы нужную запись в зачетке быстро и без особых усилий. Да он и получит ее. Завтра, послезавтра, на следующей неделе. Когда угодно! Но только не сегодня. Сегодня – не до Липатова, потому что сегодня день рождения Ирки! А у него до сих пор для нее нет подарка. И денег на подарок тоже нет!
Поэтому, выйдя из дома, Пеликан повернул не к трамвайной остановке, а в сторону парка. Он прошел дворами мимо закрытого еще пивного ресторана «Казбек» и вышел на улицу Бойченко. Там, возле гастронома, на врытой в землю длинной металлической трубе, как голуби по краям балкона, уже рассаживались личности, томившиеся глухим похмельем. До одиннадцати часов было далеко, но в компании таких же мучеников, понимавших явное значение каждого вздоха и тайный смысл каждой гримасы ближнего, они чувствовали себя лучше, чем в обществе сварливых жен, включивших неизменные свои электропилы заранее, не дожидаясь даже пробуждения жертв оковитой.
Временами в гастроном засылался гонец то к Любке, то к Кате, чтобы льстивыми намеками и лживыми посулами выманить у богинь консервированной салаки и повелительниц шоколадного «Каштана» хоть одну пляшку на всех. А там уже и до одиннадцати можно кое-как дотерпеть. Но Любка и Катя оставались непреклонны, высокомерны, как египетские принцессы, и беспощадны, как амазонки Геродота. Один за другим гонцы возвращались, разочарованно разводя руками и зло сплевывая в сторону поломанных автоматов с газировкой.
Дух народного недовольства и свободомыслия пытался взмыть у стен гастронома, но пульсирующая боль в висках и лобных долях собравшихся не давала ему набрать высоту, сбивая на взлете.
– Суки, – злился народ, имея в виду Любку и Катю, а также директора гастронома Соломона Израилевича, которого старожилы помнили стройным застенчивым юношей в круглых очках и двубортном костюме на два размера больше, а потому и теперь, двадцать лет спустя, привычно звали Семой.
– Долбанные суки, – продолжал негодовать народ, адресуясь на этот раз к руководству Днепровского райгастрономторга и всей советской торговой системе, не позволяющей простому человеку опохмелиться, когда ему это нужно, а не дожидаться в муках дозволенных триста шестьдесят первым постановлением Совмина СССР одиннадцати часов утра. Будто они сами там, в Сов мине, тоже похмеляются после одиннадцати, а не когда организм потребует.
– Сраное мудачье, – заключал народ уже по адресу всего Совмина с его Президиумом и Центрального Комитета партии с его ленинским Политбюро.
Высказав все, народ бессильно замирал на холодной железной трубе, подставляя лица солнцу, медленно поднимавшемуся между панельными стенами девятиэтажек.
Миновав этот лазарет, Пеликан забежал в гастроном выпить кофе. Там уже топталась, перекатывалась по залу пестрыми кольцами, взвизгивала детьми и истеричными мамашами очередь, ожидавшая машину с базы.
Ожидание машины – это ритуал, акт коллективного шаманства вроде вызова дождя или спасения колхозного поля от нашествия саранчи. Машину нужно выпросить, выговорить у высших сил, непрестанно объясняя соседкам по очереди и – опосредованно – божествам советской торговли, как нужны, и именно сегодня, матери семейства свиные ребрышки или голландский сыр, творог, молоко и яйца. Но просить что попало нельзя, если хозяйки просят все без разбора впрок, они рискуют не получить ничего. Надо через верных людей узнать, с чем же должна прийти машина, и именно об этом говорить, именно этот ассортимент выпрашивать у судьбы, прокладывая водителю безопасный путь через дворы, минуя другие магазины, минуя явные и тайные ловушки, поджидающие ценный груз.
Этим утром обещали докторскую колбасу, сардельки «Молочные», обещали даже сливочное масло по тридцать четыре копейки, но когда будет машина и будет ли она сегодня вообще, хозяйки не знали, а Любка с Катей на все вопросы пожимали плечами. Любка – зло и нервно, Катя – величественно.
– Привет, Гантеля. Свари мне двойную половинку за двадцать восемь, – попросил Пеликан Любку, хмуро глядевшую мимо него.
– Сначала тебе двойную половинку сделай, а потом бутылку казёнки попросишь? Скажешь, запить нечем? – суровым тоном человека, все знающего наперед и не поддающегося на двадцативосьмикопеечные провокации, уверенно предположила Любка Гантеля. Первые восемь лет они учились с Пеликаном в одном классе. Потом Пеликан перешел в физмат школу, а Любка в торговый техникум. Школа не дала ей ничего, кроме клички – Гантеля.
– Что ты, Люба, с утра на людей бросаешься? – вышла из подсобки вторая продавщица, Катя, и мягко отодвинула Гантелю. Затем она облокотилась на прилавок и широко и ласково улыбнулась, демонстрируя Пеликану роскошное декольте. – Это же Пеликан. Какой тебе кофе, Пеликан?
– Кать, мне, пожалуйста, по-ирландски, с виски и со сливками.
– Ты ж моя птица, – Катина улыбка стала только шире. – Откуда у нас кофе по-ирландски? Ты ошибся гастрономом.
Пеликан оглянулся. Очередь росла на глазах, шумно вздыхая у пустых прилавков. Уборщица лениво гоняла шваброй коричневую лужу по полу из мраморной крошки. В окно заглядывали тоскливые физиономии алкоголиков.
– Наверное, я страной ошибся, Катя. Давай обычную двойную половинку.
Катя долго варила кофе и, улыбаясь, глядела в глаза Пеликану. Потом, не считая, бросила его копейки в кассу, протянула чашку – красную, в крупный белый горошек – и еще раз ласково улыбнулась. – Аккуратно, горячий! Кстати, мамашу Иркину вчера опять посреди ночи хахаль привез. На новенькой восьмерке. Где она только находит таких? Хоть бы одного мне подогнала.
– А ты ее попроси. Вместо того чтоб вести журнал учета: кто, куда, кого и во сколько привез.
Кате было двадцать восемь, и она жила с Иркой через стенку – на одной площадке. Полгода назад Катя выставила мужа. С визгом, с мордобоем, с вышвыриванием на лестницу его дубленки, костюма и телевизора. Телевизор стал последним и самым весомым аргументом. Муж понял, что раз уж дошло до телевизора, то ему здесь точно не рады, и больше не появлялся. С тех пор Катя присматривала нового мужика. На Пеликана у нее планов не было. Во-вторых, Катя знала, что он влюблен в Ирку, но на это она могла и наплевать, если бы Пеликан ей подходил. Только Пеликан Кате не подходил. Потому что молодой еще и настоящие деньги приносить начнет лет через десять, не раньше. Это во-первых. А у Кати дочке восемь месяцев, и жизнь проходит как в кино – стороной. На всякий случай Катя вела общение с Пеликаном полунамеками и манящими взглядами, мало ли как потом повернется. Но в этот непредвиденный поворот Катя и сама не очень верила.
– Какой журнал, Пеликан? Утром опять был скандал на весь дом. Федорсаныч сперва из классики декламировал, а потом в ванной рыдал.
– Где он уже только не рыдал, Катя: на кухне, в ванной, на балконе, во дворе на лавочке, в парке на колесе. Для него весь мир театр, а он один в нем – актер-трагик. Остальные – зрители. Кстати, ты вечером будешь в парке? У Ирки день рожденья сегодня.
– Нехорошо так шутить над одинокой женщиной. Поздно мне уже с вашей компанией мухобродить на болотах. Мне бы кого-нибудь с машиной и с доставкой на дом. А Ирку я еще утром поздравила. Всю теплую, сонную, какой ты хотел бы ее съесть, но не можешь.
– Я же не дракон, Катя, и не питаюсь девственницами из спальных районов. Зато от твоего кофе, похоже, начинаю просыпаться. Ладно, увидимся сегодня.
– Непохоже, – заметила Катя вслед Пеликану, выходившему из гастронома. – Если б он начал просыпаться, то увидел бы, что мамаша у Ирки – шалава редкая. А Ирка в нее пошла. И всем им она еще покажет. Уже показывает…
– Ирка, Ирка, в жопе дырка, – безразлично заметила на это Гантеля и ушла в подсобку.
2
Пока Пеликан пил кофе, у входа в гастроном как-то вдруг, сама собой возникла давка. Хозяйки, уже занявшие очередь, решили, что должны, конечно же, ждать машину, да и детям следует подышать утренним воздухом на крыльце магазина. Далеко отходить мамаши не хотели, положение дел в очереди требовало зоркого присмотра, однако и упускать из виду подрастающее поколение они не могли. Между тем, подходили новые дамы, и некоторые тоже были с детьми. Они стремились проникнуть в магазин поскорее, но им мешали старожилы очереди, и тем, что топтались на крыльце, затрудняя доступ к неширокой стеклянной двери, и просто из любви к ближнему. В давке начали плакать дети, к ним тут же присоединились дети, в давке не участвовавшие, но страстно к этому стремившиеся, и женщины сцепились в яростной сваре. Похмельные страдальцы на трубе попытались утихомирить их выразительным отрезвляющим матом. Но амазонки немедленно объединились против алкоголиков и выступили в защиту нравственности несовершеннолетних. Пеликан понял, что утро в гастрономе закончилось, начался рабочий день. Он кое-как протиснулся между плотными рядами сцепившихся в словесном поединке, прорвался к автоматам с газировкой и оттуда уже на свободное пространство улицы Бойченко.
Его настроение, и без того серое и сумрачное, после разговора с Катей и Гантелей испортилось окончательно. Вроде бы ничего особенного сказано не было, но дальше мириться с мыслью, что у Ирки день рожденья, а у него нет, не то что подарка, но и денег на подарок, Пеликану уже не удавалось. Ни денег, ни подарка. Что может быть хуже?..
3
Улица Бойченко давно уже не ключевая магистраль Комсомольского массива. Но лет пятнадцать назад, когда на Малышко только завозили фундаментные блоки для будущих универмагов и универсамов, а по обочинам Дарницкого бульвара можно было собирать маслята, Бойченко была главной в жизни Пеликана. По ней он возвращался домой из школы. Тогда прямая, без затей улица сплеталась в удивительные узлы, выводя Пеликана то к Волчьей горе, где, подчиняясь реактивной силе, взлетали в небо бутылки с карбидом; то к экспериментальному отрезку трамвайных путей возле кинотеатра «Ровесник», где на рельсы под колеса выкладывались и взрывались малокалиберные гильзы, набитые серой, счищенной со спичечных головок.
Эта легкая жизнь городского мелководья могла длиться все десять школьных лет, но после восьмого класса Пеликан с другом Багилой сдали экзамены и перешли в физмат школу. Таким было его первое самостоятельное решение, и больше других оно удивило родителей.
Пеликаны в трех поколениях изучали историю сами и учили ей студентов, проводя в экспедициях каждое лето. В экспедициях происходило все интересное, а киевская жизнь отдавалась обработке данных и подготовке к новым полевым сезонам. В раскопе под Черниговом, на берегу Десны, в средине шестидесятых познакомились родители Пеликана, и всем было понятно, чем сам он станет заниматься, когда вырастет.
Пеликан все детство охотно подтверждал предположения друзей семьи – да, он хочет быть археологом. Домашняя библиотека в основном состояла из книг по истории, и, не слишком разбирая, детская попала в руки книжка или не очень, он читал все подряд.
На полках плечом к плечу стояли работы прадеда, приват-доцента Пеликана, и деда, красного профессора Пеликана. Они занимались одним периодом – Хмельниччиной, но, как вдруг понял школьник Пеликан, стояли на враждебных позициях и яростно громили друг друга на страницах журналов и монографий. Впрочем, ни приват-доценту, ни профессору впрок это не пошло: одного посадили в тридцать четвертом, второго расстреляли в тридцать восьмом.
Отец Пеликана выбрал более отдаленный и спокойный период – княжескую эпоху. Но и в этой тихой заводи, кормившей не одну сотню ученых карасей, время от времени била хвостом и разевала зубастую пасть очередная партийная щука, казавшаяся испуганным карасям средних размеров крокодилом. И тогда серели лица родителей и на кухне, за закрытой дверью, обсуждались сложные тактические схемы отступлений и уступок. Отступить нужно было так, чтобы потом иметь возможность вернуться, и уступать что-то не важное, не главное, а главное пытаться завуалировать и все-таки сохранить. Если, конечно, получится. А если не получится, не удастся сберечь букву, то сохранить хотя бы дух правды. И эта трактовка седой старины – заслуга историков нашей страны!
В спокойные времена родители Пеликана просто шутили над странной особенностью бытования отечественной исторической науки, и Пеликан с ними вместе смеялся и над тонкими, понятными лишь посвященным шутками, и над любимой песенкой Галича. Но когда Багила сказал ему, что решил поступать в физмат школу и уходит из вечно сонной двести четвертой, Пеликан решил идти с ним вместе. Работа должна давать результат, точный и окончательный. Заниматься историей он больше не хотел.
4
Напротив магазина «Светлячок» Пеликан налетел на серую фигуру, которая неожиданно резво выползла из кустов на асфальт тротуара.
– Коля, Коля, Коля, – быстро забормотала фигура и, вжав лысую шишковатую голову в плечи, испуганно глянула на Пеликана. – Пеликан!
– Коля, – узнал Пеликан местного дурака. – Что ты делал в кустах?
– Цветы, – Коля быстро поднялся на ноги и улыбнулся счастливо. Рукава его старого пиджака и вздувшиеся на коленях темно-сине штаны были вымазаны черноземом. В грязных руках Коля сжимал только что сорванный, но уже измочаленный тюльпан.
Коля любил цветы. Даже зимой он всегда таскал с собой какое-нибудь безжизненное растение, мертвенно бледневшее в его иссиня-красных коченеющих руках.
– Идем отсюда, а то за эту ботанику тебе сейчас по голове надают.
– Идем, – тут же согласился Коля. – Не хочу по голове. Не надо.
Вместе они вышли на улицу Юности и, оставив за спиной двести четвертую школу, миновав ресторан «Олимпиада-80» с мозаикой, изображающей четырех босоногих мускулистых греков, устремленных к чаше олимпийского огня, направились к парку. Высокий худой светло-русый Пеликан и маленький ссохшийся Коля с голым шишковатым черепом.
Коля шел быстрой птичьей походкой и всю дорогу беспокойно оглядывался. Большую часть жизни он проводил в больнице, а когда его ненадолго отпускали, ездил на поездах метро. Он заходил в вагон молча, зажав в одной руке цветок, в другой – грязную картонку, на которой расползающимися буквами был написано: «привет я тебя видел меня зовут коля». Тихо улыбаясь, ни на кого не глядя, не говоря ни слова, Коля проходил от первой двери вагона до последней, от первого вагона поезда до последнего. Он никогда не просил денег и не понимал, почему ему подают.
Пеликан знал Колю с детства, помнил его давно и уже не мог сказать, когда впервые увидел его худую сутулую фигуру. В младших классах двести четвертой школы считалось, что встреча с Колей до уроков – это верная двойка. Что будет, если встретить его после уроков, точно сказать не мог никто.
Коля почти не изменился с тех пор, только на вечно лысой его голове стало больше шишек и шрамов. Должно быть, Колю били в больнице, потому что на Комсомольском его знали все и не обижали. Всего раз Пеликан видел, как стая пришлых малолеток загнала Колю в озеро за парком и забрасывала его камнями и грязью. Дело было прошлым летом, Пеликан с Багилой собирались ехать на велосипедах загорать на Десенку. Они тогда разогнали Колиных обидчиков, а его самого кое-как вытащили из озера и, пожертвовав Десенкой, дождались, пока он высохнет. С тех пор Коля запомнил Пеликана и как-то по-своему радовался, встречая его.
Так они прошли вдвоем весь Дарницкий бульвар до улицы Жмаченко и там вдруг увидели Вилю, идущего со стороны гостиницы «Братислава». Виля шагал быстро, высоко подняв голову. Он глядел поверх Коли и Пеликана, поверх невысоких сосен, отделявших парк и остатки старого болота от жилых кварталов Комсомольского массива.
– Усатый, – тихо сказал Коля и осторожно встал так, что Пеликан оказался между ним и Вилей, приближавшимся широким уверенным шагом. Видно, случилось что-то такое между ними в прошлом, что заставляло осторожного Колю держаться от Вили подальше. Но Пеликан не обратил внимания на Колин маневр. Он смотрел на Вилю и думал, что это именно тот человек, которого он ищет. Ведь не может же быть так, что здесь, возле парка, практически на краю города, в тот момент, когда ему нужен подарок для Ирки, он вдруг встретит единственного фарцовщика, с которым давно и хорошо знаком, и встреча эта ни к чему не приведет. Так не бывает. Перст судьбы не может указывать в пустоту.
– Привет, Пеликан, – наконец заметил их Виля и махнул рукой. – Сессию уже сдал?
– Нет, Виля. Еще даже не начал.
– И что ты можешь сказать в свое оправдание?
– Только то, что сегодня день рождения Ирки из второго дома, а у меня нет подарка.
– Пеликан, – взгляд Вили, остававшийся рассеянным и мечтательным еще с момента расставания с Афродитой, мгновенно сделался осмысленным, – тебе нужен подарок? Ну-ка, глянь сюда! – он бросил сумку прямо на асфальт тротуара, присел рядом и достал из нее женские кроссовки. – Годится?
В обычной своей жизни Пеликан не испытывал трепета перед красивыми шмотками, да и утомительная суета, всякий раз предшествовавшая приобретению сколько-нибудь приличной вещи, лишала ее, в его мнении, немалой доли привлекательности. Но на кроссовки, извлеченные Вилей из волшебной сумки, лежавшей на асфальте, Пеликан смотрел не обычным своим критическим взглядом, он смотрел на них глазами девочки из панельной пятиэтажки с улицы Юности. И эти кроссовки были прекрасны! Красные, почти алые, «пумы» тридцать шестого размера с толстой мягкой белой подошвой, на которой рядом с надписью Puma была вытиснена взлетевшая в прыжке дикая хищная кошка. По красному нубуку шла, изгибаясь и утончаясь к заднику, белая кожаная полоса, а над ней, рядом со шнуровкой, чуть топорщилась красная же шильда с белой надписью Puma California. И на шильде, над буквами, тоже взмывал легкий кошачий силуэт.
Даже Пеликан, не смысливший ничего в дизайне спортивной одежды, заметил, до чего сильно отличались эти «пумы» от привычных адидасов семидесятых, слизанных кое-как не только шустрыми цеховиками, но и неповоротливой советской промышленностью. Кроссовки были идеальным подарком, и упускать их было нельзя.
– Так что, берешь? – Виля спрятал кроссовки, застегнул сумку и огляделся. Он не мог здесь фарцевать – не его район. Парк – территория Алабамы. И то, что они стояли через дорогу от парка, случись что-нибудь, вряд ли могло служить оправданием. Строго говоря, у Вили своего района не было вообще, с тех пор как он ушел от Алабамы, он ни под кем не работал, и значит, должен был сдавать свой товар. Либо продавать его у себя дома. Обычно Виля работал с Белфастом, но, оказавшись в парке, мог отдать его, например, Алабаме. Только не прямому покупателю.
– Беру, конечно, – неосторожно быстро ответил Пеликан. На самом деле он неплохо умел торговаться; всякий, кто вырос рядом с Лесным рынком, умеет торговаться. Предлагать цену вдвое ниже настоящей и презрительно кривить губу, когда бледнеющий продавец пытается ее поднять, делать вид, что товар тебе неинтересен и крутишь ты его в руках только из пустого любопытства, уходить, оборвав продавца на полуслове… Нехитрый набор приемов, которые Пеликан освоил еще в детстве, можно было использовать и теперь, только сейчас все это выглядело бы смешно и глупо. Ему нужны были эти «пумы», и Виля все отлично понимал.
– И я беру, – неожиданно выступил из-за спины Пеликана Коля.
– Сейчас мы аукцион устроим, – засмеялся Виля, но глаза его нехорошо потемнели. – Вот прямо здесь, возле дороги. Возле парка.
Не делая паузы и не ожидая ответа ни от Пеликана, ни от Коли, он вдруг взревел:
– А ну пошел вон отсюда, дурень чертов!
Коля испуганно сжался, но отступил всего на шаг и попытался опять спрятаться за Пеликана. Виля схватил палку и замахнулся ею, зверски выпучив глаза. Коля отпрыгнул, не удержавшись на ногах, упал, кое-как поднялся и тяжело побежал в сторону леса.
– Зачем ты его так? – огорчился Пеликан. – Он безобидный совершенно.
– Он на меня ментов один раз навел. Я понимаю, что не спецом, а по дурости своей, но мне ж от этого не легче, правда? Говорят же, что встретить его – плохая примета.
– Да ладно тебе, Виля! – Пеликан тихо удивился, как прочно въедаются давние детские суеверия.
– Я его как только вижу – сразу гоню. И сейчас надо было гнать, но я расслабился. У меня такая ночь была, Пеликан… – встопорщил усы и зажмурился Виля, но тут же сам себя оборвал. – Ладно, на лирику совсем нет времени. Мне на работу пора. Я домой хотел хоть на минуту заскочить, но не успеваю уже. Застрял тут с вами. Так что? Забираешь кроссы?
– Виля, ты хоть цену назови, – пожал плечами Пеликан. – Идем, я тебя до Братиславы проведу.
– Ну… какая цена? – Виля развернулся и зашагал в ту сторону, откуда пришел всего пятнадцать минут назад. Пеликан двинулся за ним. – Я хотел сто семьдесят вообще-то. Для тебя четвертак могу сбросить. Сто сорок пять. Ладно… Сто сорок – для круглого. Но это предел, Пеликан, ниже не могу.
– Сто сорок? – переспросил озадаченный Пеликан. – Основным его доходом была повышенная стипендия – пятьдесят пять рублей в месяц. Он рассчитывал получить ее на следующей неделе.
– У Алабамы ты их меньше чем за двести не увидишь, – похлопал его по плечу Виля.
– Понятно, – приученный мыслить системно, Пеликан тут же разложил ситуацию на составляющие. – Эти тапки мне нужны, и я их возьму. Они мне нужны сегодня, завтра будет поздно. Но денег нет. То есть при мне нет. Поэтому давай так: ты сейчас отдаешь мне тапки, вечером я приношу тебе половину, а вторую половину – на следующей неделе. У меня стипендия будет.
Пеликан пока не знал, где возьмет вторую половину, и тем более не представлял, как за день достанет первую, но упустить Вилю он не мог.
– Знаешь, Пеликан, – неожиданно остановился Виля, – я сделал ошибку. Мне нужно было гнать отсюда не того дурака, а тебя. Или вас обоих. А если я сейчас, в больном уме и смутной памяти, вдруг приму твое предложение, то гнать надо будет меня. И добивать в спину гнилыми желудями из рогатки. Ты понял?
– Понял, – глядя в сторону, кивнул головой Пеликан.
– Только потому что мы с тобой из одной песочницы, я готов ждать до четырех часов вечера. В четыре позвонишь мне в ателье и скажешь, достал деньги или нет. Если достал, то вечером, в шесть часов, мы встречаемся в парке под колесом. Ты приносишь всю сумму, не половину, не две трети, а всю – сто сорок рублей, и тогда я отдаю тебе «пумы». Если нет, то твой кредит доверия у меня исчерпан. Согласен?
– Договорились. В четыре позвоню, – что еще мог ответить ему Пеликан?
Прощаясь, Виля взмахнул рукой, свернул с дороги и направился во двор, к которому вел узкий проход между двумя двенадцатиэтажными домами. Он выбрал самый короткий путь к метро «Дарница».
«Надо будет сказать Вильке, что он стал неприлично похож на Боярского. А может, мне это показалось»? – подумал Пеликан, пересек дорогу и пошел вглубь парка.
У него было семь рублей, и с этими деньгами он мог дотянуть до стипендии. Он мог попросить у родителей еще червонец и даже получить его, если бы удалось убедительно объяснить, для чего нужен сверхнормативный червонец. А больше бы не дали все равно. Но где достать за день сто сорок рублей, Пеликан не представлял. Впрочем, пока это его не огорчало. Если всего полчаса назад у него не было ни денег, ни подарка на примете, то теперь со вторым пунктом он кое-как разобрался. Оставался только первый – можно считать, полдела сделано. Пеликан хотел спокойно обдумать ситуацию и решить, где взять деньги. Пока на ум приходило всего два варианта: он мог их одолжить или заработать. Но до сих пор ему ни разу не случалось заработать сто сорок рублей за день, и Пеликан сомневался, что это удастся именно сегодня.
Он миновал «Ровесник» – унылый бетонный саркофаг, собиравший в праздники пионеров из окрестных школ, а в прочие дни – тех, кому за тридцать, пересек центральную аллею парка и направился к аттракционам. До десяти оставалось чуть меньше получаса, места злачные, хоть и не покойние, не работали, и только дверь билетной кассы возле колеса обозрения была открыта. Рядом с кассой, греясь на майском солнце, курил рыжий Серега Белкин, бывший афганец, комиссованный по ранению. Он приходил в парк первым и с утра до вечера возился с механизмом циклопического аттракциона. Белкин состоял при нем рабочим. Целыми днями он крутился в своем колесе, и если бы фамилия не подтверждала прямую связь Сереги с лесным грызуном, то эту связь установили бы парковые, не спросив согласия ни у Сереги, ни у белки. Два крупных желтых передних резца и щетина яркой беличьей масти усиливали сходство.
После того как обломком лопасти рухнувшего вертолета ему снесло треть черепа, врачи запретили Сереге курить, грозно предупредив, что любая сигарета может стать для него последней. Но Серега им не поверил; сигареты уходили пачка за пачкой, и ни одна не становилась последней. Это добавляло ему уверенности в том, что, не слушая никого, он живет правильно. Он мог бы не работать, но становиться пенсионером-инвалидом в двадцать лет Серега не захотел, решив, что всегда успеет. Шерстяная шапочка скрывала изуродованную часть черепа, но правое ухо, вернее, тот обмылок сложной формы, который хирургу удалось сохранить, всегда оставался на виду. Серега от рождения был лопоух, и теперь его левое ухо настойчиво напоминало, как он выглядел до армии.
– Пеликан, – обрадовался Серега Белкин. – Ты мне нужен. Крутанешься на колесе? Хочу проверить, как трясет наверху! Всего разок, а?
– Хорошо, – согласился Пеликан. – Может, хоть сверху увижу что-то новое.