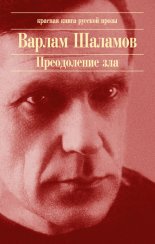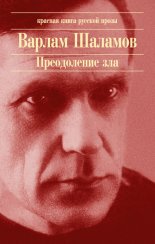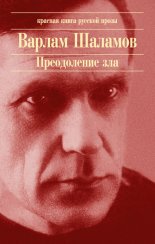Роман Горький Максим
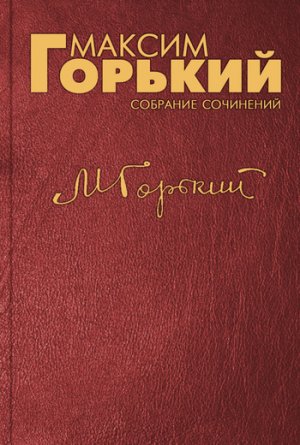
“Как всё зыбко и обманчиво в этом мире человеческих чувств, – думал он. – В нём не на что опереться, не в чем увериться так, чтобы потом не обмануться. Любые клятвы в любви и верности, любые обещания совместного счастья могут быть нарушены, преданы, забыты. Да и что такое любовь? Влечение сердца? Страсть? Желание совместной жизни? А может, просто сиюминутное удовлетворение своего эго, требующего сердца другого человека, как дитя требует игрушки? Требует. А после, наигравшись вдоволь, ломает её и бросает… И это называется любовью. Но, с другой стороны, есть которые любят всю жизнь одного и не бросают. Но может, тогда это уже не любовь вовсе, а привычка или привязанность, что-то наподобие близости родственников? Зачем же называть это любовью? Как глупо читать в романах: «Они любили друг друга все эти сорок лет». Как это пошло…”
Роман рассеянно смотрел на дьяка, на его острую бородку, впалые щеки и сухие смуглые руки, двигающие линейку по строкам старой толстой Библии, на серебряные кресты его стихаря, на огни двух витых свечей, стоявших в высоких подсвечниках по углам аналоя.
“Но стоит ли винить её? Видно, так уж устроено сердце человека – оно хочет перемен. Трудно видеть одно и то же лицо перед собою и бесконечно слушать одни и те же уверения в любви. Рано или поздно это становится похоже на дьяка, монотонно читающего о благих деяниях апостолов. Он читает о чудесном, но кого тронет этот жалкий фальцет?”
Вышел отец Агафон в золотой ризе с дымящимся кадилом и с крестом в руке, хор на клиросе запел “Воскресение Твоё, Христе Спасе…”.
Народ в церкви зашевелился, все принялись зажигать свечки, началась пасхальная заутреня. Всеобщее оживление вывело Романа из забытья, он вспомнил, где он, и, протянув руку, зажёг свою тонкую красную свечку от голубого огонька лампады, висящей перед иконой святой великомученицы Варвары.
В этот момент тонкая женская рука с такой же свечкой слева приблизилась к лампадке и замерла в ожидании.
Роман отвёл свою свечу с затеплившимся фитилём и, невольно повернув голову, глянул налево. Там стояла девушка лет восемнадцати в глухом тёмно-зелёном платье и такого же цвета шляпке, вуаль на которой была откинута наверх, открывая девичье лицо, светящееся той вдохновенной радостью праздника, которая посещает человека только в эти годы. Это лицо не было красивым, но было очень милым и доверчивым, с мягкими правильными чертами. Радость, написанная на лице девушки, как и красота её, тоже была не яркой, а тихой и глубокой, она вся словно светилась этой радостью, этим чистым и спокойным светом.
Затепливши свечку, девушка стала смотреть пред собой своими радостными зелёными глазами, её полуоткрытые губы, казалось, шептали слова молитв. Она была настолько зачарована происходящим, что, казалось, ничего не видела. Это ослепление юной души тотчас поразило Романа, живо напомнив его собственные восторги десятилетней давности, в зачарованном лице девушки он увидел себя. И устыдившись своей недавней печали, тоски, он впервые за всю заутреню улыбнулся.
А вокруг уже пели “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…”, отец Агафон ходил по церкви с кадилом и громко сообщал радостно расступающемуся народу чудесную весть:
– Христос воскресе!
И народ: мужики, бабы, Антон Петрович, супруги Красновские, девушка с зелёными глазами – все отвечали радостно:
– Воистину воскресе!
Это радостное, искреннее, почти детское согласие этих разных по уму и по положению людей захватило Романа с прежней, хорошо знакомой в юные годы силою, и вместе со всеми он радостно отвечал:
– Воистину воскресе!
С каждым новым ответом светлый дух праздника всё глубже и глубже входил в него, напрочь вытесняя всё дурное, ненужное, мешающее, так что к концу службы Роман был совсем уж другим. Все неприятные, нагоняющие тоску мысли покинули его, уступив место чистому и воодушевлённому состоянию…
Выйдя из храма, полной грудью вдохнул он прохладный ночной воздух.
– Христос воскресе, Роман Лексеич! – раздался рядом знакомый глуховатый голос.
Роман обернулся.
Перед ним стоял Парамоша Дуролом. В темноте его лицо казалось молодым и благообразным.
– Воистину воскресе, – ответил Роман и, приблизившись, трижды поцеловался с Парамоном.
Почувствовав, что Дуролом кладёт ему в руку прохладное крашеное яйцо, Роман безотчётным движением достал бумажник, вынул пять рублей, отдал Дуролому и пошёл прочь.
Расправя бумажку на грязной ладони, Дуролом поднес её к лицу, вздрогнул и, размашисто перекрестившись, стал истово кланяться вслед Роману, бормоча:
– Спаси Христос, Спаси Христос…
А Роман быстро шёл в темноте, не разбирая дороги, поглядывая на звёзды и улыбаясь ночному миру, только что встретившему Светлое Христово Воскресение.
VIII
Главным событием первого дня Пасхи, как и всегда, был праздничный обед у отца Агафона. Роман слегка опоздал и вошёл в просторную столовую, являющуюся в то же время и гостиной, когда человек тридцать уже сидели за огромным дубовым столом. Отец Агафон, только что отслуживший вторую обедню, сидел во главе стола в лиловой праздничной рясе, красиво оттеняющей его белые волосы и бороду. Заметив вошедшего Романа, он приподнялся и, умилительно качая головой, направился к Роману.
Роман подошел к о. Агафону и, проговорив: “Христос воскресе”, трижды поцеловался с ним, вдохнув запах ладана, одеколона и лимонной водки. Обняв Романа за локоть и не переставая умилительно повторять: “Воистину воскресе, голубчик, воистину воскресе”, о. Агафон повёл Романа к своему концу стола.
– Вот сюда, Ромушка, вот сюда, с нами рядышком, – зачастила сидящая также во главе стола Варвара Михайловна.
Роман поклонился обедающим и сел между попадьёй и Надеждой Георгиевной Красновской, с которой он уже успел похристосоваться раньше. За Надеждой Георгиевной сидели жующий и улыбающийся Роману Пётр Игнатьич, Зоя, выглядящая несколько усталой и отстранённой, Воеводин, делающий себе бутерброд с чёрной икрой, Рукавитинов и многочисленные родственники Огурцовых.
Напротив Романа, в ряду по правую руку от о. Агафона располагались Лидия Константиновна, Антон Петрович и… та самая девушка, привлёкшая в церкви внимание Романа. Она сидела рядом с седовласым мужчиной, по всей видимости – отцом, имевшим вид сумрачный и строгий. За ним начиналась череда родственников батюшки и попадьи, занимавших противоположный конец стола и оживлённо беседующих между собой. Роман не успел ещё опустить взгляд на стол, как массивная белая длань, могущая принадлежать только одному человеку, властно протянувшись, наполнила хрустальную рюмку, стоящую перед Романом, золотистой лимонной водкой.
– И не спорь, брат! – пробасил Антон Петрович, наливая о. Агафону и себе. – Наливочками пусть дамы балуются.
И действительно, почти у всех дам в рюмках светилась рубиновая вишнёвка. Отец Агафон приподнялся с рюмкою в руке, обвёл собравшихся взглядом ласковых, слезящихся от водки и умиления глаз:
– Дорогие братья и дети мои во Христе. Коли уж первый раз изволили мы пить в честь великого праздника, так позвольте теперь провозгласить здравицу за всех нас, ныне собравшихся, за скромных, но достойных сынов и дочерей, исповедующих веру, надежду и любовь!
– Браво! – качнул головой Антон Петрович и первый стал с трудом приподнимать со стула своё грузное тело.
Все встали и, оживлённо выражая благодарность о. Агафону, стали чокаться и пить. Роман выпил залпом холодную, приятно отдающую лимоном водку, успев заметить, что Зоя пригубила вишнёвку, со всё тем же отрешённым выражением держа рюмку перед собой, в то время как соседи тянулись к ней чокаться, а Воеводин так просто непрерывно тёрся своей рюмкою о её.
Опустившись на стул, Роман поставил пустую рюмку и обвёл глазами стол, раскинувшийся перед ним во всём своём великолепии. Каких только закусок не было здесь! Красная сёмга и нежно-розовая осетрина, паюсная икра и копчёный окорок, заливной судак и фаршированная щука, солёные помидоры, рыжики, грузди, белые грибы, мочёные яблоки, квашенная с клюквою капуста – всё это теснилось на тарелках, блюдах, одно к другому, образуя причудливый ландшафт, посреди которого то тут, то там высились разноцветными хрустальными башнями графины с водками, настойками, винами и наливками.
И, как всегда, с лёгкой руки Варвары Михайловны и её трёх неизменных кухарок вместо хлеба подавались пироги с капустой, луком, грибами, вязигой и картошкой.
Подцепив на вилку солёную шляпку белого гриба, Роман отправил её в рот и потянулся к сёмге, но сидящий напротив Антон Петрович нравоучительно поднял палец:
– Не тем интересуетесь, юноша. Всему своё время…
И этим же пальцем указал на небольшую посудину, где лежали в густом томатном соусе тушёные раковые шейки.
– Роман Алексеевич, вы что-то совсем ничего не едите, прямо как индус. Позвольте-ка! – проговорила Надежда Георгиевна и проворно положила в его тарелку кусок заливного судака.
– Ромушка, голубок, ну-ка наших грибков-то гладеньких, – запричитала справа Варвара Михайловна, накладывая ему грибов деревянной расписной ложкой.
– Окорочок, окорочок, Рома, – бормотал о. Агафон, снова наполняя рюмки. Роман улыбнулся. За ним опять все ухаживали, словно за мальчиком, как много лет назад. Его тарелка нагружалась незатейливыми, но любовно приготовленными, а поэтому и вкусными закусками; рюмка, казалось, сама собой наполнялась жёлтой жидкостью, нежные раковые шейки, пропитанные томатным соусом, таяли во рту.
Третий тост провозгласил Антон Петрович за хозяйку дома, назвав её, как и всегда, “славною Ксантиппой”, и, как всегда, слёзы покатились из добрых глаз Варвары Михайловны, когда десятки рюмок поднялись в её честь.
Четвёртую пили за дам, и, приподнявшись с места, как и положено джентльменам, Роман снова взглянул на Зою. Она, казалось, почувствовала его взгляд и, слегка повернувшись, посмотрела на него. Её лицо было не то чтобы грустным, а каким-то равнодушно-усталым, будто она выполняла скучную и ненужную работу или разуверилась в чём-то близком и некогда дорогом.
Воеводин непрестанно что-то тараторил ей на ухо, усиленно предлагая вино и закуски. От выпитой водки его округлое лицо раскраснелось, а движения сделались суетливыми и смешными.
“Странно видеть их вместе, – думал Роман. – Зоя с её острым светлым умом, горячим сердцем, свободолюбивой душой – и этот пухлощёкий жокей”.
Выпивая и закусывая вместе со всеми, он думал о Зое, о Воеводине, о себе, о прошлом, но уже без надрыва, а как-то спокойно и рассудительно, словно разглядывая всю эту ситуацию со стороны, а не участвуя в ней. Что-то произошло за эти сутки в его душе; словно впущенный в неё яд потерял свою силу, перестал действовать. Он видел выразительный Зоин профиль, видел, как заискивающе наклоняется к ней Воеводин, и это уже не будоражило его, как день тому назад.
Теперь ему было просто жалко её, он понимал, он чувствовал всем своим существом, что она не любит Воеводина, и при этой мысли ему уже не больно было сознавать, что она не любит и его самого. А вокруг уже пили просто так – без тостов; застольный разговор висел над простыми огурцовскими яствами густым облаком, в нём было трудно разобраться, в него надо было просто нырять, как в омут:
– Отец Агафон, что же это дьячок ваш будто ногу подволакивает?
– А он, спаси его Христос, на Крещенье напился, пошёл с бабами танцевать, да ногу подвихнул…
– Прянишников, батенька вы мой, пел с пятилетне-го возраста. Мне доподлинно известно от его покойной тетки, что, сидючи, pardon, в спальне на горшке, он выводил такие glissando, что нянька стояла и слушала, открыв рот…
– Тройную-то ушицу, матушка, сварить – всё одно что три акафиста прочесть: сперва ершей да окуней в марлице вываришь до крошева, потом в этой же водице судака, пока не развалится, а потом уж и осетринку белую варишь с перчиком, да с петрушечкой, да с лучком невторопях…
– Ксения гостила у нас прошлым летом и, представьте себе, не то чтобы искупаться – к воде ни разу не подошла. Оказывается, она страшно боится пиявок…
– Да как же мне не знать Евдокию Тимофеевну, если её дядя, ныне протоиерей Тихон, меня собственноручно, можно сказать, крестил. Прохор Витальевич был крёстным отцом, а тётушка – восприемницей.
Между тем три кухарки, исполняющие в этом хлебосольном доме заодно и роль прислуги, подали стерляжью уху с расстегаями. Это вызвало новые здравницы в честь хозяйки, все чокались с нею; Антон Петрович с серьёзным видом принялся доказывать, что именно стерляжью уху имел в виду Крылов, когда писал “Демьянову уху”. Пётр Игнтатьевич принялся возражать ему, толкуя о двойном, а может, и тройном содержании ухи, которой Демьян потчевал своего друга…
Роман с аппетитом ел прекрасную, переливающуюся блёстками уху с тёплым расстегаем. От выпитой водки ему вдруг стало легко и хорошо на душе, он вновь почувствовал искреннюю любовь ко всем этим простым добрым людям, и эта любовь, граничащая с умилением, вытеснила не только тревожные, но даже ироничные помыслы. Он смотрел на Зою, на Воеводина и искренне желал им счастья; он любил Надежду Георгиевну, Антона Петровича и, улыбаясь, пил за их здоровье; он любил всех родственников и приживалов о. Агафона, он любил эту безымянную девушку с её седовласым немногословным отцом…
Подали жареного поросёнка, а к нему – свекольный, морковный и яблочный хрен, Красновский заставил дьяка пропеть “Еже радуйся…”; Антон Петрович по обыкновению громко вспомнил что-то из оперы Рубинштейна “Нерон”, какие-то “пиршеств пышные веселья”; отец Агафон целовал руку Надежде Георгиевне, слёзно моля смилостивиться над грешными селянами и остаться до Яблочного Спаса, дабы откушать новой прививочки, имеющей вкус “прямо на удивление исключительный”. Воеводин, принявший за чистую монету каверзный совет Зои “положить ей непременно поросячьего пятачка”, и в самом деле стал отрезать пятачок от поросячьего носа, что вызвало громкий хохот гостей и Зоино хлопанье в ладоши…
Вдруг посреди всеобщего веселья отец той самой, пока ещё безымянной, но уже памятной для Романа, девушки приподнялся со своего места с рюмкой водки и, дождавшись тишины, произнёс глуховатым низким голосом:
– За здоровье наших детей.
Роман удивился этой серьёзной фразе, казалось столь неуместной среди захмелевших, смеющихся людей, произнесённой с глубокомысленной, почти грустной интонацией. Да вроде и не очень уместно было в доме бездетного о. Агафона произносить такую здравицу. Тем более здесь и Антон Петрович с Лидией Константиновной тоже бездетная пара, да и Рукавитинов…
Веселье сразу поутихло, но все дружно подняли рюмки и бокалы. Роман поднял свою и, отпив анисовой, успел заметить, что тост седовласого молчуна заставил всех как-то подобраться и пить, что называется, по-серьёзному: Антон Петрович перестал смеяться и, многозначительно выдохнув, выпил, предварительно показав глазами, что пьёт за Романа, Лидия Константиновна тоже смотрела на Романа; смотрела и мгновенно прослезившаяся Варвара Михайловна, а отец Агафон так просто прошептал:
– За тебя, Ромушка…
Красновские чокнулись с Зоей, Рукавитинов поднял рюмку, пространно глядя поверх голов, по всей видимости в душе пия за науку; со стороны же родственников хозяев поплыл дружный малиновый перезвон, дающий понять, что потомством они не обижены.
Посреди всего этого виновник тоста вёл себя несколько странно: явно не торопясь пить, с неподвижным и глубокомысленным, словно мраморным, лицом, он стоял, некоторое время глядя в полураскрытое окно и не замечая никого…
Потом, словно опомнившись, повернулся к своей дочери, лицо которой после тоста стало удивительно мягким, печальным и покорно-прекрасным, коснулся своею рюмкою её бокала и медленно, стоя, выпил. С этого мгновения Роман не спускал глаз с необычной пары – и отец, и дочь заинтересовали его, тем более что в предобеденной суматохе их никто не познакомил. Теперь же Роман стеснялся справиться о незнакомцах и лишь наблюдал за ними.
Праздничный обед тем временем плавно катился под гору: полные краснощёкие кухарки подали трёхведёрный самовар, завалив стол сладкими пирогами, плюшками, ватрушками, печеньями, вареньем всевозможных сортов в разнокалиберных вазочках и розетках, лафитники и графинчики с ликерами, хересом и мадерой – всё сверкало, искрилось, светилось оттенками в лучах вечернего солнца наподобие сказочного хрустального городка.
Уже было много и выпито, и съедено, уже отец Агафон целовался с дьяконом, повторяя слёзно: “Будешь мя отпевати, отец благочтивый”, а попадья уговаривала родню “навеки поселиться в их доме”, уже хлещущий из самоварного носика кипяток норовил угодить мимо чашек, а пироги и ватрушки с мягким проворством исчезали под столом; уже возникла в окне наподобие лешего ликующая физиономия хмельного Парамоши Дуролома, заставившего забросать его плюшками, уже, наконец, привставший Антон Петрович картинно выхватил из кармана карточную колоду, требовательно объявив, что “пора, наконец, и по бубендрасам!”. В пылу веселья незаметно исчезли Зоя с Воеводиным, Рукавитинов и те самые девушка с отцом.
Роман почувствовал, что ему тоже пора. Раскланявшись с хозяевами, он пробрался в прихожую, накинул пальто, взял шляпу и вышел. Время праздничного дня пролетело незаметно – солнце не так давно зашло, и сиреневые сумерки легли на Крутой Яр.
Распахнув пальто, Роман пошёл по дороге, с наслаждением подставляя лицо и грудь вечерней прохладе.
“За такими пирушками время летит так быстро, – думал он, неторопливо идя вдоль плетня, огораживающего большой сад и пасеку отца Агафона, – а главное – легко и просто забываешь, кто ты. Да. Веселье сближает людей и освобождает от тревог. А для русского человека оно кажется просто панацеей от многих бед. От одиночества, от замкнутости, от бедности, наконец. А всё-таки какие милые люди…”
За плетнём показались кусты ивняка, сквозь голые ветки которых засветилась белая речка. По узкой тропке Роман стал спускаться к ней. От речки ещё больше тянуло прохладой. Спустившись к самой воде, он остановился, с удовольствием разглядывая деревянные мостки, полузатопленный кустарник и избы на том берегу, тронутые еле заметным туманом. “Гляжу на снег прилежными глазами”, – вспомнил он Пушкина и с улыбкой произнёс:
– Гляжу на воду я прилежными глазами.
Вдруг сзади его тихо окликнули по имени. Роман обернулся.
Возле старой, согнувшейся до земли ивы стояла Зоя.
– Ты? – проговорил он удивлённо и подошёл ближе.
– Да, я, – с грустной или просто усталой усмешкой ответила она, положив руки в бежевых перчатках на ствол.
– Почему ты здесь? – спросил Роман, смотря в её смуглое красивое лицо.
– Хотела повидаться с тобой.
– Но… я же шёл домой.
– Я была уверена, что ты спустишься сюда.
– Вот как… Где же твой друг?
– Воеводин? Спит, – проговорила она. – Совсем, оказывается, не умеет пить.
– Ну… это не самый страшный грех, – произнёс Роман.
Некоторое время они стояли молча. Зоя смотрела на свои руки, бессмысленно перебирая ими по ивовой коре. Роман смотрел на неё, в душе удивляясь и радуясь своему спокойствию.
– Послушай… – с трудом произнесла она, – ты и вправду думаешь, что я такая скверная?
– Скверная? Отчего же ты – скверная?
– Как отчего?.. Оттого что я теперь не с тобой, а с этим человеком.
– Зоя, полноте. Ты свободная девушка, так что вольна в своих желаниях и в своём выборе…
– Ах, перестань, ради бога! – перебила она его в резкой, одной только ей свойственной манере.
Она подошла к нему ближе и взяла его за отвороты пальто:
– Роман… Роман, я так страдала эти годы, так много думала о тебе…
– И поэтому ни разу не написала.
– Да нет… нет же… – Она вздохнула, не находя слов. – Я… понимаешь, что-то произошло во мне. Я не могла тебе писать тогда, сразу. Слишком тяжело мы расстались. А после мне что-то мешало, постоянно что-то мешало, будто между нами возвели какую-то стену… Но я каждый день думала о тебе… А потом, потом…
Она смолкла.
В её глазах показались слёзы.
Роман взял её маленькие, стянутые перчатками руки в свои.
– Почему ты ни разу не приехал к нам?
– Я не мог, Зоя.
– Почему?
– Потому что я тоже чувствовал ту самую стену, о которой ты говорила.
– Правда?
– Правда.
Она снова замолчала.
Потом, высвободив руки, подошла к самой кромке реки, устремив вдоль взгляд чёрных, блестящих от слёз глаз:
– Как всё глупо.
Роман молчал.
Удивляющее спокойствие не покидало его.
Глядя на стоящую к нему в профиль Зою, он вдруг понял, что в глубине души равнодушен к ней. Это было настолько просто, что он улыбнулся.
Она, словно почувствовав его улыбку, повернула голову:
– Ты смеёшься? Надо мной?
– Над собой, – проговорил он, не переставая улыбаться.
Она подошла к нему.
– Рома. Скажи, ты меня… совсем уже не любишь?
Он помолчал и, прямо и спокойно глядя ей в глаза, произнёс:
– Ты сама всё знаешь. Зачем спрашивать.
С неё словно сняли невидимые оковы. Вздохнув, она лёгким движением рук поправила свою маленькую шляпку и, сломив ивовый прутик, двинулась по тропинке, похлёстывая себя по левой ладони.
Роман пошёл следом.
Когда тропинка стала подниматься наверх, Зоя остановилась, повернулась к Роману Они стояли возле старого замшелого колодца, похожего на заброшенный, давно покинутый птицами скворечник.
– Воеводин – мой жених, – проговорила Зоя со спокойным равнодушием. – Осенью я выхожу за него замуж, и мы едем в Англию.
Роман молчал.
– Я знаю, ты осуждаешь меня. Считаешь дурной, сумасбродной… Но, понимаешь, мне так скучно…
– Скучно? – переспросил Роман. – Тебе скучно? В это трудно поверить.
– Не то чтобы скучно, – пожала плечами Зоя, – а как-то всё опостылело, надоело. Родные, знакомые, ухажёры. Всё глупо, однообразно.
– И любовь – тоже скучно? – неожиданно для себя спросил Роман.
– Любовь… – еле слышно произнесла она. – Ты знаешь, мне кажется, я просто не представляю, что это такое. И никогда не узнаю… Но ты только не думай, тебя я любила как могла. Да… странно всё это – детство, юность, Крутой Яр, наши с тобой встречи под липами – всё это ушло куда-то в один миг, и вот здесь, – она коснулась груди, – только пустота и скука. Скука, скука…
Она смолкла, сцепив руки и подняв их ко рту.
Роман вглядывался в её отрешённое лицо и постепенно понимал, что ей – Зое Красновской, той самой неутомимой, бесстрашной, сгорающей от интереса к миру, – теперь действительно скучно. Он словно коснулся её души и почувствовал ледяной холод. Это открытие заставило его оцепенеть. Зоя молчала, стоя неподвижно. Молчал и Роман. Сумерки сгущались, туман повис над рекой. От старого колодца пахло речным песком и прелыми досками.
Зоя первая нарушила тишину:
– Да. Не получилось у нас разговора.
Роман спросил:
– Почему ты решила уехать?
– Мне всё здесь опротивело, надоело. Я, понимаешь ли, совсем недавно поняла, что я в душе – не русская. Не люблю я Россию.
– Не любишь?
– Не люблю. Какой-то серый мир. Пьяный, тёмный. И скучный. Мне так здесь скучно, Рома…
Она вздохнула и, вдруг быстро подойдя к нему, крепко взяла за руку, заговорив горячо и сбивчиво:
– Послушай, послушай… давай уедем, давай уедем вместе. Ты думаешь, я люблю этого Воеводина? Да я к нему безразлична, понимаешь, безразлична! Если я и любила кого, так только тебя, Рома. А с ним… я решила, потому что все меня бросили, и ты бросил, не приехал, а он, он меня увозит отсюда, увозит, поэтому и согласие дала, только поэтому…
Глаза её блестели в темноте.
Сжав руку Романа ещё сильнее, она приблизилась к нему.
– Рома, прошу тебя, давай всё забудем, возьми меня, уедем куда-нибудь, в Париж, в Англию, в Германию – куда угодно, только увези меня! Я всё брошу, родных, Воеводина, всё, только увези меня из этой грязи, серости, глупости, увези… понимаешь, я…
Она замолчала и выдохнула:
– Я жить хочу. А тут я как мёртвая.
Роман молчал. Сердце его тяжело билось.
С трудом разжав губы, он проговорил:
– Я люблю Россию.
Минуту она смотрела ему в глаза, потом, отпустив его руку, шагнула в сторону. Её лицо в темноте казалось гипсовым слепком.
– Прощай, – шепнули её губы.
Повернувшись, она пошла вдоль берега и вскоре скрылась в темноте, среди ивовых кустов. Роман долго стоял, вслушиваясь в звуки её удаляющихся шагов, словно наблюдая за угасающим пламенем сгоревшей до конца свечи.
Огонь их любви, три года назад горевший ярко и сильно, потух навсегда.
IX
Простившись с Зоей, Роман выкурил папиросу на берегу всё той же безымянной крутояровской речки, бросил окурок в воду и направился домой не слишком прямой дорогой.
Душе его было в эту ночь как-то легко и непривычно спокойно.
В темноте мимо спящих изб, в которых спали нагулявшиеся хмельные крутояровцы, он шёл со спокойствием местного призрака, дыша тьмой и тишиною. Невидимая неровная земля колебалась под ногами, звёзды и тонкий месяц горели на безоблачном чёрно-синем небе. Дойдя до крайней избы, он свернул и двинулся через молодой березняк. Не успел он пройти двадцати шагов, как прямо впереди залаяла собака, а знакомый голос не слишком энергично осадил её: – Тубо, Динка.
Роман заметил тёмную фигуру и светлую собаку, переставшую лаять, но начавшую угрожающе рычать. И снова этот очень знакомый вяло-пренебрежительный, но и язвительно-резкий голос обратился к собаке:
– Тубо, дура. Это же шляпный человек.
Эта фраза заставила Романа сразу же признать в тёмной фигуре крутояровского фельдшера Андрея Викторовича Клюгина.
Андрей Викторович, видно, тоже узнал Романа и приветствовал его первый:
– Если не ошибаюсь – Роман Алексеевич. Моё почтение.
– Здравствуйте, Андрей Викторович! – с радостью проговорил Роман, подходя и пожимая узкую несильную руку Клюгина. – Христос Воскресе!
– Здравствуйте, здравствуйте, – усмехнулся Клюгин, не отвечая на последнюю фразу Романа. – Давно наслышан о вашем приезде, а встретиться довелось эвон где. Темно, хоть глаз коли…
– Да! – рассмеялся Роман. – Романтическая встреча. Вы уж простите меня, Андрей Викторович, что до сих пор не посетил вас.
– Пустое, – вяло махнул рукой Клюгин, беря в зубы мундштук с горящей янтарным огоньком папиросой. Лицо его было трудно различимо в темноте, и Роману показалось, что он совсем не изменился за три года.
– Пошла вперёд! – Клюгин толкнул ногой обнюхивающую колени Романа собаку, и та послушно побежала прочь.
– Второй год твержу дуре – нельзя лаять на шляпных людей, лай на шапочных, картузовых, фуражковых. Нет, не доходит…
– Что же вы не были у отца Агафона? – спросил Роман и тут же пожалел, что спросил не подумавши: Клюгин переступал порог дома священника только в качестве фельдшера.
– Во-первых, любезный Роман Алексеевич, меня туда никто не звал. Да и даже если б позвали – не пошёл. Вы, верно, забыли, в каких я отношениях с этими убогими Гаргантюа.
– Признаться, вспомнил только теперь.
– Вот-вот. Дядюшка ваш – забавный человек, тётушка мила. Рукавитинов – толковый малый, но педант, Красновские – фанфароны, а эти… – он презрительно махнул рукой, – тюфяки с соломой.
– Ну, вы их строго судите. Они милые, простые люди…
– Вы только что от них?
– Да.
– А… – опять махнул рукой Клюгин. – Ну да бог с ними. Пойдёмте-ка, коли мы уж встретились, ко мне да потолкуем. Выпьем моей фельдшерской настойки, а вы чего-нибудь расскажете.
– Что ж, пойдёмте, – согласился Роман.
Клюгин взял его под руку, и они пошли в темноте.
Березняк кончился, впереди разверзся дышащий холодом овраг с силуэтами лепившихся по краям ледников, но Клюгин с уверенностью слепого повел Романа вниз по невидимой тропке.
Динка бежала где-то рядом, шурша прошлогодней травой.
– Вот они, наши прорехи да расселины, – всё тем же вялым голосом говорил Клюгин, поддерживая оступающегося Романа, – поселившиеся на овраге люди! Да ещё на каком овраге-то на крутом! И живём себе. Даже вот гости наведываются. Из столицы.
– Ну, к вам-то, положим, не только из столицы, а из каждой избы наведываются…
– Верно, верно, друг мой. Каждый смерд ползёт ко мне за эликсиром бессмертия. Дескать, дай мне, эскулап, хоть каплю, чтобы прожить ещё один день в грязи и вони…
– Вы, Андрей Викторович, совсем сегодня не по-праздничному настроены.
– А-а-а-а. Это их праздник.
– Господь с вами. Это праздник всех.
– Это их праздник. Но не мой, да и не ваш.
– Отчего вы так думаете?
– Оттого что мой праздник – это покой ума, а ваш – покой сердца. Вот что нас по-настоящему радует.
– Неправда. Меня радует и беспокойство сердца.
– Полноте. Что такое беспокойство? Ну-ка, вдумайтесь. Это же – без покоя. А без покоя – это мука, страдание. Так что не называйте чёрное белым. Ну-ка, дайте руку.
Они стали выбираться из оврага по крутому склону.
Клюгин шёл первым, вытягивая Романа за руку.
Наконец они оказались наверху.
Выплывший из-за туч месяц слабо освещал вездесущие кусты ивняка, тёмные избы, оставшиеся справа, и громоздкий чёрный силуэт дома, стоящего прямо на краю оврага.
Это был дом Клюгина.
Романа всегда удивляло это строение, готовящееся вот-вот свалиться вниз.
Теперь же, ночью, оно виделось угрюмым и неприветливым. Непонятно кем и когда построенное, оно являло собой полное отсутствие каких-либо стилевых архитектурных признаков, позволяющих отнести его либо к казенному помещению, либо к жилому дому, и по сути своей оставалось чем-то средним. Одну половину дома занимала лекарская, в другой жил непосредственно сам лекарь. Никогда под этими окнами не росли ни цветы, ни смородина. Клюгин не держал ни сада, ни огорода, ни тем более скотного двора, покупая все продукты у населения. Даже необходимой фельдшеру лошади и то не было у него, поэтому вытащить его в другую деревню было делом невероятной трудности.
Когда же по казенным надобностям он собирался в город, то обычно нанимал Акима в качестве возницы.
– Прошу, – равнодушно пробормотал Клюгин, кивнув головой в сторону своего дома, и они двинулись по еле приметной тропинке. Динка бежала впереди. Подойдя к небольшому крыльцу, Андрей Викторович достал из кармана ключ, поднялся по расшатанным ступенькам, отпер дверь и, пропустив вперёд собаку, прошёл сам.
Роман осторожно последовал за ним. В тесном, пахнущем тряпьём коридоре Клюгин зажёг спичку и, не раздеваясь, затеплил большую керосиновую лампу, стоящую возле вешалки на табурете.
– Разоблачайтесь, – предложил он, и Роман, сняв пальто, кашне и шляпу, пристроил их на небольшой деревянной вешалке местного производства. Клюгин, также раздевшись, подхватил лампу и открыл дверь в гостиную, куда тут же проскользнула Динка.
– Пойдёмте, – пробормотал Клюгин, входя первым. – Проходите, садитесь.
Роман вошёл, оглядывая скупо освещённую гостиную, или, вернее, комнату хозяина, ибо, кроме кухни и “лекарской”, других комнат в этом доме не было.