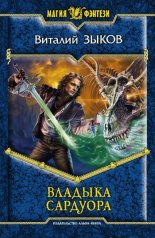Орел расправляет крылья Злотников Роман
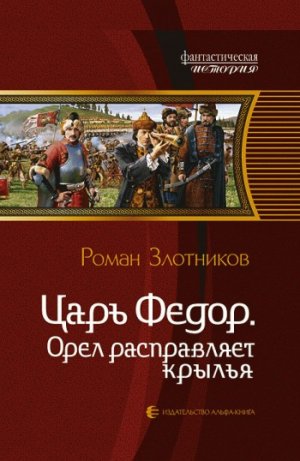
Часть первая
Покой нам только снится
1
– Государь?
Я поднял голову. На пороге моего кабинета, отворив дверь, стоял патриарх Игнатий. Святейший Иов дожил до великой победы в Южной войне и отошел в мир иной, успокоенный тем, что Русь наконец окончательно избавлена от крымской угрозы. Последние полгода он начал слепнуть, а сразу после заключения перемирия и отправки великого посольства к турецкому султану для подписания мирного договора захворал и начал быстро слабеть. Верно, в последнее время оставаться сильным и энергичным ему помогало только осознание того, что Русь ведет тяжкую и почитай священную для страны войну, в коей все должны держаться изо всех сил и стойко нести возложенное на них Господом и государем бремя. А как стало ясно, что дела вроде как пошли на лад, – эта державшая его железная воля ослабела, и уже порядком изношенный организм начал давать сбои. Он ушел тихо и мирно, заснув вечером в своей келье, а утром служка обнаружил его уже бездыханное тело. Мне было немного обидно, что я так и не попрощался со стариком, поскольку все лето мотался по причерноморским и приазовским степям, обустраивая новую южную границу. Но – лучше уж уйти так, чем страдая и мучаясь. Святой был человек, недаром Господь послал ему столь легкую смерть…
– Заходи, святейший, – ответил я, поднимаясь ему навстречу.
Новый патриарх был одним из трех человек, коим я даровал право входить мой кабинет без доклада. Так же как Иов был верен моему отцу, так и Игнатий был верен мне, ибо точно знал, что лишь благодаря мне он, иноземец по рождению, да к тому же пользующийся в церкви не столь уж большим авторитетом, был избран на сей высокий пост. Например, митрополита Казанского Гермогена, человека действительно мощного, волевого и до предела преданного православию и церкви, на Поместном соборе поддерживало куда больше народу. Были и другие сильные кандидаты. Но я сумел продавить кандидатуру Игнатия, лично переговорив с несколькими десятками наиболее авторитетных иерархов и напомнив cобору, что Игнатий «стоял вместях» со мной во время поединка с колдуном-Самозванцем. Поединок тот уже стал абсолютной легендой, обрастя таким количеством всяческих слухов и сплетен, что правда оказалась похоронена под их многометровым слоем… Потому что сейчас мне нужен был именно такой патриарх – послушный, гибкий, предпочитающий не столько обеими руками и зубами держаться за древние каноны и установления, сколько способный реально реформировать церковь. Ибо, на мой взгляд, православная, то есть самая древняя, изначальная христианская церковь на данном этапе заметно проигрывала и католицизму, и бурно распространяющемуся сейчас протестантству. А для меня православие было не только самим корнем, духовной основой русского народа, но еще и сильным ресурсом русского государства.
Православная церковь должна была стать мощным инструментом распространения его влияния в мире, так же как и это самое государство должно было всемерно способствовать возрождению влияния православия. Но пока этот инструмент, несмотря на всю свою глубинную, скрытую мощь, был тяжел, неповоротлив, весь в заусенцах суеверия, незнания и рефлекторного отвращения к новому. Так что его предстояло хорошенько перековать. И потому сейчас мне нужен был во главе церкви человек, который будет не только наставлять меня, как с точки зрения церкви, веры и древних традиций следует в том или ином случае поступать государю, и защищать передо мной интересы митрополитов, епископов и игуменов многочисленных монастырей, а, наоборот, проводить в церкви мою политику. И добиваться от церкви изменений в соответствии не столько с теми задачами, которые буду ставить ей я (ну кто я такой, чтобы ставить задачи тому, что имеет за собой опыт тысячелетий?), сколько с теми, что уже поставил перед ней этот меняющийся и начинающий динамично, невиданно для всех предшествующих тысячелетий разгоняться мир. И Игнатий стопроцентно отвечал этим требованиям.
Патриарх степенно и солидно вошел в мой кабинет. Вид этого кабинета за последние пять лет претерпел сильные изменения. Во-первых, я обзавелся более привычной мне мебелью, поставив себе нормальный рабочий стол, с диковинными для сего времени выдвижными ящиками, которые, вследствие того что первый вариант ящиков я даже пустыми с трудом выдергивал из своих ячеек двумя руками, были оснащены маленькими бронзовыми колесиками. Чуть впереди, но не примыкая к нему, располагался стол для совещаний, окруженный ввиду полного отсутствия здесь стульев массивными креслами. Я считал, что те, кто заходит в мой кабинет, должны говорить мало, излагать дело быстро и по существу. Поэтому никаких кресел для посетителей не предусматривалось. А если мне надо пообщаться подольше, так лучше я сам выйду из-за рабочего стола и присяду с человеком или с несколькими людьми за стол для совещаний. Лавки остались только вдоль одной из стен. Вдоль второй выстроились железные, но украшенные витой проволокой и эмалью металлические шкапы для бумаг, а также два шкапа деревянных, с открытыми полками, в которых я держал, так сказать, первоисточники – книги древних авторов, Священное Писание, жития, Деяния апостолов и так далее. По современным традициям в деловой и дипломатической переписке требовалось непременно вворачивать в текст цитаты из Священного Писания, и хотя я теперь благодаря обучению в царевой школе многое знал наизусть, иногда требовалось подсмотреть точную формулировку. У дальней стены, как и прежде, располагалась печь, а вот освещение слегка изменилось. Вместо свечей я велел изготовить свечные лампы, оснащенные зеркалами из полированного серебра. Поскольку стеклянные зеркала в России делать еще не умели. Их вообще умели делать лишь в Венеции, и стоили они просто немерено. За такую сумму, что просили за одно зеркало, во Франции можно было бы купить солидное поместье[1]… Ну, естественно, я сразу же, как услышал эту информацию, тут же сделал стойку. Ибо, вследствие того что наш основной торговый порт Архангельск имел крайне короткий период навигации, в торговле с Европой мне приходилось делать основную ставку на эксклюзивный товар. Так что после того, как я свернул программу массовой стажировки, оставив в каждой стране только по одному своему представителю, в Венеции я оставил аж троих. И велел встать на уши, но сманить-таки несколько мастеров-стекольщиков с острова Мурано. Однако пока результатов не было…
– Пришел ответ от Константинопольского патриарха, государь, – сообщил мне Игнатий и, повинуясь моему жесту, присел в кресло у стола для совещаний.
Я расположился напротив.
– И что он пишет?
– Вот, ознакомься. – Игнатий протянул мне грамоту.
Я быстро пробежал глазами написанный на греческом текст, хмыкнул и вернул грамоту патриарху.
– Ишь как витиевато денег просит… Другой бы сразу и не понял.
Игнатий сдержанно рассмеялся. Он был тот еще пройдоха, да к тому же выходцем как раз из той самой стонущей под османами Греции и все прекрасно понимал.
– Ну… главное, чего мы от него просили, он исполнить согласился, – констатировал я. – А денег – дадим. Деньги есть. Да и отбояриваться тем, что, мол, только эвон отвоевали, – уже невместно. С окончания Южной войны уже пять лет прошло…
За эти пять лет в стране многое изменилось. Была окончательно обустроена южная граница. Вторую крепость на Перекопе решили не ставить, она была не нужна, потому что никаких крымских татар в Крыму больше не было. Жалкие остатки этого народа дружно решили убраться куда подальше, рассеявшись по просторам действительно великой Османской империи. Так что южные границы охраняли две крупные крепости, в которых я держал гарнизоны по пять тысяч человек, и две поменьше – Темрюк, отданный мною донским казакам, уже начавшим перебираться на реку Кубань, и Край, заложенный в устье Дона и занятый малым гарнизоном запорожцев[2]. До конца осады Очакова их дожило всего около шести тысяч, и, поскольку Озю-Кале по подписанному мною и Ахмедом I договору снова переходил османам, я предложил тем запорожцам, что решили перейти под мою руку, построить для них новую крепость. Но Сагайдачный с большинством сотоварищей предпочел сохранить как можно больше независимости и уйти обратно на Сечь. Впрочем, сначала он даже сгоряча предложил мне взять под свою руку Сечь, да и все Запорожье. Но это означало немедленную войну с Польшей. А мне следующая война, едва лишь успели закончить предыдущую, была не нужна. Поэтому я поблагодарил его и сказал, что пока отказываюсь от такого подарка. Он понял. Поэтому расстались мы друзьями, и Петро сказал, что, пока он гетман, ни один казак не вынет саблю из ножен, чтобы идти на Русь. Ну и если православному царю снова понадобятся славные воины, то он знает, где их искать… А кроме того, оставил атаманом над теми, кто решился-таки осесть в новой крепости – Крае, своего ближайшего сподвижника Петра Одинца. Ну, типа, им на турку мимо плыть, так пусть лучше здесь свой сидеть будет, чем неизвестно кто. О крестном же целовании ни он, ни я деликатно решили не упоминать…
Также в Азове были заложены верфи. Я сумел выжать из дивана разрешение русским купцам торговать по всему побережью Черного моря и в Истамбуле, причем на тех же условиях, кои имели до сего момента лишь французские и английские купцы и кои именовались вполне прозрачно «капитуляционными привилегиями», а также добился права заложить в Азове верфи, взамен приняв на себя торжественное обязательство – не строить на них военные корабли. Я дал его с легким сердцем, ибо отлично знал, какими уродцами выходили первые петровские корабли. Один из моих высших менеджеров, Коля Галанин, был из военных моряков и до того, как послать на хер наш доведенный до ручки военно-морской флот, успел дослужиться до начальника БЧ. Так вот он как-то рассказал мне, что наши первые кораблики, сделанные неумело и из сырого дерева, разваливались буквально на второй-третий год, в то время как нормально построенные корабли тех лет служили десятилетия. А уже здесь мои ребятки из выпускников царевой школы, что отправились с посольствами, подготовили для меня развернутый доклад по современным технологиям кораблестроения и подготовки материалов для оного. Так что пока в стране не было никакой отработанной системы современного кораблестроения: ни мастеров, ни производства инструмента и корабельной оснастки, не были заложены морильные пруды, а также не было ни моряков, ни штурманов, ни капитанов, ни даже системы их подготовки, – думать о военном флоте было рано. Пусть пока тренируются на торговом…
Но с моряками вопрос мало-помалу решался, ибо я ввел в практику поставку на нанятые моими купцами иноземные суда молодых крестьянских парней для обучения морскому делу. Английские и голландские капитаны брали их очень охотно, поскольку те обходились им совершенно бесплатно, ибо состояли «на царевом коште», включающем не только оплату, но и кормежку. Уже сейчас я имел возможность перебросить на юг около сотни подготовленных матросов. А вот офицерский состав пришлось нанимать из местных крымских и черноморских греков и готов, а также англичан и даже турок. Уж больно быстро росла черноморская торговая эскадра. Впрочем, турок заменяли как можно быстрее. Ибо на азовских верфях строили самый передовой тип современного корабля – голландский флейт, и готовить для турецкого военно-морского флота капитанов, способных управлять такими кораблями, я не собирался. Потом себе дороже обойдется…
Кстати, работающие на моих купцов англичане и голландцы также весьма оценили мою тушенку, но она пока производилась в слишком малых количествах, и большая часть ее шла на армейские склады, поэтому как товар я ее пока не рассматривал. Хотя, обходясь в производстве копеек в семь за двухфунтовую банку, она при продаже тем же голландцам и англичанам по цене уже шестнадцать копеек уходила буквально влет. Так что по поводу нее стоило хорошенько подумать…
Многое изменилось и внутри страны. Так, например, было окончательно налажено печатное дело. В Московской царевой типографии работало уже девять станков, а этажом выше неустанно трудились нанятые за границей граверы. Но уже подрастала и молодая русская поросль, поскольку в стандартный договор, который заключал со мной любой иностранец, обязательно включался пункт о непременном обучении двух учеников. А подавляющее большинство иностранцев были связаны договорами именно со мной. Никто более не мог предложить лучшие условия, как финансовые, так и гарантийные. Впрочем, и отрабатывать я их заставлял по полной программе. Ребятки у себя на родине даже и не представляли себе, что можно так работать. Я их выжимал буквально досуха. Во всех отношениях. В особенности за обучение. Потому что, поскольку мастера нанимались, так сказать, партиями, я заложил в договор и механизм проверки качества исполнения учителями своих обязанностей в этой области. Так, после года обучения все ученики должны были сдавать что-то типа экзамена, на котором определялось, насколько хорошо ученик овладел преподаваемым ему искусством. По итогам первого года лучший из учителей ежемесячно получал прибавку к жалованью в пять гульденов. А вот по итогам второго теперь уже двум худшим учителям, наоборот, срезалось из оплаты по пять гульденов. Так что общая сумма денег, кои выплачивались иноземцам из моей казны за три года их работы, оставалась неизменной, а вот распределение ее менялось. И, как показала практика, это их шибко мотивировало. Поскольку никаких отговорок типа «рюски ошень глюпы» и тому подобное, что, как свидетельствует история, частенько срабатывало во времена Пети Первого, я не терпел. Мол, твои проблемы, дорогой. Не смог обучить этого ученика, потому что глупый, – ищи умного. Хоть на улице кого подбери, а выучи…
Основной продукцией типографии были, естественно, богослужебные книги, а также издания греческих и латинских авторов. Но два печатных станка уже год с лишним большую часть времени трудились над выпуском другой литературы. Во-первых, там вовсю печатались книги на итальянском, голландском, немецком, испанском, шведском, польском и французском языках, в основном по медицине, математике, фортификации и строительству, военному делу и трактаты по химии. Тираж каждой из таких книг достигал чудовищной в это время величины в тысячу экземпляров, и существенную часть их я, так сказать, протащил контрабандой, заявив, что мне нужно оснастить учебными пособиями на различных языках цареву школу. Во-вторых, печатались книги на русском языке, в частности тот же справочник по травоведению, уже оснащенный великолепными иллюстрациями, и другие книги по медицине. И, в-третьих, совершенно неожиданно для меня у нас появилась и, так сказать, русская беллетристика.
Дело в том, что сразу по возвращении моих бывших соучеников из «зарубежной командировки» я усадил всех их за написание самых подробных отчетов о странах пребывания. Методику сей работы я также выдернул из будущего. Сначала каждый писал личный отчет, затем проходило их обсуждение, сведение всей информации, изложенной в десятках личных отчетов, к общему знаменателю, что частенько сопровождалось жаркими спорами, а затем уже на свет появлялся пухлый рукописный том под названием «Повесть о немецкой (аглицкой, хранцузской, итальянской и так далее) земле, о людях, там проживающих, и ремеслах, коими они владеют». Отчеты в первую голову были предназначены для моих собственных нужд – для подготовки дьяков и иных служащих Посольского приказа, для отроков царевой школы, так что изначально тираж планировался небольшой – экземпляров пятьдесят, и резать его собирались на сосновых досках[3]. Но затем я обнаружил, что за этими «Повестями» начала охотиться грамотная прослойка населения страны, после чего велел подредактировать текст, сделав его более, так сказать, художественным и патриотичным. Поскольку первый вариант отчета был чисто рабочим и потому максимально сухим, ну и в его тексте основное внимание уделялось тому, в чем мы отстали и что следовало побыстрее перенимать, в таком виде его выпускать не следовало. Ибо на неподготовленного читателя он воздействовал, скорее, уничижающе. А затем повелел выпустить новый вариант большим тиражом. Тираж разошелся просто на ура, принеся мне в доход сумму, равную всем расходам на работу типографии за целый год. Я великодушно выделил пятую часть суммы на поощрение, так сказать, авторам, сразу же заложив в стране начала авторского права, а на оставшиеся деньги устроил небольшую, на пару печатных станков, типографию у себя в Белкино.
Я еще застал времена, когда в типографском деле основным лицом был человек, именуемый наборщиком, чья задача состояла в том, чтобы набрать необходимый текст из отдельных букв, именуемых литерами. Так что там, подальше от наполненной иноземцами Москвы, я собирался не торопясь отработать эту технологию, а затем уже выйти с ней на мировой… ну то есть пока на европейский рынок. И опять огрести самые сливки…
Кстати, моя затея с копченой осетриной и черной икрой также принесла плоды. Попробовав осетрового балычка и икорочки, европейская знать жадно облизнулась и сказала: «Хочу еще». И «царевы гости», то есть купцы, облеченные моим личным доверием, ответили: «Да пожалуйста!» И выкатили такие цены, что у ребят аж глаза на лоб вылезли. Потому как я велел не дешевить и просить за пудового осетра половину его веса серебром. А за бочонок черной икры вообще вес на вес. Европейцы ахнули, но… деваться было некуда. На всю торговлю осетром я наложил свою жесткую лапу. Копченый осетр и черная икра после моих великих посольств уже заслужили право именоваться королевским кушаньем, ну а короли не слишком любят отказывать себе в удовольствиях. Подданные же тянутся за ними изо всех своих, уж как кому повезло, маленьких или больших сил. Продаваемые в Европе где-то полторы тысячи осетровых туш и четыре тысячи бочонков с икрой приносили мне в казну почти триста тысяч рублей чистыми ежегодно. Весьма неплохой бизнес, надо сказать. Впрочем, я не обольщался – долго это вряд ли протянется. Те же англичане имели очень неплохой выход на Аббаса I, владения которого располагались с противоположной стороны Каспия, так что моя монополия на осетрину и черную икру протянется всего лишь несколько лет. Затем в игру вступят другие игроки, и, хотя, как я надеялся, «царская осетрина» и «царская икра» все равно останутся на рынке брендом номер один, мне придется снижать цену. Ну да все хорошее в жизни когда-нибудь кончается…
Большой барыш начали приносить и заложенные в моих вотчинах заводы. И вообще суммарный оклад[4] с переустроенных или все еще продолжающих переустраиваться по примеру Белкинской моих вотчин к настоящему моменту превысил миллион рублей в год. В основном потому, что я, опять же через моих доверенных купцов, сам начал торговать собираемым в них хлебом. Что сразу же вызвало подъем цены хлеба на внутреннем рынке. Но поскольку в стране полным ходом шла налоговая реформа, результатом которой должна была стать замена посошного налогообложения подушным, в ближайшее время площадь поднятой пашни и соответственно объем собираемого хлеба должны были резко увеличиться…
Вообще с этой реформой я намучился. То, что следует уходить от учета тягла по сохе и чети[5], мне было совершенно ясно. Но что взамен? Вводить подоходный налог в тринадцать процентов годовых? Да хоть сразу в пятьдесят, вот только кто будет учитывать доходы? Естественным вариантом учетной налоговой единицы, предложенным дьяками, поначалу стал двор. Вполне нормальная учетная единица. Но после долгих обсуждений пришлось отказаться и от него. Потому что, во-первых, двор двору рознь. И тут также требовалось вводить градацию на «лучшие, средние, меньшие и охудалые дворы», а мне требовалась система простая и эффективная. К тому же введение этого налога мгновенно вызовет к жизни процесс укрупнения дворов. А большой, населенный множеством людей двор тяготеет к натуральному хозяйству. Мне же, наоборот, требовалось резко повысить товарооборот в стране. Потому что, если этого не сделать, все мои поползновения расширить производства, завести мануфактуры и поднять технологии наткнутся на слишком сжатый рынок сбыта. То есть заводы, мастерские, мануфактуры и так далее начнут выпускать продукцию, но вот покупать ее будет некому. Потому как основной потребитель – крестьянин – будет ходить в домотканом, работать самокованым и пользоваться собственноручно изготовленным. Так что вся моя программа ускоренной модернизации страны тут же накроется медным тазом. Нет, ежу понятно, что основной потребитель высоких технологий, как, впрочем, и лучший инструмент преобразования общества, это армия. И не использовать ее таким образом, как наши придурки времен Бори Ельцина, я не собирался. Но, скажем, те же юсы полностью окупили, причем несколько раз, все затраты на разработку и оснащение свой армии, флота и стратегических сил системой JPS только за счет массового ее использования гражданскими лицами по всему миру. И до сих пор продолжают исправно качать бабло на поддержание ее в рабочем состоянии и дальнейшее совершенствование, торгуя по всему миру ключевыми компонентами данной системы, из которых потом собирают вроде как чисто гражданскую и совсем не американскую JPS-аппаратуру. Вот так мы и крепим обороноспособность США…
Поэтому остановились на более сложном варианте – подушной подати, но собирать ее решили именно со двора. Объектом обложения в этом случае становился подданный мужеского полу и возраста не менее шестнадцати лет. Поскольку дети начинали помогать родителям чуть ли не с пяти лет, а с двенадцати-тринадцати уже считались полноценными работниками, это должно было дать еще и демографический эффект. Ибо рожать детей становилось выгодно. Три-четыре года повзрослевший и уже вполне вошедший в силу сын может пахать на родителей, так сказать, совершенно бесплатно, а затем его вполне можно выпихнуть в свой собственный двор. Сумму подушной подати установили в сорок копеек с мужеской души. Каковая при численности населения где-то в одиннадцать-двенадцать миллионов (более точно можно было сказать только после того, как пройдет перепись) и средней численности семьи в семь-восемь душ за вычетом не облагаемых налогом сословий и некоторого процента людей, сумевших так или иначе увильнуть от налогообложения, должна была принести в казну доход от пятисот до шестисот тысяч рублей в год. Что, по прикидкам приказа Большой казны, было процентов на десять – пятнадцать меньше, чем при прежнем варианте. Но бюджет терял всего лишь процентов пять, так как существенную часть доходов казны составляли налоги косвенные, каковые пока оставались практически неизменными… Однако такие же подсчеты должны были бы сделать и мужики. И с энтузиазмом кинуться переходить на новую форму налогообложения. То есть прямо-таки гоняться за дьяками, требуя, чтобы им поскорее насчитали тягло по-новому. Я надеялся, что эти подсчеты устранят негативное влияние извечного опасения людей по поводу любых перемен и налоговая реформа пройдет более легко, чем обычно они проходили в стране… даже и те, что пережил я сам со своим бизнесом в двадцатом и двадцать первом веке.
Но если переход, как я рассчитывал, произойдет более-менее гладко, то вот потом… потом нужно будет создавать свою собственную систему учета населения, а церковные книги, по коим учет осуществлялся сейчас, использовать уже лишь как дополнительную проверочную структуру. А это ставило задачу создания грамотного и подготовленного чиновничества. Поэтому два года назад в моей Одинцовской вотчине была устроена дьячья школа, в которую набирались дети черносошных крестьян и посадских людей, «уже обученные грамоте». А задачу обучения грамоте населения я ничтоже сумняшеся возложил на церковь, поставив перед Поместным собором, как раз в тот момент собравшимся для выборов патриарха, задачу на свой кошт открыть сеть церковно-приходских школ, в коих обучать крестьянских и посадских детей «письму и цифири разной». Поначалу это вызвало у церковных иерархов некую оторопь, ибо даже среди низовых священников грамотными были далеко не все. Довольно существенная часть просто заучивала наизусть наиболее нужные службы и потом остаток жизни жила на десятке треб и двунадесяти молитвах… Но меня такое состояние дел в церкви тоже не устраивало, и я был намерен сдвинуть дело с места еще и таким образом. Впрочем, сначала иерархи попытались отбояриться, уверяя, что «сие есть задача непотребна» и что они ее никак не осилят. Но я твердо заявил, что «людишек потребно грамоте и счету учить», ибо грамотных людей мне в стране с каждым годом требуется все больше и больше. А потом пригрозил, что, если церковь не возьмется, возложу сию задачу на учителей-иноземцев, а уж они пусть учат, как сами считают надобным… Конечно, я блефовал. Ну откуда у меня в казне нашлись бы деньги для такого количества учителей-иноземцев? Но я и там, в своем покинутом будущем, и здесь числился человеком, который слов на ветер не бросает… так что от подобной перспективы собор пришел в ужас и возгласил, что «не есть мочно отдать души людей русских, православных под иноземов надзор и обучение». Поэтому теперь все батюшки обязаны после воскресной проповеди оставлять при церкви детей от семи до десяти годов и обучать их грамоте и счету.
Впрочем, на резкое повышение грамотности населения я не рассчитывал. С такими учителями едва ли один из двадцати детишек освоит хотя бы начала. Но, с другой стороны, пока мне и этого довольно. Получить без особых затрат через пять-семь лет под сто тысяч человек, владеющих азами грамотности и письма, – чем плохо-то? К тому же в этом случае все желающие поступить в новую дьячью школу (а лет через пять уже в систему таковых школ) проходили некий первоначальный отбор. Если уж человек в таких условиях сумел-таки научиться грамоте, то есть шанс, что и остальную программу он освоит нормально. А стимул для ее освоения был, и неплохой. Ибо учеба в школе и получение по ее окончании статуса «писаря государева» мгновенно выводило человека из тяглого сословия и делало его государственным служащим. Со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями.
Ну и наконец-то вышла замуж моя сестрица. Причем не только вышла замуж, но еще и успела родить очаровательную девочку. Отчего мой самый боевой воевода Мишка Скопин-Шуйский сразу же заполучил уязвимое место. Я назначил его главным смотрителем новой южной границы, и он месяцами торчал там, гоняя в хвост и в гриву и крепостные гарнизоны, и казачков, и городское ополчение, но едва кому стоило спросить его о дочке, как весь его грозный вид улетучивался, а на лицо наползала дурацкая улыбка. Впрочем, одной дочкой дело явно не ограничится. Ксюха снова была на сносях…
– Значит, начинаем собирать людей… – скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Игнатий.
– Конечно, – кивнул я. – Для того ты их, святейший, и отбирал.
Игнатий покачал головой.
– Совсем м онастыри оголим. Од ни старики да убогие останутся. Да мастеров немного. Епископы и митрополиты такой вой подымут…
Я промолчал. А что тут говорить. Для того, братец, я тебя и провел в патриархи, чтобы во время вот таких ситуаций ты возмущение и вопли тушил. Тем более что если и возмутятся, то далеко не все. Наиболее умные и влиятельные – уже на нашей стороне. Для того мы на Поместном соборе синод и создавали, чтобы таковых держать поближе к себе, под боком, дабы иметь возможность их первыми на свою сторону перетянуть, либо, если не удастся, как-то нейтрализовать, перессорить или еще что, а уж потом разобраться с остальными. Сколько уже на синоде говорено было, что уровень образования нашего священства надобно резко поднимать. Со всех сторон на православие давление идет. Исконно православные земли османами захвачены, и там православных детишек у родителей отбирают, насильно обращают в мусульманство и делают из них своих самых верных псов[6]. Католики эвон на польской православной Украине и в православной же Литве Унию[7] учинили. Протестанты на своих землях типографии устраивают, чтобы печать книги на славянском языке и свою богопротивную веру в русских землях проповедовать. А у нас среди монашества и даже среди церковных иерархов людей, что способны православную веру хотя бы в спорах и полемике защитить, – раз-два и обчелся. И как мы собираемся за души людей сражаться, если даже здесь, в своих исконных землях, можем только глухую оборону держать? Так что учить надо людей, учить… И у себя, в тех монастырях, где богословская мысль если и не ключом бьет (нет таких мест пока в русской земле, нет), то где она хотя бы не застыла и не утонула в бытовых мелочах, в заботе о пашне, сборе оброка, надзоре за пасеками и лугами. И далее, в тех местах, откуда пошла православная вера. Откуда она пришла на Русь. И где еще сохранилась, не умерла, не истаяла изощренная, не уступающая иезуитской византийская риторическая традиция… Я видел, что нашей церкви нужен мощный вброс идей. Пусть даже большая их часть будет признана еретическими и в конце концов отвергнута, но даже само их обсуждение что-то сдвинет, пустит круги по тому болоту, в которое все больше и больше затягивало нашу церковную мысль. А то уже как-то стало традицией, что мы почти по любому поводу шлем с вопросом к Константинопольскому патриарху или афонским монахам, а потом ждем, что нам эти мудрые люди ответят. Не дело, ой не дело… А мне, возможно, удастся протащить под шумок и кое-какие иные полезные нововведения, например, заставить церковь поддержать право для дохтуров заниматься патологоанатомическими вскрытиями. Ибо двигать медицину без них – совершенно невозможно, а дозволить дохтурам заниматься этим без разрешения церкви – это почти наверняка поставить их под удар. Но сейчас об этом я не рисковал даже заикаться.
– Значит, сразу после завершения похорон вашей матушки я рассылаю гонцов по епархиям и ставропигиальным[8] монастырям… – подвел Игнатий итог нашей короткой, но вместившей в себя много эмоций и смыслов, поскольку столько уже всего было по этому поводу говорено, беседе.
Я молча кивнул. Да, с матушкой, хоть и грех так говорить, но все вышло довольно удачно. В смысле того, что преставилась она накануне действительно серьезных изменений в государстве. Иначе она вполне могла бы доставить мне множество дополнительных проблем, каковых и так будет воз и еще маленькая тележка. Да, возможно, и не одна… Пять лет после Южной войны она оставалась единственной, кто постоянно пил из меня кровь, требуя послушания и исполнения ее воли. Три раза она объявляла, что я ей не сын, дважды демонстративно уезжала на поселение в Кирилло-Белозерский монастырь, но почти сразу же возвращалась и, тут же забыв обо всем объявленном ранее, вызывала меня к себе и снова начинала гнобить своими советами по поводу того, кого куда назначать и как править страной. Я терпел. Нет, все это можно было быстро прекратить, заставив матушку насильно принять постриг, но я не хотел обострять. К тому же на самом деле все матушкины потуги для меня, натренированного стервами двадцать первого века, были не так уж и напряжны. Да – неприятно, да – приходится терять время на смиренное выслушивание матушкиных поучений и на ругань вследствие того, что я им не следую, но до тех высот сосания мозга, которыми в совершенстве владеют «модели, актрисы и телеведущие», матушке было расти и расти. А я и их способен был выдерживать довольно долгое время…
К тому же все громогласные матушкины заявы на самом деле приносили больше пользы, чем вреда. Да и относились к ним теперь скорее с юмором. Когда она первый раз заявила, что я не ее сын, – это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все напряглись, ожидая, как повернется дело, а с пяток бояр-княжат даже заняли позицию низкого старта у подножия матушкиного кресла-трона, ожидая дальнейшего развертывая кампании. Но матушка удержалась на этой позиции всего лишь два дня, а затем не менее громогласно призвала сына «к послушанию матери». Бояре-княжата разочарованно разогнулись, но от повышенного внимания моего дяди Семена и Митрофана это их совершенно не избавило. А чем чревато подобное внимание, никому уже разъяснять не требовалось. Поэтому когда матушка заявила нечто подобное во второй раз – это восприняли уже как некое помешательство престарелой женщины. А на третий раз просто всем скопом тихо поржали… и посочувствовали царю-батюшке, а также повосхищались его терпением и смирением. Что, как ни странно, лишь укрепило мой авторитет, в глазах многих переведя меня из «сопляков» во «взрослые мужи», ибо только они способны быть терпеливыми. Молодняк же, как правило, наоборот, бравирует своей резкостью и бескомпромиссностью, наивно полагая, что именно этим подчеркивает свою взрослость и самостоятельность.
Впрочем, несмотря на все мое терпение, матушка меня все ж таки напрягала, так что ее кончина однозначно уменьшила число моих личных напрягов, и потому я совершенно искренне повелел похоронить ее со всеми подобающими почестями и даже отстоял у гроба три с лишним часа…
– А кого все-таки решил ставить главой миссии к Константинопольскому патриарху? – спросил я, отвлекаясь от мыслей о матушке.
В этот вопрос я принципиально не вмешивался. Игнатий умен, изворотлив в интригах и задачу свою, и выгоду для церкви в этом случае видит ясно, так чего мне лезть?
– Казанского митрополита, – улыбнулся патриарх. – Кого же еще? Неуча посылать глупо, да и вообще там нужен человек, который всю эту святую афонскую свору сможет хорошенько внуздать и заставить трудиться на наше дело так, как ты, государь, своих иноземцев внуздываешь. Кто еще с этим справится, кроме него?
Я согласно кивнул, и мы понимающе переглянулись. Ибо это было еще не все. Мы готовили митрополита Гермогена для еще одной операции, кою надеялись провести. Хотя он пока был совершенно не в курсе этого. Дело в том, что Брестская уния, отколовшая от Константинопольского патриархата всю западную, польскую Украину и Литву и передавшая ее под начало папы, вызвала среди всего православного населения этих земель яростное неприятие. К тому же я из своего времени помнил, как наш патриархи, Алексий II, а вслед за ним и Кирилл, катались с пастырской поездкой по Украине и как их там встречали. То есть униаты на Украине даже в наше время все еще оставались в глухой жопе. Но пока никакой другой православной иерархии на православных землях Речи Посполитой не существовало. А попытка ввести ее напрямую, то есть интронизировать Киевского митрополита волей русского патриарха, вызвала бы резкое обострение отношений с Речью Посполитой. Хотя запорожцы уже и посылали к Игнатию с просьбой дать им митрополита и епископов, потому как «под клятыми латинянами мочи нет стоять». Но Игнатий после долгих обсуждений со мной и в синоде как раз вследствие всего вышеизложенного им отказал, зато несколько туманно, но многообещающе посулил «скоро поспособствовать разрешению сей беды», наказав немного потерпеть и не дергаться. И, вот ведь хитрый грек, предложил мне интересную комбинацию.
До сего момента именно греки чаще всего переходили из подчинения своего Константинопольского патриарха в подчинение русского, ибо, обладая лучшей подготовкой и имея за плечами авторитет церкви «родоначальной», могли рассчитывать на быстрое продвижение и занятие влиятельных постов. Сам Игнатий был тому лучшим примером. Но теперь мы по его предложению собирались совершить обратный финт. Согласно нашим планам и уже имеющимся предварительным договоренностям, глава нашего массового учебного пула, отправляемого на обучение в греческие, в основном афонские, монастыри, должен был по освобождении какой-нибудь из греческих епархий (ну должен же у них в течение пары-тройки лет преставиться хоть один епископ) занять ее кафедру. А затем, уже как представитель Константинопольской патриархии, он будет интронизирован Вселенским патриархом в Киевские митрополиты. Ох латиняне и взвоют! Вся Уния как раз и была затеяна-то в основном для того, чтобы оторвать православных подданных Речи Посполитой от своих корней, прервать довольно живое общение украинских и литовских православных братств со своими московскими единоверцами, а тут такое… Но с формальной точки зрения при таком варианте мы оставались полностью в стороне. Вам не нравится? Вы грозите, что не потерпите? Так Константинопольский патриарх – подданный султана османов, вот с ним и воюйте, если хотите…
Я на мгновение задумался, а затем, решаясь, сказал:
– А знаешь, святейший, я у тебя все-таки тех монахов, что ты отбирал по моей просьбе, заберу.
Игнатий напрягся.
– А надо ли, государь? Большое дело затеваем. Каждый человек на счету. А ты лучших забрать хочешь.
Я еще подумал. Действительно, а не спонтанное ли решение я сейчас принял? Мол, отправляем одних, да и заодно отправим других! Может, действительно подождать? В казне-то денег хватит, чтобы два таких дела потянуть, за эти пять лет я не только восстановил всю отцову кубышку, но даже и увеличил ее, так что дело не в деньгах, а в том, что оба этих дела я считал очень важными. Но не выйдет ли, что, взявшись за оба, я ни одно не смогу сделать так, как оно того требовало… Я резко тряхнул головой. Нет, все надо делать именно сейчас. Пока есть в казне деньги. Пока нет войны. Пять мирных лет по нынешним временам – это просто царский подарок. Есть Господь на небе, есть, и он мою страну любит. Точно. Мы едва успели закончить на юге, как замирились поляки со шведами, и Сигизмунд III тут же стал недобро поглядывать на меня. Но итогом Южной войны стало еще и то, что русская армия оказалась единственной армией во всей Европе, которая не только устояла под ударом чудовищной военной машины османов, но еще и вышла из войны, завоевав для страны новые земли и города. А потому лезть в разборки с такими русскими польская шляхта рвалась не шибко. Воистину, как говорят лаймы – «fleet in being», то есть сильный флот оказывает влияние на политику самим фактом своего существования. Хотя в моем случае это относится к армии. У шведов же начались неурядицы с Данией, так что в мою сторону они пока не смотрели. Но вечно так продолжаться не могло. Я с усмешкой вспоминал свои наивные мечты по поводу того, как я смогу не воевать… Решено – отправляю.
– Нет, святейший, надо. Ты даже не догадываешься, как надо. Я, пожалуй, даже еще и слишком затянул. Раньше надо было отправлять то посольство, для которого мне нужны твои монахи. К тому же я у тебя забираю всего две сотни, мы же отсылаем почти три тысячи. И без них справишься.
– Так ведь лучших! – с горестной ноткой в голосе воскликнул Игнатий.
– Ой не ври, – усмехнулся я. – Никогда не поверю, что ты мне действительно всех лучших отдал. Такой выжига, как ты, скорее удавится, чем поделится. Так что – перебьешься.
И мы оба рассмеялись, как два человека, делающие одно дело и знающие друг друга как облупленных. Впрочем, нет, и у меня было многое, что очень сильно удивило бы Игнатия, буде я бы сошел с ума и решил ему открыться, да и у святейшего патриарха явно за душой было немало такого, чего он никому не рискнул бы открыть…
Проводив патриарха, я выглянул в приемную, в которой наконец-то сидел мой личный секретарь, и, улыбнувшись мгновенно встрепенувшемуся Немому татю, приказал:
– Аникей, пошли за боярином Мстиславским, – после чего сел и решительным движением придвинул к себе стопу бумаги.
Вот ведь еще дефицит нарисовался… Все мои нововведения потребовали резкого увеличения бумагооборота, а бумага здесь делалась из тряпья. С тряпьем же, поскольку народ жил еще довольно бедно и одежку носил до упора, пока совсем из заплат и лоскутков состоять не начинала, были некоторые проблемы. Поэтому, несмотря на то что я заложил несколько новых бумагоделен, бумагу приходилось все в больших и больших количествах импортировать. Я глубоко вздохнул, обмакнул в чернильницу перо и склонился над листком. Ох и добавил я себе сейчас работенки…
– Боярин-князь Федор Иванович Мстиславский, государь, – вот так, полным именем, доложил мне о прибывшем Аникей.
Я взял его в секретари два года назад, выбрав из десятка кандидатов, которых наметил, изучив индивидуальные отчеты своих соучеников, составленные ими после возвращения. У парня оказался хороший – емкий и лаконичный слог, великолепная, просто уникальная память и удивительная способность всегда быть в курсе всего происходящего. Впрочем, эта способность прославила его еще во время учебы. Со всяким вопросом мои соученики всегда бежали именно к Аникею, поскольку, может, кто-то другой и знает ответ, но поди его еще найди, а вот если не знает Аникей, то уж точно никто другой и знать не может.
– Зови, – кивнул я, отодвигая лист.
Ну вот, сейчас в набросанный мною план подготовки к посольству и будут внесены первые изменения. Ибо Мстиславский – боярин умный и опытный и найдет, что предложить и что поправить. А готовить посольство, не учитывая мнения его будущего руководителя, – глупо.
Когда боярин, скинув шапку, вошел в мой кабинет, я сразу же отметил, что на нем нет извечной боярской шубы, да и шапка у него была не горлатная, а более подходящая по погоде обычная, с заломленной набок тульей. Интересно, это они с меня пример берут, что ли? Я сам довольно быстро перешел с тяжелого царского платья, непременно (в зависимости от степени официальности) более либо менее украшенного золотым шитьем и драгоценными камнями, на легкий кафтан и штаны. Причем с каждым сезоном кафтан все больше укорачивался, постепенно превращаясь в эдакую длинную куртку. Хотя кое-кто все время ворчал, что царь ведет себя «невместно», и приличного царю платья не носит, и ноги «заголяет» (как будто я без штанов шастаю), и вообще по Кремлю не ходит, а почитай, бегает, будто какой младший писец с поручением. Но после моей расправы с Шуйскими, а особенно после победы в Южной войне, все эти речи звучали глухо и скорее в кулак и в ухо, чем во всеуслышание.
– Звал, государь?
– Да, боярин, да, Федор Иванович, – ответил я, поднимаясь из-за стола и подхватывая листки со своими набросками. Разговор нам предстоял обстоятельный, поэтому я решил провести его за столом для совещаний. – Садись, разговор у нас будет долгий…
Боярин изменился в лице. Я несколько секунд непонимающе смотрел на него – черт, чего это он так сильно испугался-то? Никак опять бояре пакость какую затеяли? Ох как не вовремя, ох не вовремя… Мне сейчас никакой смуты в стране не надобно. У меня такие проекты на ходу… И куда только Митрофан с моим троюродным дядей смотрят? Ладно, звоночек прозвенел, значит, накручу хвосты. В этом смысле даже лучше, что боярин-князь Милославский в момент этой смуты будет подальше от Москвы. А то еще ненароком шибко завязнет, а он мужик умный, но уж больно ко всяким интригам расположенный, еще придется казнить или там ссылать, а мне его терять не хотелось бы… Впрочем, вряд ли так уж завязнет, именно потому, что в интригах поднаторел. Такие никогда сами ничего не делают, всю черную работу другим оставляют, а затем смотрят – удалось, так и «мы пахали», а нет – так они тут совершенно ни при чем. А мне в этом посольстве такой хитрован и нужен… Поэтому я ободряюще улыбнулся Мстиславскому и уселся за стол, положив на него свои прикидки.
– Садись, боярин. Вот хочу поручить тебе посольство дальнее. В страну великую и удивительную. В страну, где до сего дня ни одного русского посольства не было, однако купцу во все времена было чем поживиться, – (это уж точно во все, вспомнил я челноков своего времени), – и даже государю есть чему поучиться. В страну, коя считает себя центром всей земли, а все остальные страны и народы – своими окраинами. – Я сделал короткую паузу и, глядя в глаза боярину, который уже взял себя в руки, но на лице которого внимательный взгляд все-таки мог отыскать признаки немалого облегчения, закончил: – В Синд…
2
Утром умер Немой тать.
Я как раз собирался завтракать, к тому же не один, а в компании с Митрофаном и моим дядькой Семеном Годуновым, которые после моего разноса нащупали-таки следы смуты среди бояр. Правда, была она какой-то бестолковой – скорее суетливой, чем действительно опасной. Несколько человек о чем-то там уговорились, но никаких конкретных действий никто предпринимать не стал. Людишек оружных в свои московские подворья не стягивали, подметные письма не появлялись, никакие слухи по Москве ходить не начали. Короче, вроде как сговор был, а вот заговора не было… Ну так нам казалось.
Мои завтраки уже снискали славу на Москве, в первую очередь тем, что на них подавали кушанья диковинные и удивительные. Например, гвоздем программы была… картошечка! Да-да, еще в бытность великих посольств я поставил задачу прислать в страну возможно большее количество клубней этого по нынешним временам диковинного растения. А затем отправил их в Белкинскую вотчину с подробным указанием Акинфею Даниловичу по поводу технологии выращивания сей культуры. Мои юные годы пришлись на конец восьмидесятых – начало девяностых, на время «почти что голода», когда по всей стране магазины радовали глаз разве что пустыми полками, с которых смели даже вечно пылящиеся на них в советское время банки бычков в томате и кильки. Поэтому находящаяся на последнем издыхании партия и не менее престарелое правительство страны разрешили раздать почти уже положившим зубы на полку горожанам куски необрабатываемых полей во временное пользование, для самостоятельного решения обострившейся продовольственной проблемы. Так что мы три года подряд батрачили на выделенных матери через ее институт двух сотках, запасаясь картошкой. Поэтому сию агротехнику я освоил на практике и представлял себе весьма хорошо. Вследствие чего спустя всего лишь три года с момента ее появления в стране картошка уже полностью прописалась на моем царском столе. Ну и заодно вовсю пошел процесс распространения этой культуры по русским полям. Причем организовал я его по всем правилам психологии. Изначально картошка вроде как предназначалась лишь для царского стола. Потом, когда ее стало много, я ввел ее в рацион царевой школы и своего холопского полка. А затем велел не увеличивать засеваемые площади. И про нее сразу же пошли слухи, что этот-де «царский овощ» лечит чуть ли не все болезни, что от него резко повышается мужская сила, ну и все такое прочее. Поэтому крестьяне из окрестных деревень принялись потихоньку подворовывать картошку с «царева поля» и рассаживать клубни у себя. Поскольку это самое «царево поле» обрабатывалось барщиной, агротехнику картошки большинство из них уже усвоили. А я еще подлил масла в огонь, издав грозный запрет на открытую торговлю картошкой, из-за чего ажиотаж только повысился. В уездах, где до сих пор ничего не слышали о картошке, узнали о ней из этого указа, собрали ходящие про нее слухи и тут же воспылали желанием приобщиться к чудесной силе заморского «царского овоща». Несколько лет картошкой торговали из-под полы, по бешеным ценам, а этой весной я велел Акинфею Даниловичу засадить картошкой весь «барщинный» клин и собирался по осени объявить народу свое «милостивое» разрешение торговать картошкой невозбранно и предложить на рынок продукцию «личного царева поля». Тем более что за это время неугомонный Виниус сумел провести немалую селекционную работу, безжалостно выбраковывая посадочный материал с малейшими признаками вырождения и отбирая только самые добрые, один к одному, клубни. Так что качество посадочного материала с моих полей должно было быть явно выше, чем у распространявшегося полулегально. Поэтому, похоже, доходы с моих вотчин в этом году должны еще более возрасти…
Кстати, подобный подход принес и еще один неожиданный эффект. Наслушавшись россказней о том, что картошечка повышает мужскую силу, мужики, налупившись драгоценного дефицита, запрыгивали на баб и, явственно чувствуя прилив мужской силы, начинали так наяривать, что в последние три года в стране резко поднялась рождаемость. О чем докладывали дьяки, проводившие перепись населения в связи с налоговой реформой.
Мои завтраки славились еще и тем, что на них подавали не только некие диковинные или уже и не очень продукты, но еще и по-особенному приготовленные. Так, если вся страна употребляла картошечку в основном в вареном виде, у меня на столе она появлялась и в жареном, и с грибочками, и со шкварками, и фри. Поэтому среди бояр, окольничих и стольников, подвизавшихся в Кремле, пышно цвела конкуренция за право поприсутствовать на моем завтраке. Что меня весьма радовало. Ибо сие означало, что вовсю шел процесс, так сказать, абсолютизации власти…
Когда я был по делам в Париже, то сумел выкроить денек и заказать себе индивидуальный тур в Версаль. Ну интересно же было, как там жил король-солнце, которому даже подштанники надевали два графа, а рядом стояли герцог с бароном, держа в руках по чулку. Но гид мне попался великолепный. Старичок из русских эмигрантов, он всю жизнь проработал во французском институте истории… ну или как там он у них правильно называется. Так вот, выяснилось, что я со всеми своими представлениями об изнеженных и ленивых королях – полный дебил! Оказывается, придворный этикет, который разработал Людовик XIV, вовсе не блажь ленивого, развращенного придурка, а имеет глубокий смысл. Начало царствования сего Людовика было ознаменовано приблизительно тем же, с чем сейчас столкнулся я, – всплеском бунтов и заговоров знати. В том числе и знаменитой Фрондой. Хотя, конечно, после Ришелье, показавшем французской аристократии, кто в доме хозяин, она малек попритихла. Так вот, сей незабвенный Людовик, оказывается, жизнь положил на то, чтобы его родимая французская знать, вместо того чтобы конкурировать за власть и влияние с королем, начала бы конкурировать за место при короле. Что ему прекрасно удалось сделать. И уже к середине его правления холеные французские герцоги и графы отчаянно интриговали не против короля, а за право подать королю при утреннем одевании правую подвязку или левую туфлю. А весь двор глубокомысленно обсуждал, что означает факт того, что графу N сегодня доверено подавать левый чулок, а не, как вчера и позавчера, панталоны. Ну, типа, как наши политологи и всякие там светские хроникеры обсуждают, что означает то, что президент в субботу предпочел верховую езду, а не поехал, как премьер-министр, кататься на лыжах, а генеральный прокурор при этом отправился поплавать в бассейн, который расположен на три километра ближе к ипподрому, чем к лыжному склону. И делают из этого глубокомысленный вывод, что расстановка сил во «властной элите» резко поменялась… Кстати, как нам объяснил тогда старичок, весь этот придворный этикет, разработанный королем-солнце, вещь настолько тяжкая, что в полной мере соблюдать его после смерти Людовика XIV не смог больше ни один французский король. «Ниасилили», так сказать…
Так вот, я собирался завтракать. Когда я появился в своей малой трапезной, Митрофан уже сидел там, а сразу же после моего прихода заявился и дядька Семен. Так что сначала все вроде как шло нормально. Мы неторопливо беседовали, когда служки начали вносить здоровенные подносы, уставленные блюдами с едой. Наряду с гигиеной я твердо, ну сколь возможно, внедрял в жизнь основной принцип здорового питания: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Нарушал его только во время дипломатических приемов, совмещенных с пирами, ибо в этом случае приходилось есть поздно, и по моим меркам, довольно обильно. Хотя и тогда среди присутствующих на пирах бояр ходили разговоры, что царь-де ест невместно мало, ну будто птичка клюет, видать, отравы боится… Отравы я действительно опасался, куда деваться, и постарался выстроить вокруг себя достаточно эффективную систему безопасности, но мало ел не поэтому. А потому, что твердо знал: мои гастриты, колиты, язву желудка и двенадцатиперстной кишки здесь, в этом времени, лечить некому. Следовательно, если я хочу жить долго и по возможности счастливо – лучше их вообще не заводить… И вот, когда на стол водрузили большое блюдо с картофельным пюре и служка приготовился раскладывать его по тарелкам, Немой тать, примостившийся в углу, внезапно взревел и, кинувшись к столу как коршун, ухватил это блюдо и сдернул со стола. Все ошарашенно замерли. Нет, всем было известно, что Немой тать тоже пристрастился к «царскому овощу», но до сего дня он себе таких выходок не позволял.
Я отодвинул тарелку и, встав из-за стола, направился в его сторону. Потому что никто, кроме меня, утихомирить эту внезапно разбушевавшуюся смертоносную стихию был не в состоянии. Немой тать заревел и спрятал блюдо с картошкой за спину. Я непонимающе остановился. Да что с ним такое происходит-то?
– Ты хочешь картошечки? – ласково спросил я свою «тень». – Так можешь взять сколько хочешь. А остальное – отдай. Нехорошо поступаешь. Мы тоже хотим картошки. Неужели ты с нами не поделишься?
Немой тать посмотрел на меня отчаянным взглядом, потом тоскливо взвыл и… вытащив из-за спины блюдо с пюре, внезапно начал жрать его прямо так, ртом, помогая себе руками. Все ошарашенно пялились на эту картину, но только лишь до того момента, как Немой тать захрипел и свалился на пол трапезной, схватившись за живот…
– Всем стоять! – взревел первым все понявший Митрофан, взвиваясь с лавки и прыгая к одному из служек. – Кто? Ты? – зарычал он, хватая его за воротник и резким рывком притягивая к себе.
– Не-эт, – заверещал служка, – не-эт, то Семен! Он мне просто сказал, чтобы я не прикасался сегодня к «царскому овощу»!
– Семен?!
– Стоп! – рявкнул уже я. – Хрен с ним, с Семеном, потом поймаешь. Пошли за Прокопом, и всех дохтуров из царевой лечебницы сюда, быстро!
После возвращения отучившихся в европейских медицинских школах и университетах врачей я учредил десять царевых лечебниц. Три в Москве и по одной в Ярославле, Нижнем Новгороде, Великом Устюге, Казани, Вологде, Великом Новгороде и Сольвычегодске. Ближайшая находилась недалеко от Кремля, в Китай-городе.
– Да я сам… – сорвался с места Митрофан, но был тут же остановлен моим окриком:
– Нет, ты – здесь! Ты – отравлен, понял? И я тоже. Занемогли мы, понятно? При смерти мы! Пусть повылезают из своих щелей. Я им за моего Немого татя… – Я судорожно вздохнул и, взяв себя в руки, приказал: – Так, берем его на руки, быстро! Митрофан, как пошлешь за Прокопом, – галопом в мой кабинет и приволоки мне гусиное перо, несколько перьев…
Мы взвалили тяжелое и уже сотрясаемое судорогами тело и положили его на стол, с которого была скинута на пол вся посуда вместе с дорогой, шитой золотом скатертью. Я знал, что при отравлении первым делом надобно промыть желудок, но, судя по белой пене, выступившей на губах Немого татя, ему это вряд ли могло помочь. Однако так просто сдаваться я не собирался.
– Воды! – заорал я, склоняясь над ним, а затем, ухватив кувшин, принесенный из устроенной прямо перед трапезной умывальной комнаты, где все приглашенные на завтрак могли помыть руки с мылом, поднес его ко рту хрипло дышащего Немого татя. – Пей, пей, родной… ну же, надо…
И Немой тать, уже почти потерявший сознание, послушно разинул рот и позволил мне влить в него почти три литра воды. Затем было гусиное перо, рвота, затем снова вода, затем снова рвота… и так до того момента, как в трапезную ворвались доктора.
– Государь! – ошеломленно выдохнул главный врачеватель царевой лечебницы дохтур Феофан Проворный. – Но… нам сказали, что ты…
– Ему помогите, – резко прервал я его бормотание, – ну же!
Но Немому татю уже было ничем не помочь… Он умер на моих руках. Мой Немой тать… Моя тень… Мой слуга… Мой верный страж, всегда чуявший угрожающую мне опасность лучше, чем кто бы то ни было… Мой друг и соратник, прошедший со мной и Крым, и Рим – и стылые дожди первого года глада и мора, и ледяную причерноморскую степь, и многое-многое другое… И без колебания отдавший за меня свою жизнь. Я сидел на столе, держа на коленях его мертвую, измазанную в блевотине голову, и плакал, совершенно не стесняясь этого.
А потом я встал…
– Где картошка? – глухо спросил я, не понимая, отчего это все жмутся по стенам, будто стараясь влипнуть в них, забиться в мелкие щели между бревнами. – Где она?
– В-в-в-вот, г-государь! – испуганно отозвался кто-то из служек, дрожащей рукой протягивая мне блюдо с остатками отравленного пюре.
– Митрофан, – тихо позвал я и, когда он подскочил, протянул ему блюдо, – сохрани. Я собираюсь накормить ею… кое-кого.
Митрофан молча кивнул.
– Теперь слушайте все. Я, он, – я кивнул на Митрофана, – боярин Семен Годунов, то есть все мы – при смерти. Мы – отравлены. И дохтура бьются изо всех сил, чтобы спасти нам жизнь. – Я сделал паузу и обвел взглядом всех находящихся в комнате – служек моих личных покоев, лекарей, бойцов моего холопского полка, короче, всех, кому я вроде бы должен был бесконечно доверять. Но ведь и остальные, кто меня окружал, также были не раз проверены и перепроверены, а яд ведь все-таки как-то попал в блюдо, которым я сегодня должен был позавтракать? – Все понятно?
– Да! – Ответ был дан громким хором и на едином дыхании.
– А если узнаю, что кто-то и хоть где-то… – Я сделал короткую паузу и еле слышно выдохнул: – То начну я с того, что вырву ему язык.
Я знал, какая мысль пролетела у всех у них в головах: «Дедова кровь…»
А потом все завертелось. Прокоп, старый друг детства и заместитель Митрофана, с которым они зачинали службу мальчишек-наушников, сработал «на отлично». Тот самый Семен, скрывшийся с кухни сразу после того, как в мою трапезную понесли блюда, но, как выяснилось, не покинувший Кремль, ожидая результатов своего предательства, был обнаружен, однако не взят в узы немедля, а прослежен до одного трактира. Там его дожидался какой-то чернявый мужик. После разговора с ним Семен остался сидеть в трактире с ножом в печени, а мужик порскнул прямо ко двору боярина Велимы. А уж после этого с Велиминого двора разбежалось еще несколько гонцов ажно к пяти боярским подворьям и… дому Московской компании[9]. Когда мне доложили это, я только скрипнул зубами. Ну, лаймы, и здесь без вас не обошлось… ну что ж, сами напросились.
Всех шестерых взяли тепленькими вечером в доме Велимы. Они по первости начали было хорохориться, грозить, что вот они ужо со всеми посчитаются, что все таперича у них попляшут… но, узрев меня целым и невредимым в Грановитой палате, впали в ступор, а затем начали наперебой сдавать друг друга. Пятеро писцов, приведенные Митрофаном, не успевали записывать боярские признания, так что ему также пришлось взяться за перо. К рассвету, когда писцы окончательно изнемогли, а бояр приходилось уже не раз расцеплять, поскольку они в своих взаимных обвинениях дошли уже до рукопашной, я, все это время молча и неподвижно сидевший на ступеньке возвышения, на котором стоял мой трон, наконец пошевелился. И все мгновенно замолчали, испуганно уставившись на меня.
– Кто? – тихо спросил я, хотя ответ на этот вопрос был уже неоднократно повторен.
Но я спросил, и взгляды всех мгновенно скрестились на Велиме. Того перекосило… Я зябко повел плечами, кивнул Митрофану, тотчас исчезнувшему за дверью, поправил шубу, наброшенную на плечи, а затем заговорил тихо и даже несколько печально:
– Ты убил моего друга, боярин… Сам ты мне сейчас совсем не интересен, все что мог – ты уже сделал, все что мог – рассказал, но… ты убил моего друга. – Я тяжело вздохнул. – И что же мне с тобой сделать?
Велима мелко задрожал. В этот момент дверь отворилась, и в палату быстро вошел Митрофан с подносом, на котором лежали застывшие комки вчерашнего картофельного пюре. Митрофан поставил поднос на пол у ног боярина Велимы.
– Так что же мне с тобой сделать? – тихо и задумчиво повторил я, а затем прикрыл глаза. В Грановитой палате установилась такая тишина, что, казалось, волос упадет на пол – и то будет слышно. – Впрочем, – все так же тихо продолжил я, – у тебя ведь есть сын, боярин, не так ли? И не один. А еще дочери… – Я улыбнулся, и все шестеро от этой улыбки невольно отшатнулись назад. – Это хорошо, боярин, – я удовлетворенно кивнул, – это хорошо. Я видел, как умирает у меня на руках мой друг, а ты… тебе, боярин, тоже будет на что посмотреть. Уж это я тебе обещаю…
Велима жалобно взвизгнул и, упав на колени, принялся торопливо, по-собачьи, ртом, давясь и кашляя, жрать с блюда засохшие комки картофельного пюре. Все оторопело уставились на эту картину. Кого-то из бояр разбила икота… Наконец яд, которым была щедро сдобрена картошка, подействовал, и Велима, завыв, повалился на бок, вцепившись обеими руками в живот. Я молча смотрел, как его било, как его гораздо менее крепкий, чем у Немого татя, желудок выворачивало и он блевал, извергая из себя съеденный яд, как он катался по полу, воя и дергаясь в судорогах… а когда он затих, спокойно перевел взгляд остальных бояр.
– Что же мне делать с вами, бояре? – все так же тихо начал я… и они разом повалились на пол и поползли ко мне на пузе, вопя и протягивая ко мне руки:
– Не погуби, государь! Не за себя прошу – за деток малых! Не погуби! Не виноватые они! Не…
– А о чем вы раньше думали? – чуть возвысив голос, прорычал я, поднимаясь на ноги, и бояр будто отшвырнуло от меня. – Ведь двое из вас и так под царевым указом?
Ответом мне были лишь придушенные завывания. Я несколько минут молча смотрел на них, а затем покачал головой.
– Да-а-а… и вы собирались государством рулить? Сына короля польского Владислава на царство звать? О чем вы только думали-то?.. – Я отвернулся и глухо произнес: – Вот что, бояре, видеть я вас более не могу. Так что поедете вы далеко и надолго…
Из пяти отверстых ртов шумно вырвался облегченный выдох.
– …со всеми своими чадами и домочадцами, – продолжил между тем я. – А с кем, вам решать. Вотчины ваши я у вас забираю, но могу… продать новые. Недорого. Тысяч за триста рублев.
Ответом мне был изумленный всхлип. Озвученная мною цифра была просто непомерной.
– Государь?! – испуганно пролепетал один из бояр.
Я усмехнулся.
– А ты поторгуйся со мной, – эдак ласково посоветовал я ему, – поторгуйся…
Бояре притихли. Затем еще один робко спросил:
– А где вотчины-то?
– А по Амуру-реке, – спокойно отозвался я.
Бояре недоуменно переглянулись. Такого названия никто из них никогда не слышал. Но мне было плевать. Я знал, где это, а они… захотят жить – найдут.
– А много землицы-то? – проблеял еще один.
– А вот сколько ты земли до своей кончины распашешь, столько твоим детям в вотчину и пойдет. Ежели, конечно, до того момента со мной расплатиться успеешь, – безразлично закончил я.
Я не играл. Мне действительно было безразлично, что будет с этими людьми. Дойдут и обоснуются – хорошо, знать, русские на Амуре появятся куда раньше, чем произошло в том варианте истории, который я изучал в школе (хотя, убей бог, не помню, когда именно это произошло), нет – да и черт с ними. Мне было все равно…
– Митрофан, – подозвал я начальника моей личной секретной службы, отходя в дальний угол.
– Да, государь. – Он мгновенно возник рядом.
Я помолчал, а затем тихо произнес:
– Они тоже должны заплатить…
Митрофан медленно кивнул. Мы оба понимали, кто такие «они». Четыре года назад я заставил гордых лаймов предоставить моим купцам в Англии такие же привилегии в торговле, коими их купцы пользовались здесь, в России. Именно заставил, пригрозив, что не только лишу их права беспошлинной торговли, но и вообще запрещу торговать с моей страной. Они и так пользовались этим правом уже много более полувека, так что пусть либо соглашаются уравнять условия, либо катятся куда подальше. Поэтому как для короля Якова I, так и для английского торгового сословия, имевшего на любого английского короля крайне сильное влияние, я оказался крайне одиозной фигурой. Мне даже пришлось выделить деньги на покупку моим представителем в Англии титула. Благо король Яков, желая поправить свои финансы, торговал ими направо и налево. Титул баронета, например, стоил тысячу восемьдесят фунтов стерлингов, но я решил не мелочиться и ассигновал сразу на барона. Покупать титул графа было бы слишком вызывающе, а барон – сойдет. Но без титула никуда – иначе это грозило просто остановить все мои операции в стране. А я уже начал массово закупать в Англии овец для развития собственного суконного производства, а также нанимать мастеров для азовских верфей и матросов и капитанов для азовской и каспийской торговых флотилий, да и еще кое-что планировалось. Лаймы все равно отыгрались, выставив меня на бабло, но, как видно, этого им показалось мало, и они решили «навести порядок на диких окраинах»[10]. Недаром полгода назад из Англии в Москву приехал старый знаток дикой Московии лорд Горсей. Он нанес мне протокольный визит, а затем засел на Варварке, в Аглицком доме, где размещалось представительство английской Московской компании, и торчал там, более не докучая мне своим присутствием. Вот, значит, чем он там занимался все это время. Работал, так сказать, с «некоммерческими общественными организациями по укреплению в стране демократии и гражданского общества»…
– На остров не лезь, – добавил я, внезапно осознав, что Митрофан мог расценить мое распоряжение как повеление организовать такую же акцию против сопоставимого английского персонажа.
Ну а сие без барона Конвэя, сиречь моего соученика Тимофея, сотворить невозможно. А его подставлять нельзя ни в коем случае. Да и отравление короля, все равно – удачное или неудачное, должно было сразу же обрушить все мои контакты с Англией. А она мне нужна и, вероятно, будет нужна еще долго. Но спускать им это с рук просто так я тоже не собирался…
– Понял, государь, – снова кивнул Митрофан и, не дождавшись от меня никакого продолжения, отошел.
И в этот момент в Грановитую палату ввалился патриарх. Игнатий уже знал, что я не умер и не отравлен, поскольку после происшествия был допущен ко мне одним из первых. Я не был совсем уж стопроцентно уверен, что он абсолютно не знал о заговоре – интриган он был прожженный и старался отслеживать малейшие изменения ситуации. Так что, может, что и знал и, как любой интриган, мог затаиться, ожидая, чем обернется ситуация и не представится ли случая половить рыбку в мутной воде. Но если и знал, то именно «что и», потому что вряд ли ему были известны подробности. Ибо в этом случае, я почти не сомневался, он тут же прибежал бы ко мне. Потому как при моем отравлении он терял много больше, чем приобретал, что бы ему там ни пообещали заговорщики… И уж тем более, как бы там оно ни было, я был абсолютно уверен, что, узнав о том, что заговор не удался, он, как прагматик до мозга костей, явно и однозначно встал на мою сторону…
– Государь, – задыхаясь, заговорил он, – там… там… там народ у Кремля стоит.
– Как стоит? – не понял я.
– Так – стеной! – Игнатий глубоко вдохнул и, выпустив воздух из груди, наконец-то смог говорить внятно: – Вчера, как слух прошел, что ты, царь-батюшка, отравлен и при смерти лежишь, людишки дюже взволновались. Чуть смута не началась. Но я приказал бить в колокола и зазывать всех на молебен во твое здравие. И они всю ночь молились. Всю ночь, государь! Священников из церквей не выпускали!! А теперь, как уже стало можно сказать, что ты жив и здоров, так все из церквей к Кремлю ломанулись. Желают тебя лицезреть. Ибо уверены, что именно такая молитва народная тебя и спасла. – Он то ли всхлипнул, то ли хмыкнул. – Ты бы видел, государь, как они молились, как они за тебя молились…
Я молча встал, прошел к выходу, спустился по ступеням и, подозвав одного из бойцов сотни холопьего полка, которая в полном вооружении стояла у колокольни Ивана Великого, ну на всякий случай… велел ему слезть с коня, а потом вскочил в седло и галопом выехал через Фроловские ворота.
Да-а-а, такого я еще не видел. Здесь собралась не просто вся Москва, ну нету в нынешней Москве столько народу, тут собралось… не знаю, мне показалось – полстраны. Они стояли и молча ждали, и, когда я выехал из Фроловских ворот, из сотен тысяч глоток вырвался восторженный вопль, а затем люди разревелись… А я, я тоже ревел. Не знаю, может, бессонная ночь сказалась, может, нервное потрясение, может, просто всеобщая атмосфера, но я сидел на коне, вцепившись в узду, и из моих глаз в три ручья текли слезы, как будто у какой-то восторженной тинейджерки при виде своего поп-кумира. Ох, люди-люди, что же вы делаете со мной, со мной – прожженным циником, не верившим ни в Бога, ни в черта, считавшим, что все на свете можно купить, что работать надо только на себя, а на дядю горбатятся лишь идиоты… да мало ли у меня было таких циничных «жизненных истин»… А теперь, как же мне жить-то теперь с тем, что вы на меня взвалили? Это ж ни один человек не выдержит – хребет у него сломается.
Именно в этот момент я внезапно с ужасающей очевидностью осознал, что государь – это не титул, не звание и даже не должность. Государь – это тягло. Тягло перед всей своей землей. И нести мне его не перенести. А еще я понял, что государя должны любить. Нет, не так: государя должны любить!!! Иначе грош ему цена. Нет, его могут ругать, на него могут временами злиться. Ибо ему нет необходимости регулярно, раз в четыре года, наводнять страну слащавой ложью и заискивать перед людьми, нарочно приведенными в состояние толпы, то есть электората, потому что-де выборы и надо пробиться в парламент или еще на какую выборную должностишку при власти. А потом успеть за четыре-восемь лет расплатиться с кредиторами, давшими ему денег на предвыборную кампанию, и заработать себе на достойную старость… А государю ничего этого не нужно. У него вся земля во владении. Причем принадлежать ему она может только вот так, вся, а не каким-то лакомым кусочком типа «Газпрома» или «Норникеля», который можно положить в карман за несколько лет нахождения на вершине власти и спокойно пользоваться все оставшееся время после того, как «исполнил свой демократический долг перед страной и народом». Вот так – все или ничего. Очень… бодрящая мотивация для лидера. Но она заставляет мыслить не в ритме предвыборных периодов, а минимум десятилетиями, а лучше веками. И потому людям вот сейчас конкретно, в этом году, может не понравиться то, что он делает, и они какое время будут ругаться и злиться. Но когда пройдет это время… Государя должны любить! Да, его должны любить даже тогда, когда его ругают и на него злятся! Это и есть его оценка. И она хлеще, чем любые выборы и рейтинги. Ибо тут уже не поиграешь с процентами, не установишь законодательные барьеры, не наймешь политологов и PR-менеджеров, чтобы ненадолго, на пару месяцев, поднять рейтинг, пока не пройдут очередные выборы. Его либо любят – либо нет. Но… как же страшно предать эту любовь. И дело не в том, что это плохо кончится, здесь – казнью, а там, в моем рафинированном и политкорректном будущем, просто неким конституционным переворотом. Дело не в этом… просто преданная любовь тут же обернется ненавистью. А ненависть миллионов уничтожит даже не тело. То, что произошло со мной, ясно доказывает, что тело – чушь, тело всего лишь сосуд, в который налито нечто, вполне способное существовать и в другом сосуде либо вообще без него. Нет, она уничтожит саму твою суть…
– Батюшка-государь! – вывернулся из толпы юродивый Олешка и, звеня веригами, кои он носил на себе и летом, и зимой, бросился ко мне. – Батюшка-государь, – запричитал он, падая на колени едва ли не под ноги моему коню, – пожалей ты нас, холопев твоих! Пожалей! Ведь не выдержим мы смерти твоей, помрем вместях с тобой! Пожалей ты нас!
И вся толпа заголосила в унисон.
– Дай ты нам, – продолжал между тем Олешка, – кровиночку твою! Сыночка! Дай, царь ты наш, Господом нашим, Иисусом Христом данный, благодатью Богородицы осененный!
Опа! А вот это финт. Бояре ведь тоже клялись, что решились на такое еще и из-за того, что, мол, я перед страной и народом должон. Не женюсь, мол, до сих пор наследника не имею. Оправдание, конечно, слабое, однако подобное совпадение мыслей настораживает… Я утер глаза, спрыгнул с коня, поднял юродивого и, погладив его по изъеденной струпьями голове, снова вскочил в седло и вернулся в Кремль, охваченный тяжкими мыслями. Да-а, похоже, действительно настала пора жениться. Вот ведь черт, жениться мне пока совершенно не хотелось. Я и в своем времени был не шибкий сторонник этого дела, а уж здесь… Тем более что для семейной жизни у меня просто нет времени. Я же работаю как проклятый, мотаюсь по стране, воюю, когда прижмет. Вон когда в «Укрощении строптивого» герою Адриано Челентано становилось невмоготу, он мчался колоть дрова, а у меня этих «дров» столько… А если брать чисто сексуальную сторону, то Настена меня вполне устраивала. Да и в остальных смыслах тоже. Вот на ком я вполне спокойно женился бы. Но… Я горько усмехнулся. Нет, братец, в твоем «тягле» установлено, что даже твой брак должен как-то сработать на страну. Поэтому давай поднимай своих посольских дьяков, своих агентов и пусть подыскивают тебе принцессу. А ты все это время будешь молить Бога, чтобы она оказалась не совсем уж уродиной и тебе в процессе исполнения супружеского долга и соответственно долга перед страной и народом не пришлось бы накрывать ее рожу трусами. Впрочем, трусов здесь пока еще и не придумали…
Дальнейшее расследование заговора более ничего не дало. Похоже, эти шестеро действовали полностью автономно, как видно собираясь по успеху заговора организовать эдакую новую Шестибоярщину. А возможно, это было требование Горсея. После того как напротив Аглицкого дома демонстративно появилась и встала в караул сотня моего холопского полка, принявшаяся бесцеремонно досматривать всех входящих и выходящих, а также все выезжающие со двора возы и кибитки, лорд сидел тихо, как мышка. Так что более никого причастного обнаружить не удалось… Но я воспользовался моментом, чтобы показать всем, что означает мой указ о том, что следствие будет вестись «зело пристрастно». И сразу же наложил лапу на вотчины тех почти трех десятков бояр, кои ходили под указом, направив туда своих дьяков. Целый год доходы с этих вотчин шли напрямую в мою казну. Кстати, пятеро из этих трех десятков за этот год дунули за границу, причем трое официально перешли в подданство Речи Посполитой и Швеции, после чего их вотчины я забрал себе уже окончательно, а вот двоим, которые сего не сделали, по прошествии года, когда была официально вынесена резолюция «непричастны», вотчины были возвернуты. Как и тем двум дюжинам, кои остались и год просидели дома, носа с подворий не высовывая и проедая накопленное за прошлые годы… И тем породил легенду, что царь-де крут, но справедлив. В отличие от Грозного, коему так страшно служил его дед, зря ни живота, ни вотчин не лишает. А посему появилась надежда, что теперь при первых же признаках возникновения заговора в составе потенциальных заговорщиков тут же отыщется кто-то, кто, понадеявшись на справедливость государя, моментом примчится ко мне или дядьке Семену с доносом на крамолу. Короче, если бы не гибель Немого татя, то можно было бы считать, что этот неудавшийся заговор только пошел мне на пользу, лишь укрепив мою власть…
Кстати, мои предположения о том, что боярин-князь Мстиславский был если не причастен, но отчасти в курсе планируемых событий, получили косвенное, однако вполне достоверное подтверждение. В возглавляемое им великое посольство вошло около двух тысяч человек, в том числе сотня конных стрельцов, две сотни поместной конницы из вотчинников самого Мстиславского и сотня моего холопского полка, а также почти две сотни выпускников царевой школы и столько же ремесленных людей и молодых монахов, остальные – отроки от четырнадцати до шестнадцати лет, набранные по деревням и посадам. Отправленное за полтора месяца до попытки отравить меня, посольство сумело едва доползти лишь до Казани. Где и застряло. А когда его нагнал гонец с известием о неудавшейся попытке отравить царя и начавшемся большом расследовании, мгновенно стронулось с места и очень даже быстро добежало до Тобольска. Мстиславский явно торопился оказаться вне досягаемости, а я надеялся, что его возможная причастность послужит ему лучшим стимулом в выполнении возложенной на него задачи. Как известно, победителей не судят. А значит, у него остался один выход – вернуться победителем…
Вообще для этого посольства я практически ограбил казну. Ну не столько в финансовом смысле, хотя это посольство обошлось мне в разы дороже, чем любое из предыдущих, сколько, так сказать, в художественном. Так как идти предстояло по местам, где о дорогах до сих пор никто не слышал, все посольство шло одвуконь и волокло за собой еще около двух тысяч вьючных лошадей, на которые были нагружены не только продукты и огненный припас, но и всякая драгоценная посуда и утварь, изукрашенное оружие и все такое прочее. Для подарков императору Поднебесной и взяток его должностным лицам. А в Сибири поклажа должна была еще более увеличиться в размерах, поскольку я повелел набрать в тех краях добро меховой рухляди… Если я правильно помнил (а в Китае я был раз шесть и всегда выкраивал день-другой на поездки по достопримечательностям с хорошими гидами и даже, так сказать, делал инвестиции в китайский антиквариат, в основном в фарфор династии Мин), сейчас там плавно заходила за горизонт великолепная династия Мин, после которой на Китай наложили лапу маньчжуры. Я не назвал бы точно год, но помнил, что это произошло именно в семнадцатом веке. Так что я не видел ничего страшного в том, если мы перед нашествием маньчжуров тоже слегка «пограбим» Китай, сманив оттуда сколько-нито мастеров и вообще всякого полезного люда. Возможно даже, мы кого-нибудь таким образом и спасем, в прямом смысле выдернув из-под копыт маньчжурских коней. Как я помнил из рассказов гидов, как раз перед тем, как династия окончательно ушла в прошлое, там пышным цветом расцвела коррупция. Поэтому Мстиславский, посольские дьяки и мои орлята из царевой школы получили приказ, буде это поможет исполнению возложенных на посольство задач, беззастенчиво ее множить, раздавая взятки направо и налево – и деньгами, и меховой рухлядью, и иным скарбом.
А еще я планировал, что отправленные с посольством монахи (а тако же некое количество выпускников царевой школы) смогут пройти обучение в знаменитом монастыре Шаолинь… Если, конечно, выяснится, что легенды о нем – не развесистая клюква, придуманная в насквозь коммерциализированном XX столетии, где даже из бунтаря Че сумели сделать успешно продаваемый бренд, исправно приносящий денежки в карманы как раз тех, с кем он всю свою жизнь непримиримо боролся, а имеют под собой хоть какие-то реальные основания. Ибо, во-первых, я считал полезным сделать православной церкви некий «впрыск» буддистского мышления, а уж что она из него переварит и возьмет на вооружение, а что отвергнет – ее дело, и, во-вторых, я собирался завести в ней нечто вроде иезуитов. Людей идеи и дела. Людей инициативы, способных к нестандартным ходам и решениям, коим бойцовская подготовка, всегда преобразующая не только тело, но и, я бы даже сказал, в первую очередь мозги, очень бы не помешала. Нет, никакого ордена я создавать даже и не думал. Не хрен подражать этим латинянам. Я планировал выделить под это дело пару-тройку монастырей, в коих и готовить этих, грубо говоря, православных спецназовцев…
Однажды утром в Кремле появился испуганный англичанин, как выяснилось, он был слугой одного английского купца, и сообщил, что поутру в своих комнатах обнаружены бездыханными девять английских купцов и сам лорд Горсей, кои вчера добрым ужином отмечали день рождения одного из купцов. Я прислал лекарей, констатировавших смерть от отравления, и выделил деньги на похороны, на которых стоявшая на страже вокруг Аглицкого дома сотня моего холопьего полка выступила в качестве почетного караула (а как же, такое важное лицо преставилось – целый лорд), после чего проследовала прямиком в казармы. А затем сочинил письмо королю (а если уж быть точным, то скорее его фавориту Роберту Карру, графу Сомерсету, я был более склонен обвинять его в этом предприятии) с выражениями глубокого соболезнования, ввернув туда пассаж, что-де и сам, месяца еще не прошло, как тако ж едва не отравился. Видно, грибки у нас на Москве в этом годе уродились дюже ядовитые…
Немой тать был окончательно отмщен.
3
Аким спрыгнул с коня и быстрым шагом взбежал по ступенькам царевой лечебницы, что была построена в Китай-городе, неподалеку от Проломных ворот. Зайдя внутрь, он быстрым шагом пересек большую присутственную палату, в которую с утра набивалось полно народу, а сейчас уныло сидели по лавкам человек пять, видно заранее занявшие очередь на следующий день, и, подойдя к большим двустворчатым дверям, ведущим во внутренние помещения лечебницы, несколько раз крепко стукнул в них.
– Хтой там? – отозвался хриплый голос больничного служки. – Все, нету приема, закончился.
– Открывай! – проорал только у дверей нагнавший Акима воин охраны. – Государев розмысл к старшему врачевателю!
За дверью тихо охнули, заскрипела задвижка, а затем в приоткрытую щель настороженно просунулась голова больничного служки. Узнав форменный кафтан государева холопьего полка, он облегченно выдохнул и отворил дверь. Дохтура государевых лечебниц обязаны были каждый день попеременно, один дохтур с утра и до полудня, а второй с полудня и до шести часов вечера, принимать бесплатно малоимущих москвичей и приезжих. Поскольку к каждой лечебнице было приписано по десять дохутров, а каждый из них был обязан иметь при себе для обучения по три ученика, кои помогали ему во всем, эта обязанность для них была не шибко обременительной. Тем более что взамен они пользовались возможностями лечебницы для своей частной практики. А возможности были весьма велики. В любой лечебнице имелась прекрасно обустроенная аптека с лабораторией и запасом лекарств, библиотека и личные апартаменты для каждого дохтура, состоящие из его собственной смотровой палаты, в которой он вел частный прием, и еще одной комнаты, где он жил. Кроме того, в здании лечебницы было обустроено два крыла «приимных палат», в коих каждый дохтур имел закрепленные за ним двенадцать коек – шесть в крыле для малоимущих и еще шесть в другом, для тех, кого он помещал под свое наблюдение в процессе частной практики.
Однако разница в потоке частных, оплачиваемых посетителей и неимущих была так велика, что очень многие не успевали попасть на осмотр к дохтуру до окончания приема (хотя приемные часы сплошь и рядом затягивались, ибо дохтура старались обиходить как можно больше страждущих, но есть же предел человеческим силам)… И некоторые буйные нравом, не желая ждать следующего дня, иногда начинали возмущенно колотить в дверь, требуя непременно принять их сегодня, сейчас же, грозя в противном случае разнести двери в щепы. В то же время за любым из дохтуров в любой момент мог прислать кто-то из частных клиентов. Так что служка дежурил у дверей во внутренние покои лечебницы круглосуточно.
– Чичас позову, – отозвался больничный служка, запирая дверь на задвижку.
– Не стоит, – остановил его Аким, – лучше покажи, где его палата.
– Так нетути его там, – отозвался больничный служка. – Господин главный врачеватель в приимных палатах ноне. Там, почитай, все наши дохутра собрались. Свежего болезного смотрят. Только седни в обед положили…
Аким растерянно оглянулся на воина.
– Зови! – решительно рубанул тот воздух ладонью. Он уже давно понял, что государев розмысл, конечно, голова и во многих хитрых и ученых вещах дока, но вот в делах житейских временами что малое дите.
Служка обрадованно кивнул и быстро зашаркал по коридору. А Аким присел на лавку, на которой служка как раз и нес вахту у дверей, и задумался…
В государевы розмыслы он попал совершенно неожиданно для себя. По возвращении из Англии он три года буквально разрывался, одновременно обустраивая новые большие оружейные мастерские в Туле и литейное и железноделательное дело в Твери, Кашире, Серпухове и в новой царевой вотчине на Урале. Уж больно добрые там оказались руды. Бо-огатые… По реке Турье даже обнаружились золотые россыпи, и как государь с этими землями угадал-то? Впрочем, всем же известно, что ему Богородица помогает… Так вот, три года Аким буквально жил в седле и на лодье. Так уж ему удружил его начальный человек в аглицкой земле Тимофей – так зело расхвалил его перед государем, что тот его тако ж и нагрузил… А когда дело наконец пошло на лад и можно было перевести дух, Акима внезапно вызвали к самому государю…
Робко отворив дверь в небольшую палату, в дальнем углу которой за высоким деревянным бюро, кои кузнец до сего дни видел токмо в Англии, сидел молодой, не старше его самого парень, Аким почувствовал, как его сердце отчаянно колотится. И что с того, что он видел государя вблизи, еще когда тот был сопливым мальчишкой? Вернее, нет, не так. Государь сопливым мальчишкой не был никогда. Ибо из него и тогда уже, в совсем юном возрасте, все равно перла какая-то могучая сила, явственно ощущаемая окружающими. Именно она заставляла людей много старше его почтительно склоняться перед царевичем, а вовсе не то, что он был наследником царя… И что с того, что двое его приятелей еще с детских лет теперь шибко близкие к царю люди и видят его чуть не каждый день? Он-то, Аким, прекрасно понимает, кто он, а кто государь! Один из знакомых ему по Белкинской вотчине молодых кузнецов, вельми славный мастер, коему выпало, так же как и Акиму, провести три года на чужбине, но токмо не в Англии, а в германских землях, рассказывал, как к нему подкатывали иезуиты. И уж так речами прельщали, так прельщали, уговаривая в свою веру перейти… А ему ажно смешно было. Ну что эти латиняне тут плетут-то? Это ж ведь у нас, у нас на Руси, государь-чудотворец, благодатью Пресветлой Богородицы осененный. Ну какие тут могут сомнения в том, чья вера истинная и чья земля более благословенная? Не говоря уж том, что не успел государь воцариться, как и крымскую угрозу, о спасении от которой столько годов молились, тут же под корень извели. И чего они тут бормочут, глупые?..
– Аким-кузнец? – спросил молодой государев помощник, едва Аким успел затворить дверь за своей спиной, хотя кузнец мог поклясться, что до сего момента помощник никогда его не видел.
– Д-да…
– Присядь. – Помощник указал тот на лавку. – Государь занят сейчас. А как освободится – сразу и зайдешь.
Аким слегка покраснел, хотел было сказать, что он может и дольше подождать, ежели государю некогда, но все же решил ничего не говорить. А то подумают еще, что он государю советовать вздумал. И просто присел на лавку. Напротив него в углу сидел воин в кафтане государева холопского полка, а еще двоих он миновал, когда входил в палату. Они стояли снаружи, у двери. Но глаза Акима будто магнитом притягивал не этот дюжий и явно опытный вой, а… широкая лавка, что стояла напротив бюро. Прямо в центре нее лежала алая шапка с околышем из медвежьего меха. Именно там, как Аким знал по слухам и рассказам Митрофана, ранее сиживал знаменитый Немой тать, коий уберег государя от яда, подсыпанного ему подлыми изменниками. Люди баяли, что государь изо всех сил пытался его спасти, даже сам, своими руками, еще до появления дохтуров из царевой лечебницы устраивал ему извержения из желудка, а когда тот все-таки помер – долго горевал и плакал. А затем велел эту лавку никуда из палаты не уносить и положить на нее шапку Немого татя. Ну навроде как он все одно еще здесь и по-прежнему бережет государя…
Тут дверь, противоположная той, через которую вошел Аким, отворилась, и из личной палаты государя вышел высокий светловолосый человек. Аким признал в нем славного государева воеводу боярина-князя и царева зятя Скопина-Шуйского, о коем в войсках просто легенды ходили. Он мгновенно вскочил с лавки и согнулся в низком поклоне.
– Кто таков? – удивленно произнес боярин, останавливаясь и поворачиваясь к молодому государеву помощнику.
– Кузнец и литейщик Аким, – отозвался из угла государев помощник, – по личному государя приглашению.
– Аким? – Воевода на мгновение задумался, а затем его лицо озарила добрая улыбка. – Это ты, что ли, придумал, как новую добрую сталь варить, и в Туле мастерские пистолей колесцовых наладил?
– Я, князь-воевода, – кивнул Аким, выпрямляясь.
Воевода рассмеялся и, шагнув к нему, внезапно обнял его и прижал к своей груди.
– Так то не ты мне, я а тебе кланяться должен, мастер Аким! Такое дело сотворил! От всего русского воинства тебе, мастер, земной поклон…
Поэтому в цареву палату Аким ввалился уже совершенно ошеломленным. Но то, что с ним произошло там, ввергло его в еще большее ошеломление…
– Прошу простить, что заставил ждать, – донесся до Акима голос с дальнего конца коридора.
Аким вынырнул из воспоминаний и поднялся на ноги, развернувшись к стремительно приближающемуся к нему дохтуру, одетому в утянутый множеством завязок белый балахон с длинными рукавами, уже ставший для всех дохтуров чем-то вроде форменного кафтана.
– Нам сегодня попался очень необычный болезный. Вот мы вокруг него и хлопочем… Да чего ж мы стоим, идемте же в мою смотровую палату!
Дохтур развернулся и так же стремительно понеся по коридору к своей палате, по пути велев вывернувшему откуда-то молодому парню в таком же лечебном балахоне, видно ученику, принести им некоего «доброго лечебного взвара».
– Не ожидал тебя сегодня, господин государев розмысл, а то бы уже все приготовил, – сообщил ему главный врачеватель, войдя в свою смотровую палату и сразу же бросившись к высокому деревянному шкапу.
– Так что, нешто не готово еще? – нахмурил брови Аким.
– Да готово все, готово, – придушенно отозвался главный врачеватель, роясь на полках шкапа. – И куды ж оно делось-то?.. – пробормотал он себе под нос. – А, вот! Вот тут все, что государь велел сделать. – Он выволок из шкапа большую папку и бухнул ее на стол.
Аким подошел к столу и склонился над рисунками, которые главный врачеватель принялся доставать из папки.
– Вот – ножи для рассечения плоти числом шесть штук, а тако же пилы, чтобы кость пилить, числом две, тако же ножни, зажимы упругие… – перечислял главный врачеватель, Аким же слушал, разглядывая рисунки и морща лоб. – Мы изначально думали, что нам тех ножей и иного всякого хватит, кои в Падуе вельми добро используют, но затем решено было еще вон энти…
– А размеру они какого должны быть? – прервал излияния главного врачевателя Аким.
– Размеру? – Главный врачеватель озадаченно уставился на рисунки. – А действительно… ведь вон энта пила для кости должна быть куда больше, а энти ножни… – Он замолчал.
В этот момент дверь смотровой палаты отворилась, и на пороге появился ученик с медным подносом, на котором стоял небольшой самовар-сбитенник. Сразу вкусно запахло зверобоем, мятой и липовым цветом…
– О, Никифор, а давай-ка быстренько за дохтуром Саввой, – тут же снова озадачил его главный врачеватель.
Его ученик поставил поднос на стол, аккуратно разлил взвар по глиняным кружкам и только после этого тихо выскользнул из смотровой палаты. Похоже, взрывной ндрав главного врачевателя был ему прекрасно знаком, и за время обучения он уже успел к нему приноровиться…
Дохтур Савва, оказавшийся дюжим мужиком, с длинными, едва не до колен, ручищами, более похожий не на дохтура, а на батюшкиного молотобойца Петрушу, прибыл лишь через полчаса, когда они уже успели испить по паре кружек горячего лечебного взвара.
– О-о, Савва, голубчик мой, как же это мы с вами упустили? – подскочил к нему главный врачеватель, едва только вышеупомянутый дохтур переступил порог смотровой палаты. – Насчет размеру-то ничего не указано. Вот государев розмысл сразу углядел.
– Так исправим щас, – отозвался Савва и, присев к столу, придвинул к себе листы и принялся подписывать рисунки: «1 пядь», «полвершка», «3/4 аршина»…
– Савва у нас самый опытный дохтур-хирург, – пояснил главный врачеватель. – Почитай, под себя заказ дает. Кому, как не ему, лучше всех знать, каковой струмент ему более по руке будет.
Аким усмехнулся.
– Ну, тот струмент, что дохтуру Савве по руке будет, кому другому может и не подойти.
– Ништо, – прогудел от стола Савва, – у всех хирургов руки одинакие. Токмо кажутся разными.
– Савва у нас старший воинский врачеватель, – гордо пояснил главный врачеватель, – да не только в нашей лечебнице, а совсем.
– Воинский? – не понял Аким, и главный врачеватель бросился в пояснения.