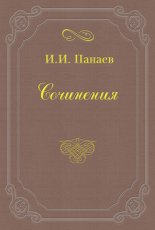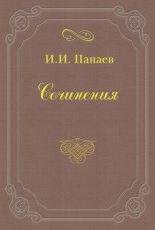Два брата, или Москва в 1812 году Зотов Рафаил
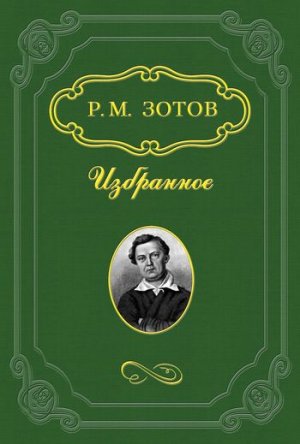
– Так вот бы вам купить у меня этот павильон да поселиться в нем.
– А ваши гости стали бы приезжать смотреть на меня, как на дикого зверя? Нет! Мне надобно уединение и тишина.
– Да, кажется, очень ясно, что, купив вещь, вы делаетесь ее хозяином. Так разве можно ездить в гости к человеку, который вас не знает и не зовет! Я для того предлагаю вам эту покупку, чтоб вы могли совершенно удалиться от людей. Здесь вас никто не будет знать и видеть, и вы будете всякую минуту любоваться природою и заниматься, чем вам угодно. Что? Как вы об этом думаете?
– Вы очень добры. Не зная человека, вы хотите дать ему убежище. Что, если вы потом будете раскаиваться?
– В чем же? Хорош и ласков сосед, я его навещаю; не полюбил меня, мы не видимся. Вот и все. Мы разве мешаем друг другу? У каждого своя собственность. Никто друг другу не обязан; живет себе как хочет. Право, подумайте. Я бы недорого взял, а не понравится после, соскучитесь, возьму назад.
– Чувствую все ваше доброе расположение. Не заслужа его и не имея даже средства заслужить и на будущее время, мне совестно быть вам в тягость. Впрочем, и отказываться я не имею права. Искренность и великодушие так теперь редки; я готов принять ваше предложение, где-нибудь надо же будет поселиться, так почему же не в соседстве с добрым и благородным человеком? Моя будет вина, если я ему наскучу. Тогда я удалюсь без ропота и сыщу другое убежище.
– Никакого нет резона надоесть нам друг другу. Вы будете видеть только тех, кого захотите и когда захотите. А соскучитесь сами, уедете, и бог с вами. Так по рукам! Этот павильон и гора, на которой он стоит, с этой минуты ваши. Поздравляю с покупкою.
Приезжий молча подал Сельмину руку в знак согласия и потом продолжал любоваться ландшафтом. Наконец оба поехали обратно домой.
Весь день прошел в разговорах о будущем образе жизни проезжего в нагорном павильоне. Сельмин убедил его взять покуда это место на аренду, выговоря себе за это самую незначащую цену. Ясно было, что он только хотел щадить деликатность незнакомца, назначая за это плату. А как павильон был только построен на летнее время, то решились тотчас же приступить к отделке его и на зиму. Это требовало времени, и до окончания работ проезжий согласился оставаться в доме Сельмина, отправляясь каждый день в новое свое жилище для надзора за работами. Главною надобностию для будущей жизни проезжий почитал книги, и Сельмин в тот же день по расписанию его отправил в Москву нарочного, чтоб привезти оттуда все нужное.
На другой день началась в павильоне работа, и путешественник стал постоянно проводить свои дни, а иногда и ночи в новом своем жилище. Когда же привезли книги и отделали павильон, то он совсем переселился туда.
В продолжение этого времени, однако же, оба лица узнали друг друга покороче и взаимно почувствовали один к другому уважение. Чем больше Сельмин узнавал проезжего, тем больше открывал он в нем величия души, благородства, познаний и доброты. И тот, с своей стороны, если не находил в Сельмине много образованности, то видел непритворную доброту и искренность. Как скоро какой-нибудь посетитель въезжал во двор Сельмина, путешественник удалялся чрез сад и отправлялся в свой нагорный павильон, но всякий день или Сельмин приезжал туда, или таинственный гость являлся к нему.
Настала и зима. Образ жизни проезжего продолжался тот же, с тою разницею, что он часто заезжал в окрестные деревни к крестьянам, которым нужна была какая-нибудь помощь. Как Егор, старый слуга проезжего, ни приучен был к молчаливости и уединению, но, заведя у себя коров, птиц и других домашних животных, он первый вошел в сношения с окрестными крестьянами и, зная доброту своего барина, пересказывал ему о разных несчастных случаях с ними. Тот сейчас же спешил подавать им помощь, и слава этих благодеяний распространилась повсюду. Мало-помалу начали к нему являться из отдаленнейших деревень за помощью, и никому отказу не было. Это подстрекнуло Сельмина. Он требовал, чтоб его собственных крестьян отсылать к нему, и проезжий повиновался, видя, что Сельмин действительно помогал каждому. Зато другой род помощи прославил путешественника. Пользуясь сведениями, приобретенными в медицинских книгах, он выписал себе из Москвы довольно порядочную аптеку и давал советы и пособия всем, страдавшим каким-нибудь недугом. Многие удачные опыты распространили его славу по всей окрестности, и всеобщее имя отец и благодетель было для него лучшею наградою. Другие полезные его занятия увеличили его влияние и всеобщую к нему любовь. Он предался агрономии и заставил большую часть крестьян отказаться от старинных предрассудков. При них он делал опыты, объяснял им пользу нововведений, улучшал их способы земледелия, и все повиновались, потому что верили ему. Мельницы, каналы, дороги – все подверглось постепенному преобразованию. Сельмин ежедневно радовался счастливому случаю, который привел этого человека к нему. Он всякий раз писал об этом к своему сыну, и тот, в свою очередь, благодарил таинственного гостя за дружбу его к отцу.
Кто же он был? Об этом Сельмин перестал наконец и думать. Всегдашнее печальное расположение духа давало чувствовать, что этот человек испытал какое-нибудь великое несчастие, но где, какое, от кого – это было покрыто непроницаемою завесою. Земская полиция добивалась до обнаружения этой тайны, но Сельмин объявил однажды им, что если кто из них хоть малейшим образом покусится беспокоить незнакомца, то чтоб не знал и дома Сельмина. А как система угощения его оставалась все в прежней силе, то никому не хотелось терять такое выгодное знакомство. Мало-помалу и это любопытство прекратилось. Все перестали заниматься таинственным путешественником, а он продолжал трудиться для всеобщей пользы и добра.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, говорили в старину, и мы должны пропустить без малейшего описания эпизодов целых пять лет. Жизнь этих людей была так однообразна все это время, что нечего сказать о ней. Проезжий решительно сделался отцом и благодетелем всей округи, и даже Сельмин всегда давал ему это название.
Расскажем лучше о случае, который произвел большую перемену в образе жизни пустынника.
Это было в конце мая. Пустынник этот день провел весь у Сельмина; к вечеру, когда он собирался домой, пошел проливной дождь с бурею, грозою, так что старик уговорил его остаться ночевать. Тот остался и поутру встал раньше всех, чтоб уехать в свой павильон. Но едва он начал одеваться, как в дверь к нему выглянула голова привратника сельминского дома.
– Можно ли, батюшка Григорий Григорьевич, войти к вашей милости? – спросил он его.
– Войди. Что тебе надобно?
– Да у нас приключилась такая оказия… Барин еще почивает… да к нему не всегда сунешься с докладом… Не ровен час…
– Ну, что же случилось?
– Да вот извольте видеть. Вы знаете, что я раньше всех встаю… и двор подмести, и лестницы подтереть, и собак накормить…
– Говори прямо, что случилось?
– Да вот извольте видеть. Встал я ранешенько. После вчерашнего дождя утро было ясное, как ни в чем не бывало. Я отпер калитку на улицу, чтоб и за воротами подмести. Что ж, сударь? На самом пороге калитки, вижу я, лежит ребенок и спит, как Божий птенчик, самым сладким сном.
– Ребенок?.. Кто-нибудь из ваших же подкинул.
– Что вы, сударь, Григорий Григорьевич! Как это можно? Кто у нас осмелится подкидывать ребят в барский дом? Да и на что это? У нас, слава богу, станет хлеба про всех. С голоду никто не умирает. С какой же беды подбрасывать детей?
– Кто-нибудь согрешил… незаконное дитя…
– Э, сударь! Бог с вами! У нас этакими делами не занимаются. На селе выдают девок полулетками, по двенадцатому, тринадцатому году. Нет, сударь! Это не из наших, а уж бог весть откуда. И ребенок не простой, а барский.
– Барский? Что за вздор? Откуда? Мы всех соседей знаем наперечет.
– И мы уж с поваром Филькой по пальцам всех пересчитывали. Выходит, что не из здешнего околотка.
– Откуда же? Это странно! Как ребенок одет?
– По-барскому. И подушечка в головах, и теплым одеялом прикрыт. Видно по всему, что сонного принесли и тут положили.
– Это очень любопытно. Я сейчас приду, посмотрю.
Чрез пять минут пустынник был уже у ворот. Действительно, мальчик лет четырех-пяти лежал в глубоком сне, окруженный любопытною дворней. Он был одет в суконной курточке, вышитой золотыми шнурками, в белых канифасных брючках; тонкий воротник батистовой рубашки раскинут был по плечам. Подушка и шелковое одеяло довершали доказательство, что ребенок не из простолюдинов. Прекрасное личико его блистало улыбкою и во сне. Светло-русые волосы вились локонами по шее – словом, то был тип младенческой красоты.
Погруженный в глубокую задумчивость, пустынник долго рассматривал дитя. Какое-то сильное чувство волновало грудь его, но он не сказал ни слова и тихими шагами пошел назад в свою комнату.
– Что ж, батюшка Григорий Григорьевич, прикажете с ним делать? – спросил привратник.
– Ты останься тут и покарауль ребенка, – отвечал пустынник, – а вы все разойдитесь по своим местам.
Последнее было сказано дворне, которая молча повиновалась. Сам же он отправился к Сельмину.
Долго еще спал ребенок. Наконец он потянулся и открыл глаза. С минуту смотрел он с удивлением на окружающие предметы, потом с боязнию вскричал:
– Няня, где ты?
– Няни твоей здесь нет, милое дитятко, – сказал ему привратник, – но ты у добрых людей, и они тебя не покинут.
Пристально посмотрел ребенок на говорящего мужика и не отвечал ни слова. Через минуту, однако же, снова закричал:
– Няня!
– Не пора ли вставать, сударь? Умойся-ка да помолись Богу.
– А где няня?
В эту минуту пришли Сельмин и пустынник.
– А! Душечка, здравствуй! – вскричал Сельмин. – Выспался ли ты? В гостях не надо так долго спать. Вставай! Пойдем чай пить.
С недоверчивостью посмотрел ребенок на говорившего.
– А где папа? В карете? – спросил он.
– Нет, душечка, и папа и карета уехали, а ты остался у нас погостить.
– А мама? Где мама? – прибавил он робко.
– Тоже уехала, да она воротится; а ты у нас покуда погостишь, поиграешь… Пойдем же в комнату. Ты пьешь по утрам чай?
– Как же! Да сперва надо вымыться и помолиться… А что, разве теперь утро?
– Разумеется. А что же, по-твоему?
– Не знаю: я уснул недавно в карете… Солнышко садилось в черные тучи. Мы ехали так скоро… А когда приехали и как остановились здесь – не помню.
– После вспомнишь, дружок, теперь пойдем.
Ребенок повиновался. Однако же, пройдя несколько шагов, остановился, поежился, пощупал свою грудь, засунул руку за курточку и вытащил оттуда какую-то бумагу.
– Что это? – спросил Сельмин.
– Не знаю. Разве няня положила. Я буду после вырезывать из нее куклы.
Но Сельмин взял уже бумагу, прочел ее, внимательно посмотрел на пустынника и молча повел ребенка за руку в комнаты. Там сдал он его на руки своему камердинеру, чтоб его умыть, дать помолиться и потом привести к нему. Сам же пошел с пустынником в кабинет.
– Поздравляю, любезный Григорий Григорьевич, – сказал он ему полушутливым тоном. – Это подарок тебе.
– Как мне? Какой подарок? – вскричал тот, покраснев.
– Да уж нечего краснеть. Прочти и признавайся.
Он ему подал бумагу, вынутую ребенком из-за пазухи.
Она была без подписи, но едва пустынник взглянул на нее, как закрыл глаза рукою и опустился в кресла.
– Это от него! – вскричал он. – Несчастный! Вражда его так же слепа, как и непримирима.
Тихо начал он читать роковую записку. Она была следующего содержания:
«Петр Александрович человек добрый и благородный. Но я очень сожалею, что он дал убежище другому человеку, который не стоит его дружбы. Наруша священнейшие узы природы, может ли он быть верным кому-нибудь? Притом же у этого человека нет ни имени, ни звания. Он добровольно отрекся от них, потому что чувствовал себя недостойным быть в обществе благородных людей. Каким же образом он вкрался в доверенность Петра Александровича?.. Впрочем, это не мое дело. Мой долг был только предостеречь. Между тем прошу Петра Александровича передать этому человеку ребенка, которого я нарочно оставил у ворот. Скажите вашему знакомцу, что мне чужого не надо и что я без живых доказательств знаю всю правду. Скажите ему, что ребенок этот умер для всего света, потому что я представил уже и свидетельство об его смерти. Если этот человек хочет пощадить хоть сколько-нибудь известную ему особу, то чтоб я никогда не слыхал больше ни о нем, ни о ребенке».
Долго смотрел пустынник на мертвые, таинственные буквы письма, так жестоко напоминавшие ему несчастную его судьбу. Он совсем забыл, что перед ним стоит Сельмин и с любопытством наблюдает за каждым выражением его физиономии. Прошедшее в виде грозного привидения представилось ему вдруг так ясно, что он невольно зарыдал.
– Ради бога, любезный Григорий Григорьевич, успокойтесь, – с искренним чувством сказал Сельмин. – Несчастия никогда не должны побеждать истинного христианина. Вы сами столько раз мне твердили, что жизнь наша не что иное, как испытание. Переносите его мужественно и верьте в правосудие Божие.
– Да! Оно одно только и остается мне, потому что от людей я ничего не ожидаю, кроме злости и несправедливости. Я и решился переносить свою судьбу без ропота. Я сам себе ее выбрал и прощаю моих врагов. Но я хотел терпеть один, а теперь!.. Этот бедный ребенок… За что он осужден? Может ли быть что бесчеловечнее и несправедливее?
– Вы знаете, что я уже уважаю все ваши тайны, но я не вижу причины так огорчаться участью ребенка. Если он был в руках у человека, который жесток и несправедлив, то не лучше ли ему быть у вас? Вы ему замените отца… А что касается до странного объявления в письме, что он выдал его за умершего, то, кажется, это всегда легко переделать. Если тот, кто писал эту записку, действительно нашел средство достать свидетельство о мнимой его смерти, то вы сейчас же можете послать просьбу в Синод[2]; оттуда пошлют по всем епархиям, и верьте мне, что у нас ничего подобного сделать нельзя. Я даже думаю, что вам только хотели погрозить или огорчить вас. Все, что незаконно, сейчас разрушится перед малейшим разысканием правительства.
Мрачно опустил путешественник голову на грудь. Успокоили ли его убеждения Сельмина, или собственная решимость одержала верх над первым порывом отчаяния, он через минуту вздохнул свободнее и протянул руку великодушному своему хозяину.
– Душевно благодарю вас, добрый Петр Александрович, – сказал он ему, – за ваше сердечное участие. Вы совсем забываете, что письмо говорит вам обо мне. Я не стою вашей дружбы и доверенности.
– Вот видите ли, Григорий Григорьевич, у меня дурная привычка судить о людях не по словам, а по делам. Если бы писавший это письмо был прав, то он бы подписал свою фамилию или сам бы явился, чтоб уличить вас в том, в чем он может обвинить. Он этого не сделал, так я покуда почитаю его за клеветника, а о вас остаюсь при прежнем своем мнении. Не переменяйтесь и вы ко мне, и, верьте, у нас пойдет хорошо. Через два-три дня мы и забудем о письме.
– Нет, любезнейший Петр Александрович, долг мой требует теперь оставить вас. Я не хочу, чтоб кто-нибудь мог подозревать меня в бесчестных поступках. Сегодняшнее письмо, этот ребенок – все должно подать вам повод к догадкам, невыгодным на мой счет. Открыть всего я вам не могу. Вы сами теперь видите, что это не моя тайна. А быть предметом каких-нибудь подозрений, пересудов всех соседей…
– Ну, уж воля ваша… Человек вы умный, а говорите бог знает что. Мы, кажется, с вами живем не день, не два. Кажется, могли узнать друг друга. Неужели вы думаете, что я стал бы притворяться перед вами и не выказал бы всего, что думаю и чувствую? Ошибаетесь, Григорий Григорьевич. Я уже отживаю свой век и не переменюсь ни для кого. Вы видите сами, как я трактую всю губернию… Хорош, так очень рад, дурен, так и вон прошу; я к этому всех здесь приучил, и все это знают. С первого взгляда вы мне понравились; чем более узнавал я вас, тем сильнее чувствовал к вам дружбу и уважение. Теперь хоть сто писем и столько же ребят пусть присылают, я ни на волос не переменю своего мнения. Оставить меня вы можете, это в вашей воле, но это будет величайшая с вашей стороны несправедливость. У меня отнимаете вы одного друга, которого я здесь имею, а весь околоток лишите благодетеля и покровителя. За что? За то, что безыменное письмо вас бранит… Ну, основательно ли это? Воля ваша, а вы не правы.
– Да, не прав, и благодарю Бога, что он мне послал человека, который меня мирит с человечеством. О! Несчастное письмо право: оно вас назвало человеком добрым и благородным. Оно право и в том, что я человек без имени и звания и что сам добровольно отказался от них…
– Да бросьте вы, пожалуйста, это глупое письмо, я о нем и знать не хочу. Кто-то подкинул сюда ребенка. Тем лучше. По русским приметам, это Божие благословение. Мы заменим ему место отца, и поверьте, что дитя будет счастливо. Ну же, Григорий Григорьевич, вашу руку!.. Забудьте все, что теперь случилось. Вы не должны со мной расстаться, не правда ли?
Молча подал пустынник руку Сельмину. В эту минуту привели ребенка, который все еще робко и печально озирался.
– А! Здравствуй, дружок, – сказал ему Сельмин. – А как, бишь, тебя зовут?
– Саша.
– Ну так, Сашенька, садись вот сюда и пей чай. Послушайте, Григорий Григорьевич, – сказал он, обратясь к пустыннику. – Не из пустого любопытства, а только чтоб познакомиться с дитятею, я его буду обо всем расспрашивать, на что он отвечать может. Не огорчит это вас?
– Тот, кто так жестоко и бессовестно оставил своего сына на большой дороге, верно, знал, что ребенка будут обо всем расспрашивать. Следственно, это его дело. Таинственность нужна ему, а не мне.
Сельмин начал свои расспросы:
– Ну, откуда же вы, дружочек, ехали? Из Москвы или из Владимира?
– Не знаю.
– Ты тогда говорил, что видел солнце, как оно садилось. С которой стороны оно было?
– Ни с которой. Оно все уходило за карету. Я становился к дверцам, чтоб видеть его.
– Значит, вы ехали из Москвы. Ну, а много ли вас сидело в карете?
– Четверо: я, папа, няня и Егор.
– А мама?
– Мама осталась дома. Она плакала…
– О, ради бога, Петр Александрович, – вскричал пустынник, – не спрашивайте у него о бедной матери. Мы с ним оба заплачем.
– О, будьте спокойны. Вопросы мои будут самые невинные. Ну, дружочек Саша, а долго ль вы ехали с папенькой в дороге?
– Не знаю.
– Ночевали ль вы где-нибудь дорогою?
– Не знаю. Я спал. У нас горели фонари в карете. Я смотрел на них и спал.
– Ну, а помнишь ли ты, что ты вчера делал?
– Помню. Вчера мы тоже ехали, где-то обедали. Ввечеру я чаю не пил, а дали мне рюмку чего-то сладкого. Я помаленьку все выпил. Мне захотелось спать… Тут мы приехали домой… я видел маму, папу. Она все плакала и целовала меня, а папа все кричал и сердился.
– Это было во сне.
Ребенок отпил чай и опять стал звать няню.
– Ее, душечка, нет здесь. Ее увез папа. Они будут через несколько дней.
– Да мне папы не надо. Я хочу няню.
– Да, если папа не хочет, чтобы ты был с нянею, так ведь надо же его слушаться?
– Ах да! Он и то все сердится.
– За что же? Ты, верно, все шалишь, капризничаешь?
– Я при нем и не пошевельнусь, а он все бранит.
– Ну, это все пройдет. Вот тебе новый папа, – сказал Сельмин, указывая на пустынника. – Он не будет браниться.
Робко посмотрел Саша на пустынника и печально склонил голову.
– Ну, чем же ты занимаешься? Во что играешь? Какие у тебя игрушки?
– Да у меня были разные куклы: разносчик, солдаты, молочница, пузатый немец. Они ходили друг к другу в гости, разговаривали, и мне было весело.
– Ну, я тебе велю купить новых кукол, а покуда их привезут, что ж ты будешь делать?
– Я буду из бумаги вырезывать. Дайте мне ножницы и бумажки.
– Хорошо, дружочек, все получишь. Будь только умницей и не скучай.
Любопытно было посмотреть на старого добряка, который принялся хлопотать около мальчика, чтоб его рассеять и занять. Он не менее самого ребенка был доволен, когда увидел, что тот забыл все свое горе и преспокойно стал вырезывать бумажные куклы, которые заставлял ходить, говорить, плясать и сражаться. Когда он соскучился этими играми, Сельмин повел его по саду, рвал для него цветы, ловил бабочек, и таким образом в продолжение дня Саша привык к нему, полюбил его и ни разу не вспомнил о няне. Пустынник провожал их повсюду, хотя и редко мешался в разговор. По всему было видно, что он с трудом преодолевает сильное волнение чувства, и Сельмин не обращался к нему вовсе ни с какими вопросами. К вечеру все трое отправились к пустыннику в павильон, и Саша чрезвычайно был доволен дорогою и новым своим жилищем. Сам Сельмин устроил мальчику кровать, уложил его и не прежде уехал, как тот уснул. С жаром пожал пустынник при прощании руку благородного старика и долго смотрел ему вслед, когда он уехал. Тут только, предоставленный самому себе, несчастный снова зарыдал и бросился на землю, но из этого отчаяния извлек его голос другого друга, не менее преданного, хотя и более скромного, голос старого его слуги.
– Батюшка, Григорий Григорьевич, – сказал он, подойдя к нему, – пожалуйте в комнату. Теперь роса, трава мокрая, простудитесь.
Тот угрюмо взглянул на него и не отвечал ничего.
– Сделайте милость, встаньте и пожалуйте в комнату. Послушайтесь старого своего слуги. Ей-богу, простудитесь.
– Что ж за беда? – сказал сквозь зубы пустынник. – Скорее конец. Жизнь моя никому не нужна. Одним несчастным на свете менее.
– Грех, сударь, большой грех накликать на себя болезнь и смерть. Вы всегда были, право, добрым христианином и знаете Писание. Если Бог наслал горе, надо терпеть его. На том свете все с лихвою заплатится. А теперь надо беречь себя. У вас теперь есть о ком и позаботиться. Бог дал вам нежданного гостя.
– Ты знаешь ли, кто этот ребенок?
– Как же не знать, сударь? С первого взгляда узнал. Как две капли воды на отца похож и на вас, Григорий Григорьевич. Ах ты, боже мой! Что это сделалось с Иваном Григорьевичем, что он собственное свое детище…
– Молчи и никогда никому не смей проговориться, что знаешь, чей он сын. Ты прав. Я теперь должен посвятить свою жизнь, чтоб загладить вину брата, сделав счастие его сына. Пойдем… Смотри, с этой минуты будь неотлучно при нем. Береги его как глаз…
– Вестимо, батюшка, Григорий Григорьевич, кому же и присмотреть за дитятею? Я ведь один у вас. Займу его не хуже няньки Василисы.
Пустынник вошел в комнату, взглянул на спящего ребенка, повергся пред иконою Божией Матери, и теплая молитва успокоила наконец бурю его чувств. Он стал хладнокровнее, рассудительнее; обдумал все будущее и составил себе план, каким образом воспитать ребенка.
Глава III
Как медленно текут часы и как быстро пролетают годы! Вот вечная жалоба людей, которым нечего на свете делать. Найдите же себе занятия, которые бы развивали ваши познания, займитесь таким делом, которое полезно всему обществу, и вы увидите, что и часы текут слишком быстро, что вам бы надо было не двадцать четыре часа в сутки, а по крайней мере тридцать шесть и что слово скука изобретено праздностию и невежеством. Человек создан для деятельности, для усовершенствования самого себя. Это цепь его занятий, и она бесконечна. Дойдя до предела жизни, всякий сожалеет о лучшей половине дней своих, даром потерянных, без пользы погубленных. Всякому хотелось бы воротить их, но неумолимая смерть выводит его в вечность, и чем мы там будем заниматься, известия еще не дошли до нас. Так до времени трудитесь, делайте что-нибудь полезное, а пуще всего не скучайте. Это самая дурная рекомендация вашей образованности. У человека много есть предметов, которыми можно заняться.
Пока у Сельмина не поселился пустынник, старик часто скучал, хотя всякий день у него были гости. Теперь он все жаловался, что недостает времени на исполнение всех планов, которые он ежеминутно предпринимал. Пустынник с первой минуты своего поселения в павильоне был бы очень несчастлив, если б стал только заниматься своим горем. Но он вздумал быть благодетелем окрестной страны, и это занятие смягчило удручавшую его печаль. Теперь появление Саши было для него новым ударом, но он отчаянно противопоставил веру в Провидение и победил горе беспрестанными заботами о дитяти. Сперва слух о чудесном появлении ребенка привел в движение все умы и языки окрестных провинциалов, но после многих догадок и советов все решили, что это сын пустынника, которого он сам велел привезти, что это, вероятно, плод какой-нибудь таинственной любви и что Сельмин только притворяется, что будто ничего не знает, а в самом-то деле, верно, заранее знал обо всем. Таким образом перестали наконец говорить и об этом, а пустынник между тем продолжал заниматься воспитанием ребенка.
Система детского воспитания находится еще на степени младенчества. В науках, в механических искусствах, в гражданском законодательстве, в промышленности и комфорте мы делаем чрезвычайные успехи и все уверяем себя, что человечество идет вперед, а главный предмет человеческой жизни – первоначальное образование человека все на той же самой степени, на какой было за сто, за двести, за триста лет. Конечно, это не России касается. Настоящая ее жизнь началась только с благословенной династии Романовых, а первоначальное воспитание с великого монарха-самоучки, который сперва сам всему выучился, чтоб после учить свой народ. Следственно, мы – младшая семья европейской образованности и во сто лет не могли далеко уйти. Но наши старшие братья, что же они делают? Как они воспитывают своих детей? Заботятся ли они, чтоб с малолетства делать из них людей полезных, добрых, образованных? И не думают! Тысячи ученых обществ толкуют о физиологии человеческого рода, а ни одно не вздумает заняться исследованием, как воспитать младенца. Как было прежде, так и теперь, так и в будущем поколении. Сперва избалуют ребенка на руках необразованных мамок и нянек, которые натолкуют ему всякий вздор, как будто стараясь подделаться под идеи детей. Сперва изнежат его или излишнею заботливостью матерей, которые думают, что любят детей своих, когда исполняют их капризы, или при равнодушии светских родительниц оставят ребенка на произвол нянькам и слугам, которые внушают ему все чувства своего состояния и невежества. Учить его слишком рано боятся, чтоб не утомить слабые силы умственных способностей; потом вдруг принимаются мучить детей разными азбуками, складами, письменами, грамматиками, цифрами, ландкартами, историями, и несчастное создание сидячею жизнью и утомительным напряжением памяти добьется наконец до двадцати лет. Тут он начинает другой младенческий возраст. Он в обществе столько неопытен, как и пятилетнее дитя, целые двадцать лет проводит с такими малолетками, у которых образовались свои идеи, свои правила, свои мечты. Во все это время видел он во взрослых только своих учителей, и те вовсе не думали говорить ему об обществе и его условиях; они толковали только о науках, которые обязаны были преподавать, и то каждый по своей методе. Родители же и знакомые, с которыми он иногда видался в это время, говорили ему одно: учись, душенька, и обращались как с ребенком, не почитая за нужное посвящать его в таинства вседневной, общественной жизни. Таким образом выучившийся юноша вступает в свет, не зная о нем ровно ничего. Лет десять надобно ему горькою опытностию и неудачами добиваться познаний, как жить и вести себя с людьми, как снискивать их дружбу и как самому быть полезным другим. И вот ему уже тридцать лет. Вот когда он начнет только жить… Что ж, надолго ли? Через десять лет он уже говорит, что ему пятый десяток и что ему все надоело. Следственно, десять лет! Бедное человечество!
А самая метода учения! Кто ее выдумал? Верно, это наследие готов и вандалов. Все основано на механизме памяти, ничего на рассуждении; все сидеть да твердить; все по принуждению, из наказаний или награждений: собственного побуждения, любопытства, жажды к познаниям никто не добивается. Как будто боятся сделать их слишком рано людьми. Варварские, арабские цифры идут прежде ясной геометрии.
Учат географии, не дав понятия об астрономии. История становится вытверженною хронологиею: о моральном смысле ее никто не думает; о применении к познаниям нравов, законов, военного искусства, идей промышленности и торговли никто не заботится. Учитель учит, потому что получает за это плату. Курс кончен, на экзамене отвечал бегло, ступай в свет; служи, живи, женись – и воспитывай детей своих точно так же. Это ужасно! О всем пишем, пишем истории, романы, повести, драмы, стихи, а иногда и ученые книги. Подвинули ли они воспитание хоть на шаг? Нисколько. Пишут иногда и об этом предмете, но все это спекуляция, а философическо-физиологическая цель, к чему она? Разве кто живет для этого? Живут для того, чтоб сделать карьеру или обогатиться, все прочее вздор. Да если б и стал кто-нибудь писать подробную поучительную чепуху, разве бы кто послушался его? И не взглянули бы на такую книгу.
А сколько, сколько надобно писать о способе воспитания!.. И не о методах учения, а о воспитании с самого младенчества. Когда, по-видимому, это маленькое существо лишено еще способности рассуждать, уже тогда зарождаются в нем пороки и добродетели, которые характеризуют его в зрелом возрасте. Первая болтовня, первые идеи, первые привычки, впечатления составляют основу этого животно-умственного создания, называемого человеком. Эти игрушки должны бы быть первыми наставителями его; убаюкивания кормилицы должны бы были заключать в себе нравственные идеи; болтовня няньки должна уже внушать правила жизни и добра. Мы стараемся примениться к детским идеям, чтоб они могли понимать нас. Какая жестокая ошибка! Мы должны их возвышать к нашим понятиям. Не заботясь о присутствии детей, мы кричим, ссоримся, бранимся при них, а иногда и хуже этого делаем: это первый зародыш будущих их пороков.
Но довольно! Все это мечты, и если они когда-нибудь сбудутся, нас давно не будет. Наше дело только сказать, что пустынник понимал всю важность первоначального воспитания детей и почти безотлучно был при Саше, чтоб караулить все его впечатления и направлять все мысли. Он выучил его говорить по-французски и по-немецки тем, что каждый день в неделе назначен был для которого-нибудь из них. Читать он выучился уже тогда, как умел писать, то есть соединяя обе вещи без азбуки и складов. Геометрию знал он прежде, нежели умел сделать сложение. По вечерам в ясную безлунную ночь умел он назвать все звезды на горизонте и знал главные свойства каждой планеты, не зная еще географических границ Европы. Всемирную историю мог он рассказать, как приятную сказку, не зная еще, что сам он русский и что цель жизни его – польза отечества. И все это он приобрел, не сидя и не сгибаясь за школьною лавкою, где обыкновенно приходят с полуготовым или вовсе невыученным уроком для того, чтобы разговаривать с товарищем о будущих или прошедших шалостях, – нет, он узнал это, бегая по полям, работая в саду или привыкая к хозяйству. Собственное любопытство его требовало пояснения: каким образом делается масло или отчего гремит гром? Как печется хлеб и куда заходит солнце? Из чего делается рубашка, откуда берется дождевая вода в облаках? Чего он не понимал, то спрашивал другой, третий, десятый раз – и таким образом затверживал все.
Так прошло десять лет. Саша был уже пятнадцатилетний мальчик, и Сельмин не мог надивиться и нарадоваться его успехам. Один пустынник замечал только странную черту этого юношеского характера и приписывал ее первым годам детства, проведенным с матерью, с няньками, которые его баловали, и с отцом, которого он боялся, как зверя. Саша был робок с мужчинами и весел, жив, остер с женщинами (которые иногда приезжали к Сельмину); впрочем, он надеялся, что публичное воспитание, которое было ему еще необходимо, изгладит эту странность.
В тот день, как ему минуло пятнадцать лет, пустынник объявил ему, что в скором времени отвезет его в Москву и отдаст в университет, чтобы там окончить курс наук. Это известие сперва испугало, опечалило Сашу. Он привык ко всем существам, мелькавшим вокруг него, и прежняя жизнь совсем изгладилась из его памяти. Об отце и матери вспоминал он чрезвычайно редко, и то как будто отдавая себе отчет в смутном сне, когда-то им виденном. Ни Сельмин, ни пустынник никогда не говорили ему о первых днях его младенчества. Ему же самому и в мысль не приходило, что он должен быть чей-нибудь сын и иметь какую-нибудь фамилию. Зная в области наук гораздо больше, нежели обыкновенно в эти года знают, он не знал, что был чужой всем окружающим его лицам. Привыкнув звать дяденькою и Сельмина и пустынника, он думал, что ему больше ничего не нужно. Увы! Этот приятный обман должен был вскоре кончиться.
Пустынник сообщил, разумеется, свой план Сельмину, и тот не только одобрил его, но еще решился ехать с ним в Москву. Имя его и знакомства могли там помочь Саше и отвратить всякие затруднения при приеме, а таинственность пустынника умножила бы их только. Хотя пустынник и чувствовал, что эта поездка была новою жертвою его дружбы, но он не отказался от нее, потому что польза Саши требовала того. Сам он не мог явиться в общество. С лишком пятнадцать лет протекло с тех пор, как он оставил свет, и в это короткое время все изменилось в обществе, в котором он жил. Екатерины II не стало, известие об этом повергло пустынника на несколько недель в глубокую печаль. Мало-помалу газеты известили его, что большая часть людей, которых он знал в свое время, исчезли с политической сцены. Явились другие, и отчуждение от света казалось теперь пустыннику не так уж тягостным. Но вот прошло еще четыре года, и новое, славное царствование озарило Россию. Опять он узнал, что новые светила взошли на горизонт общественной деятельности, и ему теперь казалось, что он, явясь даже под настоящим своим именем в свет, был бы совершенным пустынником. Так одно десятилетие изменило все.
Во время своей пустыннической жизни у Сельмина он через него познакомился с одною важною духовною особою, и как печальное состояние его души влекло его к набожности, то он часто старался видеться с этим архипастырем. Тот тоже чрезвычайно полюбил его, и беседы их всякий раз открывали прекрасные качества души обоих этих лиц. Под печатью духовного покаяния вверил пустынник всю тайну своей жизни этому человеку, который принял с тех пор живейшее участие в судьбе страдальца и в маленьком приемыше, которого рождение было теперь ему известно. По самому счастливому стечению обстоятельств случилось, что в то именно время, как пустынник собирался ехать в Москву с Сашею, эта духовная особа была вызвана туда же для занятия какого-то значительного поста духовной иерархии. Он сам предложил пустыннику по приезде своем в Москву остановиться у него в монастыре, бывшем где-то за городом, и это было для пустынника новым счастием. Он чувствовал, что нельзя оставить Сашу на произвол судьбы и что ему должно поселиться в Москве на все время его университетского курса. Предложение духовной особы спасло его от сообщества со светом, а ходатайство Сельмина должно было помочь формальному ходу приема Саши.
Приготовления к отъезду тянулись очень долго, потому что прием совершался весною, а они начали собираться с осени. Наконец решено было отправиться по последнему санному пути в Москву.
Более всех доволен был Саша. Он уже столько начитался о чудесах Москвы, что воображение его рисовало ему во сне все здания, которых описание он находил в книгах. После Саши старый Егор был особенно рад счастью юноши. Он во все это время заменял ему няньку и дядьку. Привязанность его к нему равнялась неизменной верности к пустыннику. Одним словом, он был один из тех типов служительской преданности, какую можно найти только в России.
Наконец все отправились в Москву и пристали в монастыре у духовной особы, которая ранее их уже туда приехала. Разумеется, только пустынник с Сашей остались тут, а Сельмин через два дня переехал в город к одному из своих знакомых. Сына его, Сашеньки, который уже был тогда капитаном гвардии, не было тогда в Москве: Аустерлицкая кампания вызвала русских на первую попытку с Наполеоном. Со дня на день ждал Сельмин известия о возвращении, потому что война была кончена и, по газетам, войска наши уже давно шли обратно на родину. Носились, правда, слухи, что, вероятно, скоро опять придется подраться, потому что с Наполеоном мудрено было ужиться; но эту государственную тайну знали немногие, а массе народа какое было дело до будущего. Сельмину только хотелось свидеться с своим Сашенькою, обнять его, благословить и опять махнуть рукой на многие лета.
Тотчас же по приезде пустынника отпустил он Сашу с Егором, чтоб осмотреть Москву. Можно вообразить себе впечатление, которое произвел на Сашу вид обширной столицы! Церкви, здания, площади, многолюдство – все его изумляло и восхищало. Вдруг какая-то задумчивость овладела им. Только в эту минуту какое-то смутное воспоминание привело ему на память, что когда-то он видел тоже такие здания, храмы, улицы; но где, давно ли – в этом он никак себе не мог дать отчета. Он спросил, однако же, Егора об этом, и тот имел довольно догадливости, чтоб уверить его, что это был сон.
– Вы, сударь дома начитались в книгах столько о Москве, – сказал он ему, – что вам, верно, часто снилось об этом… Вы мне даже не раз рассказывали об этом. Вот теперь вам кажется, что видели где-то Москву.
Саша принужден был согласиться, потому что другого ничего не придумал.
Хлопоты Сельмина о приеме его в университет начались тотчас же по приезде. Тогда существовал еще во всей красе университетский благородный пансион, и туда-то надобно было поместить Сашу, потому что поступающие оттуда в университет пользовались большими преимуществами, если не в правах и чинах, то, по крайней мере, в общественном мнении. Хотя неважного труда стоило достать свидетельство об его рождении и крещении, но пустынник имел, конечно, причины желать, чтоб Саша поступил под другою какою-нибудь фамилиею. Следственно, главное затруднение предстояло в том, чтоб убедить ректора принять Сашу под чужим именем. В этом помогла ему та духовная особа, с которою пустынник познакомился еще в деревне Сельмина. Зная тайну его жизни, он сам отправился к ректору и, не открывая ему причин, побуждавших скрывать фамилию ребенка, ручался, однако, что рождение его законно и что он родовой дворянин. При выпуске надеялся он, что обстоятельства позволят принять ему настоящую фамилию, но до тех пор он просил, чтоб один ректор знал ее и хранил у себя его бумаги. Подобной особе отказать было нельзя, и Саша внесен был в список под именем господина Тайнова.
Сам же архипастырь привез потом и Сашу вместе с Сельминым и пустынником. По особому уважению к лицу ходатая освободили даже Сашу от обычного экзамена при приеме, потому что ректору представлен был реестр предметам, которым тот обучался. Их было гораздо более, чем требовалось, следственно, ректор не хотел показать ни малейшего сомнения к словам протектора молодого ученика.
Объявлено было, что испытание сделано и что Александр Тайнов получил полное число баллов.
Дружески пожал покровитель руку ректору и после дружелюбного разговора уехал с Сельминым и пустынником, оставя Сашу, которого ректор отвел в класс и наилучшим образом рекомендовал профессору, читавшему в это время свою лекцию.
С любопытством смотрели на Сашу прочие молодые студенты, и слово протекция перелетало шепотом по всем скамьям. Все полагали, что Саша не более как маменькин сынок, который явился для того, чтоб посидеть между ними года два, взять аттестат и служить потом под крылышком какого-нибудь благодетеля. Однако же мнение это переменилось, когда профессор обратился к Саше с некоторыми вопросами, чтоб узнать, знает ли он хоть что-нибудь. Саша, от природы довольно словоохотливый, не потерял присутствия духа и высказал все, что знал по этой части. Все были в изумлении. Сам профессор осыпал вновь прибывшего похвалами, и с этой минуты прочие студенты увидели, что молодой Александр Тайнов заслуживает их дружбу и уважение.
Когда класс кончился, профессор снова вступил в разговор с Сашею, и все окружили их. Когда же профессор ушел, толпа студентов не отходила от нового товарища. Всякий осыпал его вопросами, на которые бедный Саша отвечать почти не мог. Его спрашивали: кто его отец, где служит, где живет, богат ли, много ли крестьян, в каком пансионе Саша воспитывался и тому подобное. Кое-как объяснил он самым настойчивым все, что пустынник приказал ему рассказывать, и это снова расхолодило жар студентов. «Дьячок, семинарист!» – ворчали они и, пожав плечами, удалялись. Когда же увидели Егора, который пришел за ним и звал его домой в монастырь, то большая часть студентов начали громко смеяться над бедным молодым человеком, который почти со слезами спешил уйти от них.
Придя домой, рассказал он все происшедшее пустыннику; тот успокаивал оскорбленное самолюбие юноши всеми возможными доводами рассудка и религии. А Сельмин еще более потом убедил его, рассказав, что везде так поступают с новопринятыми и что это больше делается из зависти к его познаниям.
На другое утро отправился он опять с Егором, которому Сельмин приказал отнести какое-то письмо к ректору. В этом письме описана была встреча, сделанная Саше студентами. Сельмин просил ректора оказать юноше свое покровительство по этому случаю. Ректор опять отвел сам Сашу в класс и, рекомендуя другому профессору, объявил, что вновь принятый студент воспитывался у духовной особы, известной своим строгим благочестием, а потому просил профессора внушить всем прочим судентам, чтоб они над новопринятым товарищем не смеялись и еще менее смели бы обижать его, в противном случае подвергнутся взысканию. По уходе ректора профессор сказал несколько поучительных фраз и принялся за Сашу, чтоб испытать его познания. И на этот раз испытание кончилось самым удачным образом: Саша отвечал быстро, ясно и удовлетворительно.
Когда кончился класс, студенты в ожидании прибытия другого профессора обступили Сашу и, не решаясь явно нападать на него, старались язвить намеками и остротами. Однако же приход профессора прекратил эту сцену, и Саша на этот раз сам явился рекомендоваться.
– Господин ректор говорил уже мне о вас, господин Тайнов, – отвечал профессор, – и мне очень приятно иметь в числе своих учеников такого отличного молодого человека.
Эти всеобщие похвалы и хороший прием начальников убедили вскоре прочих студентов, что гораздо лучше подружиться с Сашею, нежели ссориться с ним. Ближайшие товарищи его на той лавке, где он сидел, прежде всех старались связать с ним знакомство. Первые попытки их были, однако же, не очень удачны, потому что Саша, по новости ли самого положения, по действительной ли склонности к учению, обращал все свое внимание на слова профессора и просил своих товарищей не мешать ему слушать. Это рассердило его соседей.
По окончании классов профессор остался на некоторое время между студентами для частного разговора с некоторыми из них. Тут два обиженные товарища пристали к Саше с бранью, – профессор тотчас же помирил их. Еще явился один из старых студентов, Леонов, и просил товарищей не дразнить Сашу, объявив себя его защитником.
В эту минуту пришел Егор, и как новый защитник Сашин уговаривал его идти с ним погулять, но он решительно же объявил, что обязан являться к своему дяде. Саша, обласканный ректором, отправился со своим Егором домой.
Глава IV
Саша учился на славу и вел себя отлично. Однако же сам пустынник, которому он ежедневно пересказывал о своих занятиях и прочих происшествиях, советовал ему не отклоняться от дружбы товарищей. Он дал ему позволение ходить в гости, когда его приглашают, и, стараясь только удаляться от пороков, входить, однако же, в общества и сообразоваться с направлением занятий. Позволение сначала обрадовало Сашу. Он спешил им воспользоваться, и Леонов – тот студент, который прежде принял Сашу под свое покровительство, – был первый, к которому он явился. Тот был в восторге и ежедневно более и более сближался с келейником (так решительно все прозвали Сашу). Несколько раз звал он его к себе в гости, но Саша всегда отговаривался строгим приказанием дяди. Теперь вдруг Саша сам к нему явился, и молодые люди решительно подружились.
Леонов был из хорошей фамилии. Отец его был полковником и в Итальянскую кампанию 1799 года пал под Нови. Оставшаяся после него вдова занялась воспитанием детей: сына Николая и дочери Марии. Как мать, она имела один недостаток: она слишком любила детей своих, оттого Николай и был несколько своенравен и вспыльчив, а Мария… та еще, к счастию, не успела или не умела испортиться. За излишнюю любовь матери платила она такою же любовью, тем все и кончилось. Страсть к нарядам, музыке и танцам получила она, верно, не от этого, а в виде родовой наследственной болезни, которая, впрочем, вовсе ее не портила. Николаю было девятнадцать лет, а ей шестнадцать. Состояние их было довольно значительное и, следственно, круг знакомства обширный.
Появление Саши в доме их имело большое влияние на все семейство. Все его полюбили. В одно посещение он успел сделаться домашним человеком, несмотря на свою застенчивость. Мать Леонова полюбила Сашу, как сына, Николай привязался к нему, как к брату, а Мария еще больше. Странное чувство разлилось в груди Саши при виде первых женских существ, принимавших его с нежностью и любовью. О ласках матери давно уж он забыл, и только по временам смутное, неопределенное воспоминание, как будто виденного сна, приводило ему на память младенческие годы. Ласки матери Леонова невольно извлекали у него слезы, а отчего – он и сам не знал! Он только чувствовал, что эти ласки составляют какое-то высокое, священное наслаждение, которое напоминает ему что-то былое, сладостное, непостижимое. Что же касается Марии, то это была еще первая девушка, с которою Саша говорил, на которую смотрел так близко, которая была с ним так ласкова и любезна. До тех пор видел он часто у Сельмина женщин и девушек, но едва обращал на них внимание. Все они казались ему существами, без видимой цели скользящими по жизненной дороге. Только из книг (которых выбор был очень строго определяем самим пустынником) узнал он мало-помалу влияние женского пола на судьбу людей. Правда, он задумывался над этими событиями, не понимая, какую материальную или нравственную власть может иметь существо столь слабое, как женщина. О физиологическом различии полов он не имел достаточных понятий. Строгий род воспитания оставил его в совершенном недоумении на этот счет. Собственные же размышления ни к чему не вели. Теперь только, при виде Марии, почувствовал он вдруг какой-то радостный трепет; что-то давило грудь его, однако же эта боль была приятна; какой-то легкий туман часто покрывал глаза его, однако же черты Марии казались ему и сквозь этот сумрак еще прелестнее. Женщина! Девушка! Эти слова были теперь беспрестанною целью его размышлений, которые, распаляя его воображение и волнуя сердце, не имели, впрочем, ничего определенного. Ему казалось только, что свет и люди должны быть вовсе не так дурны, как их везде описывают, и доказательство своего мнения находил он в том, что Мария живет между ними.
И долг повиновения, и чувства сердца обязывали его рассказывать все пустыннику. С каким жаром описал он ему новое свое знакомство. Какими красками изобразил мать и дочь! Угрюмо и печально слушал отшельник полудетский рассказ его, изредка взглядывал в это время на Сашу, казалось, любовался прекрасным выражением лица его и откровенностью; казалось, готов был улыбнуться при восторженности его описаний, но оканчивалось тем, что он уныло покачивал головою и вздыхал.
– Я знал некогда отца Леонова, – сказал пустынник. – Он был добрый, честный и почтенный человек. Дай бог, чтоб и сын его был таким же. Посещай, друг мой, этот дом. Тебе надобно привыкать к свету. Составляй и другие знакомства. Не скрывай только от меня ничего. Я этого требую для твоей же пользы, для твоего спасения.
Саша с нежностью поцеловал руку пустынника и обещал исполнить его волю.
С тех пор Саша почти ежедневно был у Леоновых; новая жизнь, новые идеи, новые ощущения начали быстро развиваться в его душе. Доселе рос он сиротой, а теперь вдруг находил ласки матери, и нежность сестры, и любовь брата. Собственные его чувства, подавленные дотоле однообразным воспитанием, холодною, строгою заботливостию, вдруг воспламенились в груди. Незнакомые, сладостные ощущения наполнили его сердце. Он был вполне счастлив. С тех пор рама жизни его увеличилась, все в природе казалось ему светлее, веселее. Поутру – науки, товарищи, ввечеру – Леоновы, Мария… и в заключение всего – дядя-пустынник, который, сохраняя всегда и для всех свою строгость, холодность и печальную задумчивость, казалось, для одного Саши становился день ото дня ласковее и снисходительнее. Наконец, добрый его слуга, этот дядька, всегда верный, неизменный и послушный, довершал картину его прекрасной жизни. Ни нужды в настоящем, ни заботы о будущем – ничто не возмущало юношу. Везде любовь и удовольствие. Мало-помалу он приобрел и другие знакомства. Все его любили; кто за хорошенькое личико, кто за тихий и веселый нрав, кто за светлый ум и познания. В особенности отличался он в обществе дам и девиц. Там, где всякий на его месте был бы робок, молчалив, застенчив, он, напротив того, был весел, говорлив, смел и любезен. Тут вполне развивалась всегдашняя его страсть к музыке и танцам. И Леонов и товарищи удивлялись редким его качествам и сообщительности. По нескольку часов умел он проводить в обществе женщин, говоря с ними о нарядах, танцах, милых безделицах, которые им так приятны и которые молодые люди так неудачно заменяют пошлыми комплиментами, унылыми взглядами и страстными вздохами. Все завидовали Саше в редком его искусстве, которое он так скоро приобрел и которое быстро сделало его маленьким кумиром дамских обществ.
В невинную насмешку над его мнимо-монастырским воспитанием звали его здесь le petit abb (маленьким аббатом), впрочем, всеобщее любопытство ничего более и не знало. Все почитали его сиротою, лишившимся в малолетстве родителей и призренным с тех пор дядею. Да и сам Саша то же самое думал. Отеческие попечения о нем пустынника, всеобщее молчание окружающих его о младенчестве и оставлении Саши у ворот дома Сельмина – все заставляло его думать, что пустынник действительно его дядя. Притом же Саша был от природы такого счастливого характера, что редко задумывался над первоначальною таинственностию своей судьбы. Он был доволен и блажен в настоящем. Какое ему было дело до мрака в прошедшем и будущем. Ко всем удовольствиям нового образа жизни Саши присоединилось еще частое посещение театра. Но и здесь странность вкуса его была поводом к вечным насмешкам товарищей над ним. Саше нравились балеты.
Рассказывая ежедневно пустыннику свои впечатления и чувствования, Саша передал ему и это новое наслаждение молодой своей жизни. Старик слушал яркие рассказы юноши и своими замечаниями очищал идеи его о столь новом и увлекательном предмете; описал ему состояние древнего греческого театра, цель его, народное участие в этой забаве, состязание авторов и влияние литературы на народную славу и благоденствие. Задумчиво слушал его Саша. Все это и прежде он читал, но только теперь начинал проверять свои познания с впечатлениями, полученными на опыте. Они вовсе не согласовались между собою. По какой-то непостижимой странности он никак не видел в театре эстетической и нравственной стороны, соединенной с литературною славою нации: он находил в этих зрелищах одну прихоть праздности, одно удовольствие всех сословий, одно препровождение времени, одно действие для рассеяния, забавы, а вовсе не для поучительной цели. И этого ощущения не скрыл Саша от пустынника. Тот покачал головою.
– Ты не прав, мой друг, – сказал он ему кротким голосом. – Твои превратные понятия происходят от того, что ты более посещаешь оперы и балеты. И те и другие созданы для одних глаз и минутных чувственных наслаждений. Музыка может еще возвышать нашу душу, но для этой высокой цели пишут немногие. Все прочие хотят льстить чувствам и раздражать нервы, страсти, не заботясь о нравственной цели. Балет же это – самая искаженная часть театра. Я знаю, друг мой, что слова мои покажутся тебе слишком строгими. Ты, верно, подумаешь, что лета мои и род жизни внушают мне отвращение к этой отрасли народных забав… Нет, милый мой! Это внутреннее убеждение. Я не принуждаю и не могу тебя принудить разделять мои идеи… Но я все-таки обязан сказать тебе мое мнение.
– Если вы прикажете, дяденька, – сказал Саша, потупя взоры, – то я буду ходить в одни драматические спектакли.
– Нет, друг мой. Я этой ошибки не сделаю. Мне бы приятно было, если б ты сам собою полюбил творения Шекспира, Шиллера, Корнеля, Расина и наших драматургов, но приказывать тебе – значило бы сеять в душе твоей тайное к ним отвращение… Может быть, ты сам когда-нибудь почувствуешь справедливость моих слов. Собственное убеждение всего нужнее.
Он обнял Сашу и отпустил его. Задумавшись, пошел тот в свою комнату и пересказал свой разговор дядьке своему Егору. Тот, ничего не поняв из доказательств pro и contra балетов, объявил, однако же, что, во всяком случае, Григорий Григорьевич прав.
На другой день Саша имел случай проверить слова дяди с собственными своими чувствованиями. Он пошел смотреть «Дмитрия Донского»[3]. Но сколько в душе его ни было детской готовности к повиновению, однако же он не чувствовал в сердце ни малейшего перевеса в пользу трагедии. Не раз, правда, патриотические выходки главного лица воспламеняли его, но любовь Ксении казалась ему натянутою, неестественное появление ее в стане противоречило тогдашним нравам, а упорство, с которым Дмитрий хочет жертвовать для любви благом родины, было даже противно не только исторической истине, но и приличию. Саша в тот же вечер передал пустыннику свои впечатления, и на этот раз добрый старик одобрил суждения юноши, прибавя, что уж и в этом большая польза от драматических представлений, если зритель может делать подобные замечания, которые очищают вкус и облагораживают сердце. Ошибки великих авторов всегда поучительны, как скоро сочинения их имеют высокую цель. В балетах же и операх так же легко прощают ошибки, как без внимания пропускают иногда гениальные красоты.
Таким образом проводил Саша свое время: от ученья – к невинным забавам, от отеческих наставлений – к приятностям дружбы. Ему казалось, что он был счастливейшим созданием в свете. Все его любили, все ласкали. Как недоверчиво качал он всегда головою, если где-нибудь находил в книгах мрачные картины света и людей. Ему казалось, что это клевета или болезнь авторского сердца.
Наступило время Святок. Тогдашние полупатриархальные нравы московских жителей допускали еще домашние маскарады, на которые съезжались знакомые и незнакомые. На одну из таких вечеринок были приглашены и Леоновы; Николай предложил Саше отправиться вместе с ними. Без малейшего размышления Саша согласился. Оставалось только каждому придумать себе костюм. Прежде всего занялись Сашею и после долговременного прения положили нарядить его в женское платье. Привесили ему фальшивые букли, привязали шиньон, затянули в корсет, дали одно из лучших платьев Марии, и когда он по окончании своего туалета явился на смотр к Леоновой и к Марии, то обе поражены были изумлением.
Перед ними стояла прелестнейшая девушка со всеми очарованиями молодости и красоты. Если б они не были заранее уверены, что это Саша, то никак бы не узнали его. Стройность, нежность, белизна рук и плеч, и на лице ни малейшего следа юношеского возраста. Они заранее приготовились смеяться; но при виде Саши забыли все. Даже Николай, занимавшийся костюмированием его и приведший его к матери и сестре, почувствовал какое-то невольное удивление, когда вгляделся в переодетого своего друга. Несколько минут все находились в каком-то странном положении, не зная, что сказать друг другу. Саша принужден был говорить за всех, и уже его веселость возвратила мало-помалу всем присутствие духа. Начали шутить, хвалить, рассматривать, учить Сашу женским приемам и походке, предполагать забавные встречи от этого переодевания и наконец решили тем, чтоб никому не объявлять на вечеринке настоящего имени Саши, а выдавать его за недавно приехавшую родственницу Леоновых.
По окончании всеобщего туалета они поехали. Саша, чтоб ознакомиться с новою своею ролью, должен был дорогою вести разговор с Мариею, как девушку и родственницу называя ее chеre Marie, cousine[4] и ты. Все смеялись, поправляли его ошибки, учили составлять милые полуфразы или бросать взгляды и в таких занятиях подъехали. Надев маски, вошли они в залу и рекомендовались хозяевам. Старуха Леонова шепнула хозяйке свое имя, и та спешила принять ее со всевозможною ласкою. Николай отправился к толпе мужчин, а Саша уселся подле Марии, нашептывая ей забавные замечания насчет своего положения. Оно действительно сделалось вскоре весьма любопытным. Начались танцы; жар принудил гостей мало-помалу снимать маски; все между собою короче познакомились, и бальная веселость одушевила молодежь. Вскоре начались со всех сторон спросы и расспросы о Саше. Старуха Леонова и Мария должны были сто раз рассказывать историю мнимого своего родства с ним – и дюжины любезников увивались около его кресел. Слава о красоте Саши до того распространилась, что даже из игорных комнат вышли старики, чтоб посмотреть на приезжую красавицу.Вскоре начались и танцы. Саша выдерживал свою роль со всевозможною осторожностию. Хотя многие опытные танцорки и поглядывали на него иногда с некоторым удивлением, но все кавалеры были в восхищении и бросали на него самые страстные взгляды. Чтобы избавиться от разговора с посторонними, Саша танцевал чаще всего с Николаем, и все завидовали счастливцу. Более всех пленился Сашею некто Сельмин. Это был человек лет тридцати пяти, полковник и богач. Он не сводил глаз с Саши, однако же долго не хотел ни у кого спросить о нем. Наконец во время мазурки сам Саша, давно заметивший эту наблюдательную фигуру, подбежал к Сельмину и ангажировал его. Тот машинально последовал приглашению и пламенными взорами пожирал красавицу. Окончив круг, он посадил Сашу и остался за его стулом.
– Я очень счастлив, что вы удостоили меня своим вниманием, – сказал он Саше. – Но если б только смел спросить, какому случаю обязан я этим счастием…
– Вы, я думаю, знаете, полковник, что женские причины всегда очень маловажны, – отвечал Саша. – Я давно заметила, что вы уединенно стоите у колонны. По равнодушию ли это было с вашей стороны к танцам или к танцующим, но мне стало обидно за всех, и я хотела заставить вас поневоле разделить всеобщие забавы, которые вы, кажется, презираете.
– Я не думал, чтобы вы могли быть так несправедливы… Позвольте, в защиту мою, сделать вам один вопрос. Любите ли вы живопись?
– Кто же может не любить ее!
– Что сказали бы вы о том человеке, которого бы нашли перед картиною Рафаэля, с немым восторгом стоящего по целым часам?
– Я бы полюбопытствовала сперва узнать, высокое ли чувство живописи заставило его остановиться или сходство картины с кем-нибудь из любимых сердцу особ…
– И то и другое! – сказал Сельмин шепотом, наклонясь к Саше на ухо, и быстро ушел от него, как бы боясь сказанного.
Саша готов был расхохотаться, но Николай напомнил ему о приличии играемой роли и поднял его опять к танцам. В антрактах садился Саша к Марии или ходил с нею по залам, рассказывая ей о своих победах над сердцами танцоров. В один из таких антрактов принуждена была Мария вести Сашу в уборную, чтоб поправить наряд его, и здесь, пользуясь коротким обращением, всегда существующим между молодыми девицами, он осмелился поцеловать ее. Мария не могла ни обидеться, ни рассердиться. Поцелуй был дан при других девицах и был самою обыкновенною благодарностью за дружеские услуги между ними. Одна Мария чувствовала всю неясность поцелуя, но должна была молчать в эту минуту, а после, когда они воротились в танцевальную залу, вскоре и забыла о нем.
Здесь явился опять Сельмин. (Пора сказать читателю, что он был сын Петра Александровича, которого мы в начале романа видели гвардии офицером. Старик вскоре после помещения Саши в университет уехал жить в свою деревню. Скучно было бедняку теперь без пустынника; но нечаянный приезд сына вознаградил его за все. Его Саша явился полковником, которому дали полк, и радость старика была неописанная. Проживя с отцом месяц, полковник воротился в Москву – и вот он на бале.) На этот раз привел он с собою еще наблюдателя. То был генерал суровой наружности, которого Сельмин вытащил из-за бостона своими рассказами о красавице. Молча указал ему Сельмин свою красавицу и ожидал от него восклицаний восторга и удивление. Он, однако же, ошибся. Генерал несколько минут смотрел со вниманием на Сашу, но чем более в него вглядывался, тем угрюмее и недовольнее становился. Наконец, не сказав ни слова, он быстро повернулся и ушел обратно в ту комнату, где играли в карты. Сельмин последовал за ним и требовал объяснения у своего приятеля в странном поступке. Но тот, вместо всякого ответа, настоятельно просил его разведать о всех подробностях семейства и жительства красавицы.
– Да я уж все знаю, – отвечал Сельмин и пересказал ему все, что Леонова объявила хозяйке о мнимом своем родстве с Сашею.
Казалось, этот рассказ успокоил генерала, он продолжал свой бостон, а Сельмин снова пошел на свой наблюдательный пост и там дождался счастия быть выбранным Сашею во время мазурки. На этот раз он не мог ничего сказать своей красавице, потому что фигуры танца передали ее во власть другого танцора и он должен был воротиться на свое место.
Вскоре пошли ужинать. Сельмин кое-как завоевал себе место против Саши и беспрестанно бросал на него самые пламенные взоры, служа предметом его насмешек, тихо нашептываемых Марии, которая, давно уже забыв про поцелуй, привыкала к свободному обращению Саши. Тесное соседство за ужином было поводом к маленьким вольностям с его стороны, но как между девицами они ничего не значили, а соседки окружали и Сашу и Марию, то последняя поневоле должна была переносить невинные шалости своей мнимой родственницы. Но вот ужин кончился, и все стали разъезжаться.
Во время переезда Леоновых с бала до дома Саша продолжал пользоваться правами своего переодевания и вольностями, к которым привык в короткое время, а Мария не смела при матери и брате остановить его, боясь неприятных последствий. Всю дорогу хохотали над победами Саши и над его ловкостию во время бала. Более всех говорили о Сельмине, который успел втереться в знакомство Леоновой и, вероятно, должен был явиться с визитом. Последнее обстоятельство поставляло всех в затруднение, но после некоторого совещания решили сказать Сельмину, что Саша-девица должна была по внезапной болезни отца уехать в деревню и что брат ее Саша остался гостить в Москве. Таким образом надеялись поправить свою шутку.
Саша остался ночевать у Леоновых и уже на другой день отправился к пустыннику, чтобы отдать ему подробный отчет в прошедшем дне.
Всякий молодой человек скрыл бы, разумеется, ту часть происшествий, в которой одно внутреннее чувство было уликою; но Саша видел в пустыннике не только своего благодетеля и воспитателя, но и второго отца. Всякий рассказ казался ему исповедью, всякое признание – обязанностию. Он рассказал ему все.
Внимательно слушал его пустынник и изредка покачивал седою головою.
– И тебе понравилось это переодевание? – спросил он Сашу с некоторою задумчивостию.
– Понравилось.
– И ты чувствовал желание нравиться и прельщать?
– Для шутки.
– Что же чувствовал в это самое время к Марии?
– Она мне нравилась больше всех. Теперь я чувствую, что виноват перед нею, осмелясь оскорбить ее скромность, но вчера я находил в этом большое удовольствие.
– Всякий проступок, сын мой, увлекает своею приятною стороною. Но зато на другой день всегда следует раскаяние. Хорошо еще, если нужно раскаиваться в одних помышлениях, а не в делах. Первое можно поправить, второе всегда невозвратимо.
– С этой минуты я буду щадить скромность Марии.
– Лучше бы ты сделал, если б совсем перестал с нею видеться. Склонность твоя к ней не имеет теперь никакой цели.