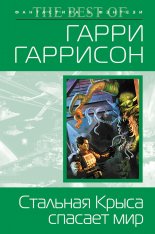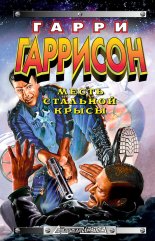Жизнь, по слухам, одна! Устинова Татьяна
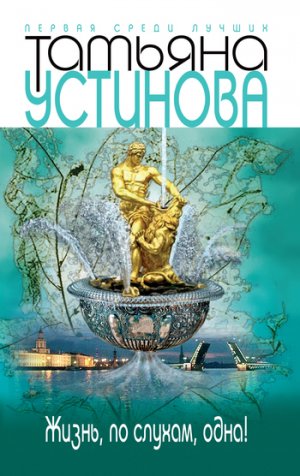
Он сделал круг по комнате, поглядывая на своего директора. Она все стояла, неподвижная, как сфинкс, глаза долу.
Ну и черт с тобой, думал Никас с некоторым злорадством. Хочется тебе изображать статую – валяй, изображай! Это тебе только кажется, милая, что ты здесь главная! Я-то точно знаю, кто главнее!
Он еще походил немного, поглядывая в многочисленные зеркала. Однажды в какой-то передаче Никас слышал, что обилие зеркал в помещении – признак утонченной натуры, и зеркала у него были развешаны всюду. Там, где их невозможно было повесить, они стояли у стен. Пространство ломалось и дробилось самым причудливым образом, и иногда сам хозяин, позабыв, где зеркальный обман, а где реальность, ударялся лбом в гладкую холодную поверхность!..
– Ну что? – громко спросил он, остановившись перед каким-то зеркалом. – Что мне теперь делать?! Менять всю концепцию только из-за того, что какая-то коза валдайская забыла про мои ботфорты?! А это, между прочим, твоя работа – следить за уродами! Почему ты не следишь?! А?!
Тут Никас наклонился вперед и любовным движением погладил себя по щекам.
Щеки были упругие, гладкие, и Никасу они нравились. Лоб тоже был хорош – ни одной морщинки, ровный, розово-персиковый загар, как у ребеночка. Он нагнулся к своему изображению и ковырнул кожу возле виска. Что-то ему показалось, вроде там прыщик!
Хелен шевельнулась у него за спиной, кажется, переступила ногами, замучилась стоять неподвижно! Вот дурища, еще глупее остальных! Те-то хоть ни на что не претендуют, а эта в самом деле думает, что она умная и сильная и может перехитрить его, Никаса!
Впрочем, женщинам частенько кажется, что они умнее мужчин! Тут Никас засмеялся тихонько.
– Ну, что ты сопишь, как поливальная машина?! Давай, давай! – Никас сделал энергичный жест, и зеркальный Никас сделал то же самое. – Звони Боре, пусть приезжает, привозит всю программу, будем переверстывать! И все минусовые фонограммы тоже! Я же не могу петь «Розы в пепле» без ботфортов!
– А может быть, все-таки…
– Что?! – взвился настоящий Никас, с удовольствием поглядывая на взвившегося Никаса зеркального. – Ничего не «может быть», и ничего не «все-таки»! Это твоя работа! А ты ее не выполняешь!
– Давай я сама привезу эти ботфорты! Хорошо, пусть Наташка позабыла, ну, она идиотка, но мне-то ты доверяешь?!
Никас внутренне покатился со смеху, а снаружи обиженно насупился.
– Скажи, пожалуйста, как ты их повезешь?! В чемодане?! Ты засунешь в чемодан замшевые ботфорты, сшитые в Палермо на заказ, вручную?! То, что ты привезешь, я никогда не надену! Ни-ког-да! Потому что ты привезешь замшевые сапоги с вещевого рынка, а не мои ботфорты! Их же нельзя складывать! Их можно хранить только на распялке и в холщовом мешочке! Мне пришлось всем инструкции выдать, когда мы в прошлом году привезли эти ботфорты! Она их повезет! Видели вы ее?! Их надо было в контейнер! Заказать отдельный контейнер, и только так!
– Никас, ты не волнуйся, – попросила Хелен мужественно, хотя голос у нее слегка дрожал. – Ну, я что-нибудь придумаю! «Розы в пепле» – твоя лучшая песня, и ты не можешь, ну, просто не можешь ее не спеть!
Никас фыркнул, выглянул из-за зеркала и смерил Хелен взглядом зеленоватых, прекрасных глаз. Журналисты писали про его глаза, что они «неизъяснимые» и еще почему-то «монгольские». Должно быть, монголы журналистам нравились больше славян!
– Во-первых, – сказал Никас, пристально глядя на Хелен, которая замерла, как суслик, – «Розы в пепле» – говно, а вовсе не лучшая песня! Моя лучшая песня впереди, и она войдет в мировые хит-парады! И вот тогда я смогу всех посылать в задницу! Всех, и тебя тоже, дорогая, хоть тебе и кажется, что ты можешь обвести меня вокруг пальца! И все зрительское быдло пойдет в задницу, и эти так называемые продюсеры! Поняла?!
Хелен поспешно затрясла головой, соглашаясь.
– А во-вторых, если ты способна придумать, как спасти мой сценический костюм, то придумай уже! Только не гони пургу, что ты ботфорты засунешь в чемодан, ладно? Скажи хоть что-нибудь умное, ладно? Ты же считаешь себя умной девочкой!
– Никас…
Он распустил губы, изображая Хелен, и сделался почти безобразным.
– Что – Никас, Никас?! Ты про…ла ботфорты, вот и выкручивайся теперь.
На самом деле скандал с ботфортами был затеян только под плохое настроение – утром должен был звонить спонсор и почему-то не позвонил. А когда Никас, измучившись ждать, позвонил сам, ему вежливо ответили, что поговорить сейчас никак невозможно по причине отсутствия этого великого человека в офисе. И вообще, перевод осуществлен, звоните в банк, деньги должны быть на месте – как будто Никаса волновали исключительно деньги! Он кинулся звонить продюсеру, но тот – собака страшная! – елейным голоском сообщил, что у Никаса, мол, свои отношения со спонсором и он, продюсер, тут совершенно ни при чем. Никас продюсера отлично понимал. Спонсорские денежки до звезды обычно редко доходят. Звезду делает продюсер, он же и денежки находит, он же эти денежки имеет, а Никас все переиначил по-своему. Спонсор был его, личный, и продюсер пролетел мимо бабок на большой скорости, только облизнуться успел, и – фьють! – сдуло его! Прибыль от «чеса», да от ночных клубов, да от богатых корпоративных вечеринок продюсер, натурально, себе забирал, а вот до спонсорских денежек Никас его не допускал, ну, продюсер и обижался: денег там было до черта!
Кроме того, Никасу очень нужно было как следует покапризничать – так, чтобы все знали, что он обижен на весь свет! Ему позарез был необходим свободный вечер, всего один, и он мог его раздобыть, только насмерть перессорившись со своей свитой!
Ему частенько приходилось разыгрывать подобные драматические спектакли, чтобы освободиться от сопровождающих, особенно в последнее время. Он научился делать это виртуозно, можно сказать талантливо, убедительно, и, когда играл роль, внутренне подсмеивался над зрителями и одновременно участниками спектакля. Они казались ему тупыми крысами и слепыми кротами, и он мог манипулировать ими как угодно.
Плоховато, конечно, что директриса не вчера родилась и знает, что скандал с ботфортами – чепуха на постном масле, но что поделаешь?..
– Никас, – позвала Хелен. Вид у нее был восторженный, как будто она на самом деле только что нашла выход из сложнейшей ситуации по выводу орбитальной станции на геостационарную орбиту, несмотря на заклинивший двигатель. – Я, кажется, придумала!
– Ну что, что?!
– Мы положим твои ботфорты в контейнер, все как полагается, и Владик привезет их в Петербург на машине, а? Они поедут в полном комфорте, и нигде ничего не помнется, и ты сможешь выступать с «Розами в пепле»!
Никас подумал секунду.
– А кто такой Владик?
– Это твой водитель, – нежно, как маленькому, объяснила Хелен. – Ну, он только что здесь был, ты его видел!
– Можно подумать, я запоминаю водителей, – пробормотал Никас и сделал смешную обезьянью гримаску. – А что, в Питере у меня не будет другого водителя?! Обязательно нужен этот самый? Как его… Владик? – Никас прекрасно знал, как его зовут! – И вообще, я хочу, чтобы его не было! Ты можешь этого водителя уволить?
Хелен опять замерла.
Владика они уволить решительно не могли, потому что не они его нанимали, и это им не давало покоя.
– Никас, – осторожно сказала Хелен. – Давай решим вопрос с твоим костюмом, а потом, может быть, что-нибудь придумаем с водителем! И, конечно, в Петербурге тебя будет встречать лимузин и совершенно другой водитель, а этого, как только он привезет ботфорты, я отправлю обратно в Москву.
– И я его не увижу? – Никас зашел за следующее зеркало и посмотрел, как он выглядит в профиль. Выглядел хорошо, просто отлично выглядел!
– Если не захочешь, конечно, не увидишь!..
– Так вот, я его видеть не желаю, а больше всего я хочу, чтобы его не было. Совсем.
Тут Хелен, подуставшая от всей этой лабуды с ботфортами, дала маху. Ей бы пропустить мимо ушей, сделать вид, что ничего не слышала, или же немедленно вскричать, что Владик Щербатов завтра же или, лучше, уже сегодня будет, конечно же, уволен навсегда! Какая разница, будет или не будет, главное, кумир миллионов, так писали о Никасе желтые, как весенний цветок мимоза, газетки, вполне этим ответом удовлетворился бы! А Хелен, идиотка, ни с того ни с сего объявила мстительно-ангельским тоном, что Владик, к сожалению, – к ее величайшему сожалению! – останется на работе столько, сколько потребуется.
Хелен знала, что грянет гром, и гром грянул.
Никас завизжал, покраснел, затопал ногами, и на лбу у него вздулась переплетенная синюшная вена. Как бы удар не хватил, подумала директриса брезгливо.
Никас кричал, и слюна брызгала на зеркала, и это было отвратительно.
– …твою мать!.. Ну, я еще тебе припомню, как ты мне ответила, сука!.. Не можешь уволить, так хоть молчи в тряпочку, а она рот разевает, вякает!.. Да как ты вообще посмела в моем присутствии рот разевать?! Я тебя кормлю, я тебя содержу! Да ты бы подстилкой бандитской была, если бы не я! Откуда ты взялась, сука, помнишь?! Как на коленях стояла, просила тебя на работу взять, руки мне целовала! Я тебя заставлю, я с тобой поквитаюсь, только гастроли эти…ские отработаю!.. Жопа в дверь не пролазит, волосы… тьфу, пакость, а туда же – рот разевать! Ты работать сначала научись, а потом рассуждай!..
Хелен решила, что лучше всего сейчас будет заплакать, и заплакала.
«Никас не любит слез. Сейчас он меня выгонит, а там посмотрим!.. В первый раз, что ли? Ну, еще раз на коленях постою и ручку поцелую, и что? Не сахарная, не растаю!.. А унижение мы переживем. Мы еще и не такое переживали, подумаешь!..»
Хелен закрыла лицо руками и зарыдала, как давеча рыдала глупая костюмерша Наташка.
– Пошла вон отсюда, дура! – Никас замахнулся и почти попал ей в лицо слабым, по-дамски сложенным кулачком, но Хелен увернулась. Из-за прижатых к лицу ладоней краем глаза она все время следила за его руками. – Не смей реветь! У меня концерты!!! Мне работать, а вы все!.. Вы!! Сволочи! Продажные шкуры, ублюдки! И вы, и ваши водители!!! В гробу я вас всех!.. Чтоб вы сдохли, сволочи, суки!..
Все же директриса не могла уйти, пока он окончательно ее не отпустит, и продолжала стоять в центре ковра на голубой розе и заливаться слезами.
– Убирайся отсюда! Немедленно! К чертовой матери! Проваливай в машину и сиди там с этим быдлом, которого ты не можешь уволить!!! Пошла вон, кому сказано!..
Тут уж Хелен отняла руки от лица, залитого почти натуральными слезами, засеменила по ковру, подвернула ногу – на самом деле! – и брякнулась на коленку. Очень неудачно брякнулась, не на ковер и не на паркет, а на стык паркета и плитки. Зеркальную плитку Никас, утонченная и романтическая натура, тоже очень любил.
Коленку вывернуло назад и вбок, как у кузнечика. Словно раскаленным прутом хлестнуло по глазам. Хелен заскулила и поползла по зеркалам, на которые падали ее очень горячие и очень соленые слезы, вдруг ставшие самыми настоящими.
– Вставай, сука! Что ты там ковыряешься?!
– Я… – хрипло выдавила Хелен. – Я не могу… Я, кажется, ногу сломала…
– Что ты врешь!!!
Из зеркала на полу прямо на нее надвинулось лицо нагнувшегося Никаса, и она зажмурилась, уверенная, что сейчас он ее точно ударит, а увернуться она не могла. Что-то сильно дернуло ее, так что затрещал пиджак, и, разъезжаясь ногами, как новорожденный теленок, Хелен оказалась стоящей на плитке. Никас сзади держал ее за воротник.
– Уймись, дура, – сказал он совершенно хладнокровно и ударил ее по щеке. – Что ты ревешь?
И ударил еще раз.
– Больно, – выговорила Хелен.
– Ты чего, вчера нажралась, что ли?! На ровном месте валишься! Копыта не держат! Уволю к свиньям, с волчьим билетом уволю, поняла, сучка?!
Хелен покивала, что поняла. Она стояла на одной ноге, а вторую держала на весу, как собака – подбитую лапу.
– Тогда пошла вон отсюда!.. И сегодня я тебя больше видеть не хочу! Все, проваливай!..
Певец толкнул ее к дверям, довольно сильно, так что она засеменила, чтобы не упасть, приволакивая ногу, которая не слушалась.
– Коза драная, – вслед ей негромко сказал Никас. – Водителя она не может уволить! Директор, мать твою!.. Я тебе устрою директорскую жизнь в полный рост! От говна до конца дней не отмоешься!..
Хелен доковыляла до входной двери, помедлила и оглянулась, словно хотела еще что-то сказать, но звезда и кумир метнул в нее подушкой, которую держал на изготовке. Заранее приготовил, чтоб метнуть и чтоб без промаха, – и попал! Голова у Хелен мотнулась, как у куклы.
– Пошла вон, кому сказано!..
Директриса проковыляла на площадку, бабахнула тяжеленная бронированная дверь, и Никас скорчил рожу, отразившуюся во всех зеркалах, а потом засмеялся.
Хелен, семенившая, словно гусыня, как-то странно выворачивая обширную задницу, на которой трещали все джинсы, и вправду была смешна.
Ему срочно нужно было позвонить, но сразу звонить он не стал. Выхватив из вазы клубничину, Никас отправил ее в рот, сделал пируэт и оказался возле окна. Он точно знал, как нужно стоять, чтобы с улицы его было не видно и даже силуэт не угадывался за тонкой кружевной шторой. Никас наблюдал и, причмокивая от удовольствия, поедал клубнику. Розовые капли падали на белоснежную просторную рубаху, сшитую на заказ в Милане, и он стряхивал сок пятерней.
Хелен долго не показывалась, потом все-таки выползла из подъезда. Она сильно хромала, но держалась прямо, как гренадер, и от этого хромала еще сильнее.
– Дура, – пропел Никас из-за занавески. – Ду-ура! Дури-ища!
Он вытер пальцы о рубаху, разыскал в диванных подушках телефон, нажал кнопку и опять выглянул на улицу.
Хелен не было видно, должно быть, плюхнулась в машину, зато водитель – урод поганый – курил в некотором отдалении, возле подъезда.
Похоже, Хелен его из машины выперла, подумал Никас с удовольствием.
– Справочная служба, – сказал ему в ухо приятный девичий голосок, – звонок платный.
– Да пошла ты, – под нос себе пробормотал Никас и выговорил веско, солидно и громко:
– Соедините меня со службой бронирования авиабилетов.
Пока соединяли, он подцепил из вазы еще одну клубничку, надкусил – сок потек по подбородку – и подумал, что все складывается отлично. Просто лучше не придумаешь.
Геннадий Зосимов был совершенно уверен, что он самый несчастный человек на свете.
Ну, вот если есть где-то на небесах список несчастных людей, то он, Геннадий, этот список возглавляет.
Все не слава богу, все, все!..
На работе проблемы, дома проблемы, с любовницей проблемы!.. А тут еще, как на грех, подвернулась ему девушка-красавица, ангельский цветок, роза, умытая дождем, птичка на ветке!.. Он думал, что таких девушек уж больше и не осталось – чистых, неиспорченных, доверчивых, рассматривающих мир огромными, как у олененка, глазами!..
Он говорил ей, что она похожа на олененка, а она только смеялась и касалась его руки прохладными подушечками длинных пальцев, и он потом нюхал свою руку, там, где она ее касалась. Ему казалось, что он слышит аромат экзотических цветов!..
Они редко встречались – Ася жила где-то в пригороде Питера, в город наведывалась не слишком часто и Генку к себе не приглашала. Однажды он подвез ее до какого-то поворота на Гатчину, и дальше провожать себя она не разрешила.
– Все, – сказала сурово, и Генку умилила ее детская серьезность. – Дальше нельзя, Геночка. Я выйду… здесь.
И на самом деле вышла и тут же пропала за деревьями старого парка, коих, как всем известно, в Гатчине четыре.
То, что она жила именно здесь, среди старинных лип, мрачных и романтических руин павловских павильонов, вблизи Приората, землебитного дворца и Филькиного озера с темной водой, очень ей подходило, как будто она сошла в беспросветную Генкину жизнь со старинной гравюры.
Однажды он сказал ей об этом, а она засмеялась.
– Ты, оказывается, романтик, – сказала Ася низким голосом, рассматривая его удивленными, слегка раскосыми глазами. – А я и не знала, что романтики еще остались…
Генка смотрел ей в лицо не отрываясь и точно знал, что именно эта женщина с ее детской серьезностью и удивительными глазами послана ему в утешение, чтобы обратить его и спасти. А он так запутался, что распутаться невозможно, только разом покончить со всем, разрубить узлы и начать жить заново, с чистого листа, так, чтобы все было понятно, просто и правильно!..
Как именно он станет разрубать эти самые узлы, Генка представлял себе не слишком отчетливо.
– Все из-за баб, – как-то сказала его мать и пальцем постучала ему в лоб, – все твои беды, сыночек, только из-за них!..
Палец был холодный и твердый, будто алюминиевый, и вбивал Генке в мозг ее слова. Генка кривился, сопел, как маленький, и точно знал, что мать… права!
Абсолютно права.
Он рассматривал в мониторе компьютера макет какого-то постера или плаката, который ему прислали утром из рекламного отдела, и решительно не мог сообразить, что такое там нарисовано и хорошо это или плохо. Он рассматривал и думал, что Ася – его последний, самый главный шанс выбраться из всей этой чехарды, которая творилась с ним в последние годы. Выбраться и задышать полной грудью, начать жить в полную силу, а не так… вперевалочку, как сейчас.
– Геночка!
Он молчал и рассматривал постер. Или плакат.
– Ген, ты слышишь? Обрати уже на меня внимание!
– А?!
Маленькая, хорошенькая, похожая на мышку, Анечка Миллер из соседнего отдела постучала ему по голове свернутым в трубку плакатом и засмеялась, когда он поднялся. Генка был примерно вдвое выше ее.
– Але?! Есть кто дома? Что это тебя не дозовешься?!
– Я просто… занят, – пробормотал Генка.
– Ты просто сидишь и смотришь в компьютер уже сорок минут, – насмешливая Анечка тем же плакатом постучала по монитору, как только что им же по Генкиной голове. – Я к тебе заходила, постояла, посмотрела и ушла. Ты меня даже не заметил!
– Я же говорю, что занят!
– Ничем ты не занят, – заявила Анечка и опять потрясла своим плакатом. – Это тебе. Генеральный велел передать. Это распечатка того же макета. Ты должен посмотреть и на совещании высказать свое веское слово.
– Это генеральный так сказал?
– Он! И плакат велел распечатать.
– Что это ему неймется? – с тоской спросил Генка сам у себя и развернул на столе плакат. – Ты не знаешь?
Плакат был ужасен, и на бумаге это было особенно понятно. На черном фоне красные прямоугольники, а в прямоугольниках зеленый готический шрифт. Как известно, если по-русски писать готическим шрифтом, разобрать, что именно написано, вообще невозможно.
– Ого, – издалека сказал Дима Савченко, не имевший к плакату никакого отношения и по этой причине абсолютно уверенный в себе. – Это кто ваял? Ты, Генк?..
И народ, обрадовавшись развлечению, стал подтягиваться из-за своих столов, вооруженный кофейными кружками, сигаретами и пепельницами.
– А что? По крайней мере, броско!..
– Нет, вот здесь надо написать «Нигде кроме, как в МОССЕЛЬПРОМЕ», и тогда будет отлично!
– А это чего реклама-то? И вообще это – реклама?..
– А кто макет утверждал? Первый раз вижу, чтоб генеральный такой макет подписал!..
– Да он не видел! Он только сегодня увидел, потому что это должно завтра в расклейку пойти, а у нас… видите что? – Это вступила Анечка Миллер, которой хотелось дать пояснения. Она была немного влюблена в Генку, отчасти ему сочувствовала и слегка злорадствовала, ибо Генка за все время ее работы в конторе ни разу не обратил на нее внимания.
Анечку раздирали противоречия – с одной стороны, ей хотелось, чтобы генеральный Генке навалял, а с другой стороны, ее тянуло каким-то образом его спасти. Может, если она спасет, Генка обратит на нее внимание?!
– Как завтра в расклейку? А печатать когда?!
– Да сегодня должны были печатать, о том и речь!..
Генке надоело представление, в котором он исполнял роль дрессированного медведя, причем дрессированного не слишком хорошо. Одним движением он смахнул со стола плакат, так что все отшатнулись, и грозно спросил у Анечки, что именно просил передать ему генеральный.
Анечка испуганно выкатила черные мышиные глазки.
– Ну, только то, что на совещании ты должен всем объяснить, в чем именно креатив и смысл подхода… и все.
– Отлично! – Генка скатал плакат туго-туго, глянцевая бумага неприятно поскрипывала у него в руке. – В таком случае все свободны! Я никого не задерживаю!
Кто-то из девиц непочтительно фыркнул, Савченко сообщил, что он такой красоты век не видывал, и все разошлись. Анечка порывалась что-то сказать, но Генка отвернулся от нее. Она постояла-постояла и тоже ушла.
Генка кинул скатанный в трубку плакат на пол, где он тут же развернулся с медленным шорохом. Генка подвинул кресло так, чтобы не видеть плаката. Лучше всего было бы к совещанию придумать что-нибудь абсолютно новое и совершенно гениальное, такое, от чего генеральный пришел бы в экстаз, а все остальные художники, вроде придурка Савченко, осознали, как они мелки и бесталанны по сравнению с Геннадием Зосимовым, но было совершенно ясно, что ничего не придумается.
Он просто не мог думать о плакате, генеральном, полноцветке и кегеле! Жизнь рухнула, а тут какие-то плакаты и кегели!..
Впрочем, рухнула она не вчера, жизнь-то.
Геннадий Зосимов считал, что все рухнуло, когда он столь необдуманно женился на Кате Мухиной. Впрочем, тогда он ни о чем не задумывался. Он был влюблен, молод, слегка безумен от молодости, любви и сознания того, что его полюбила «такая девушка».
Катя Мухина училась на филфаке и была малость не от мира сего, то есть точно знала, кто такие «малые голландцы», чем именно знаменит Джованни Пиранези и что лестницу во внутреннем университетском дворе сработал Валлен-Деламот. Девушки с филфака питерского университета котировались высоко!.. Сюда не попасть «просто так», «с улицы», и у него репутация не хуже, чем у столичного, а филфаковское девичье сообщество было совсем особого рода.
Парни чрезвычайно гордились, если им удавалось заполучить такую девушку, и, представляя в компании Машу или Дашу, непременно уточняли, что «она с филфака».
Катя Мухина была не просто утонченная интеллектуалка. Она была дочерью очень большого человека, и романтическому Генке Зосимову Катина родословная немного прибавляла энтузиазма. Да и мать, обычно относившаяся к его романам с бурным неодобрением, на этот раз притихла, наблюдая за развитием событий.
– Упустишь ее, – сказала она ему, после того как Генка первый раз привел Катю на «чай с вареньем», – из дому выставлю и обратно не пущу!.. Бог дурака, поваля, кормит!.. Тебе счастье само в руки плывет, ты это хоть понимаешь?! Умная, тихая, да с таким отцом!
И постучала его по лбу алюминиевым холодным пальцем.
И Генка уверовал в свое счастье, само плывущее в руки, и водил Катю на модные выставки, и знакомил с модными художниками, и однажды написал на асфальте под ее окнами розовым мелком «Гена любит Катю» и нарисовал сердце, пронзенное стрелой. Он караулил, когда она выйдет на балкон, и она вышла, и тогда он бросил ей охапку рыжих осенних бархатцев, привезенных с бабушкиной дачи. Они не долетали до второго этажа, рассыпались и валились на асфальт, прямо на пронзенное розовой стрелой сердце, с тихим сухим шелестом, а Катя, растерявшаяся от счастья, пыталась их ловить, а Генка собирал и снова подбрасывал, и наконец она поймала один цветок и прижала к груди!.. Когда они целовались на лестнице, рыжий цветок все время лез им в щеки и губы, как будто хотел остановить их безудержные поцелуи, помешать, разлучить, и Генка швырнул его на лестницу, но Катя подобрала и сказала, что засушит его и будет рассказывать внукам, как дедушка Гена когда-то ее любил!..
Она очень быстро ему надоела.
Столичной барышни из нее никак не получалось, хоть она и была «с филфака». Книжки интересовали ее больше, чем тусовки, в современном искусстве, которым так восхищался Генка, она ничего не понимала, этнический джаз ее почему-то смешил, а про модного художника Кулебяку, писавшего исключительно автопортреты, Катька однажды тихонько выразилась, что он «с приветом».
– Да это же у Алексея Толстого описано, – оправдывалась она, когда Генка заорал, что она деревенская дура и ничего не понимает в искусстве, – в первой части «Хождения по мукам»! Как же ты не помнишь?! У Ивана Ильича в квартире была «Центральная станция по борьбе с бытом», и они все там собирались – Сергей Сергеевич Сапожков, Антошка Арнольдов и художник Валет. У Валета на щеках были нарисованы зигзаги, он этим очень гордился и писал исключительно автопортреты! И они все были «с приветом», просто от молодости и от духа свободы. Им казалось, что автопортреты и зигзаги – это и есть свобода.
Генка ничего не знал ни про какого Валета, зато точно знал, что по Кулебяке весь Питер сходит с ума, что попасть к нему в мастерскую на «первый показ» удается единицам, что, по слухам, он «пошел на Западе» и его дружбы добивается сам Тимоти фон Давыдович, исключительно уважаемый в узких кругах художник, оформлявший самые модные клубы, вроде «7roub-лей» и «ТосКа На!..»!
Приезжая белоярская курица, Генкина жена, понятия не имела, как важно тусоваться с этими великими людьми, находиться в орбите их внимания, при случае упомянуть о знакомстве, и люди знающие, понимающие, продвинутые сразу начинают по-другому относиться к тебе, уважать начинают, ценить!..
Вот Илона все понимала.
Илону Генка подцепил в каком-то «лофте», где была презентация очередного кулебякинского автопортрета.
Кирпичные стены «лофта» подсвечивались синим огнем, кирпичные потолки тонули в клубах подозрительного дыма, кирпичные полы были застелены коричневыми клеенками, а в углу почему-то стояла новогодняя елка, несмотря на то что за окнами был июль и Питер, непривычный к азиатской жарище, изнемогал от зноя. Елка была украшена лампочками, а также засохшими окровавленными бинтами и использованными дамскими тампонами. За елкой стоял вентилятор и дул изо всех сил, так что тампоны и бинты шевелились и качались на ветках.
Кулебяка рядышком давал интервью трем околохудожественным барышням и одному недокормленному юноше в пыльных белых брюках. Околохудожественные барышни, несмотря на бравый вид, были явно смущены, да и сам Кулебяка казался не совсем равнодушным к шевелению тампонов в непосредственной от себя близости, искоса поглядывал на них и время от времени делал некое антраша ногами, с каждым разом оказываясь все дальше от елки. Вся остальная компания, вытянувшая руки с диктофонами, перемещалась следом за ним.
– Символом нашей цивилизации, – давал пояснения Кулебяка, – стало соединение крови и грязи, выродившегося мужского и женского начал! Словно огромная вагина, цивилизация исторгает из себя только кровь и грязь, и больше ничего! Только страдающие половым бессилием или старческим слабоумием еще надеются на то, что взбесившийся мир вернется на круги своя!
Какая-то девушка, очень яркая, сверкающая блестками в волосах, на веках, на груди и на джинсах, подошла и тоже стала слушать. Генке девушка понравилась – тем, что не обратила никакого внимания на тампоны. По правде говоря, Генку они тоже сильно смущали.
– Он гений, – сказала девушка про Кулебяку, когда Генка подошел познакомиться, – а им все можно. Вы ведь согласны, что им можно все?
Генке был согласен. Он много бы дал за то, чтобы стать гением и чтобы ему тоже было можно… все. Вешать в середине жаркого лета тампоны на новогоднюю елку, к примеру. Получать любых женщин, даже таких ярких, как Илона. Писать собственные автопортреты, очень странные и не похожие на автопортреты, посмотреть на которые, однако, съезжаются журналисты не только отечественного, но и иностранного производства.
Трудно жить, когда ты не гений, а обычный человек и тебе ничего нельзя!..
Сиди весь век со своей деревенской дурищей, которая только и умеет, что рыться в книжках и смотреть отсутствующим взглядом, работай свою скучную работу, принимай подачки от тестя, делай вид, что тебе приятно!..
Подвыпив на вечеринке, Генка все это выложил Илоне, которая никак не уходила из «лофта», все рассматривала автопортрет, и глаза у нее смеялись.
– А что такое? – весело спросила Илона, когда Генка в пятый раз завел речь о том, как ему надоела жена. – Вы не можете послать ее к чертовой бабушке? У вас династический брак?
– Да в том-то и дело! – воскликнул Генка. У него шумело в ушах, и казалось, что в голове плещется весь выпитый виски со льдом и льдинки острыми краями колют его мозг. – Не могу! Куда я пойду?! Ее папашка нам квартиру купил, и у меня на эту квартиру никаких прав нет, как будто я собака! Ну правда как собака!.. Она единственная дочь, королевишна, а я никто! Куда я пойду?! К матери в коммуналку на Лиговку?! А я не хо-ччу! Не хо-ччу, понятно?!
– Да мне-то понятно, – задумчиво рассматривая его, сказала Илона. – А вот ей ты об этом говорил?
– Кому? – не понял Генка. Желтые пары виски сгустились под самым черепом и застилали глаза.
– Да жене своей, кому! О том, что ты ее не любишь и живешь с ней только ради квартиры?
Генка попытался вспомнить, говорил или нет, и сказал на всякий случай:
– Сто раз говорил!..
Илона с насмешливой нежностью взяла его под руку, и ее усеянная блестками грудь оказалась в непосредственной близости от Генки.
– Я не понимаю таких женщин. – Илона повела его мимо автопортрета, под которым на матрасике спал безмятежным сном художественный гений Кулебяка.
– Ка… каких женщин? Разве она женщина?! Она… она…
Илона тащила Генку под руку, перед глазами у него все сверкало и искрилось от ее блесток, а может, от того, что в голове произошло короткое замыкание.
– Она не женщина, – бормотал Генка среди сыпавшихся на него со всех сторон блесток и искр, – она… она… Она выдра и выпь!
– Кто-о-о?!
– Выдра и выпь! – гордо повторил Генка. – Ты мне верь, я знаю, что говорю!..
Кажется, эта, которая в блестках, – Генка вдруг позабыл, как ее зовут, – над ним смеялась, а может, наоборот, жалела, и все куда-то его тащила. Он поначалу шел, а потом стал вырываться, но она все равно тащила, и он сел на ступеньки – там были какие-то ступеньки – и заплакал.
Ему казалось, что он плакал очень долго, звезды и искры куда-то подевались, зато появился огонь, который жег ему глаза, казавшиеся очень сухими, и в голове гудел набат, и ужас подкатывал к горлу, и невозможно было разлепить ссохшиеся веки, и…
…И вдруг оказалось, что уже утро. Нет никакого огня. Солнце светит ему в лицо, жаркое, летнее, веселое солнце, и окно странным образом переехало на другую сторону, и второе окно за ночь кто-то заложил кирпичом!
Постепенно выяснилось, что никто ничего не заложил. Просто он, Генка Зосимов, спит вовсе не в собственной спальне, а в чьей-то чужой, и там всего одно окно!..
Потом припомнились блестки в волосах, на груди и на веках, потом тампоны на елке – тут Генку чуть не вырвало, – кулебякинский гений, умные разговоры, странное имя, которое он вчера под вечер никак не мог выговорить, и еще то, что выдра и выпь не знает, где он, и наверняка подняла на ноги всю городскую милиция, с нее станется!..
Потом пришла Илона и принесла ему чаю с лимоном и две таблетки аспирина, почему-то на блюдечке. Блюдечко было не слишком чистым, с мутными засаленными краями, как будто много лет у него мыли только серединку.
Их роман был бурным и великолепным. Илона оказалась художницей, то есть натурой утонченной и понимающей, не чуждой этническому джазу и современному искусству. Со всеми она была знакома, с Тимоти фон Давыдовичем даже на «ты», а сам Кулебяка однажды похвалил ее инсталляцию под названием «Будильник». Инсталляцию Илона сооружала часа два, не меньше. На ободранной колченогой табуретке стоял разваленный на две части школьный глобус. К одной его части клеем «Момент» были приклеены старые наручные часы, давно остановившиеся. А к другой – проволокой прикручена крышечка велосипедного звонка. Из наивного белого пластмассового брюха вскрытого глобуса торчала пустая банка из-под кока-колы. С этой банкой художнице пришлось повозиться, ибо она никак не хотела стоять, все время вываливалась из земного чрева с тихим жестяным звуком.
Кулебяка сказал про инсталляцию «Будильник», что она, конечно же, сыровата, но мысль… мысль есть!..
Генка тоже находил, что мысль есть, но до конца не понимал, какая именно. Но какая-то точно есть!
Все началось заново – как будто жизнь, описав круг, вышла на новую орбиту. Он встречал свою художницу у подъезда старого питерского дома, где она снимала студию, провожал домой, покупал цветы и смешного шагающего Винни-Пуха у торговки на Невском. Они ели мороженое и сидели на набережной, свесив босые ноги с гранитного парапета. Ноги не доставали до воды, но в их сидении была удивительная легкость, молодость, счастье! Солнце светило, чайка парила над свинцовой водой, по мосту в обе стороны шли машины и люди в летних легких одеждах. Ни люди, ни машины не знали, как хорошо Илоне и Генке вдвоем, как весело болтать, как они с полуслова понимают друг друга, и впереди у них целый вечер – в каком-нибудь «лофте» или клубе, где все так же отчаянно молоды и талантливы, так же понимают друг друга с полуслова или вообще без слов!..
Где-то на заднем плане маячила Генкина жена Катя – у Илоны ничего такого не было, в смысле семейными узами она не была обременена, – но какое это имело значение?! На наличие какой-то там жены Кати никто не обращал внимания, влюбленные о ней словно позабыли – стоит ли думать о чем-то или о ком-то, совершенно не имеющем к ним отношения?!
Так прошло лето, и осень минула, и зима накатила и отступила, освободив от морозных цепей застывший в судороге город. Началась весна, и вместе с ней проблемы.
Студия, в которой работала Илона, была, конечно, никакой не студией, а просто громадной комнатой в громадной питерской коммуналке на тринадцать жильцов, и в одночасье Илону оттуда выставили вместе со всеми инсталляциями, привезенными с выставок и сделанными просто так, для души. Какой-то нувориш, чуждый понимания прекрасного, коммуналку купил, расселил и вознамерился соорудить в ней уютное гнездышко, чтобы жить там с супругой и наследниками.
Перевозить инсталляции оказалось делом крайне неудобным, грязным и очень затяжным. Обливаясь потом, Генка таскал с четвертого этажа все эти табуретки, стулья, консервные банки, рулоны туалетной бумаги – слава богу, неиспользованной! – фанерные звезды, обтянутые фольгой, и даже остов пружинной кровати. Грузчикам невозможно было довериться, ибо все это был не просто хлам, а произведения искусства и образчики Илониного творчества.
Генка все таскал и таскал, а инсталляции все никак не заканчивались, и вообще в какой-то момент ему стало казаться, что конца им никогда не будет. Да еще унылый молодой водитель, наблюдавший за Генкиными мучениями, подлил масла в огонь.
Когда Генка бережно устанавливал в кузов кресло с выдранной обивкой и подтыкал поролоновые клочья, символизировавшие, если он правильно уловил, разоренное родительское гнездо, водитель подошел, облокотился на откинутый борт, засмолил папироску и осведомился, куда Генка намерен вывозить хлам.
Генка, пыхтя, отдуваясь и утирая кативший градом пот, выпрыгнул из кузова, спросил у водителя папиросу, закурил и назвал адрес.
– А то давай сразу на свалку, хозяин, – предложил тот сочувственно. – Чего туда-сюда круги наматывать! Все одно придется… того! За мост!
– За какой мост? – не понял Генка.
– Ты че, приезжий? – обидно спросил Генкин собеседник, сплюнул и объяснил: – Свалка городская тама! За мостом! – И показал небритым подбородком куда-то в сторону пыльных окон, облупленных стен и расхристанных дверей углового парадного. – Небось бабуся твоя и не обидится! Небось тоже ж понимает, что такому добру только на свалке и место! Вот жисть, а? Наживала, наживала, а теперь в помойку!..
– Какая бабуся? – опять не понял Генка.
– А ты разве не бабусю перевозишь? – удивился водитель. – Я из этого дома трех бабусь перевез! Эх, расселяют потихоньку коммуналочки-то! А у твоей рухлядишка совсем того… подкачала. У тех трех поприличней все же!..
В тот вечер впервые Генка с Илоной поссорились.
Вдруг он перестал видеть в вылезающем во все стороны желтом крошащемся поролоне «символ разоренного родительского гнезда», и показалось ему, что нет в этом вовсе никакого «послания», и «мысли» тоже нету – поролон и есть поролон!..
Вдруг ему показалось, что время – почти год! – потеряно напрасно, что зря он так уж налегал на то, что жена его Катя «выдра и выпь». В конце концов, именно на ее денежки он живет, и именно тесть пристроил его на работу в хорошее рекламное агентство, и не просто так пристроил, а ведущим художником!..
Вдруг ему захотелось… домой.
Домой – на Каменноостровский, в громадную квартиру, состоявшую даже не из одной, а из двух бывших коммуналок! Их расселением когда-то занимался сам Мухин Анатолий Васильевич, и тогдашний питерский мэр всячески ему в этом помогал. Захотелось в собственное парадное, с мраморной, истертой множеством ног лестницей, широкими пыльными окнами от пола до потолка, фикусами в горшках на каждой площадке. Эти фикусы всегда Генку бесили и казались воплощением мещанства и пошлости, а тут вдруг ему так захотелось… к фикусам! Возле них спокойно, уютно, широкие листья глянцевы и самодовольны, ибо уборщица Люба каждый день протирает их тряпочкой. Внизу хлопает дверь, Люба разгибается над своим ведром, заправляет под косынку тусклые мышиные волосы, прислушивается и точно знает по шагам, кто пришел – жильцов в этом парадном не так уж много!
– Здравствуйте, Любушка, – весело говорит Генка, взбегая к себе на четвертый этаж.
– И вам не хворать, Геннадий Петрович, – подобострастно кланяясь, отвечает ему Люба и опять принимается за свои фикусы.
Генка в своем парадном хозяин и господин!.. И все об этом знают – и Люба, и фикусы, и дворник Саид, и «выдра и выпь» знает, и все соседи! А здесь?! Кто он здесь?! Грузчик по договору?! Хранитель Илониных инсталляций?! Да и вообще он до смерти устал от неуюта, табачного дыма, сальных блюдец, умных разговоров!.. Когда все вокруг вели эти разговоры, Генка впадал в тоску – он почти ничего не понимал, а должен бы понимать, и со временем ему стало казаться, что не понимает он не потому, что туп, а потому, что разговоры бессмысленны и уловить суть невозможно как раз потому, что ее… нет.
Вдруг ему захотелось, чтобы все стало как было – чтобы Катька читала ему из своих книжек, чтобы по выходным приезжали ее друзья, успешные, ухоженные, красивые люди, совсем из другой жизни!.. Чтобы Димка, муж подруги Ниночки, пригласил его в выходные на стрельбище куда-то в район Песков и заехал за ним на своем «Мерседесе». Генке нравилось стрелять, было в этом что-то очень мужское и правильное, из кино про богатых и знаменитых, и «Мерседес» ему нравился! Чтобы чай был не в разномастных чашках, странно пахнущих то ли водопроводом, то ли застарелой немытостью, а в тонком китайском фарфоре – из китайского фарфора пить чай значительно вкуснее, вспомнилось ему. Чтобы в дождь сидеть в эркере, задрав ноги на подоконник, курить и смотреть, как тает в серой дождевой петербургской мгле Соборная мечеть.
Вдруг он перепугался, что ничего этого никогда больше не будет, потому что только «выдра и выпь» могла ему обеспечить то, к чему он с такой приятной легкостью привык!..
Генка Зосимов сделал тогда попытку отступить – и неудачную!..
Илона его не отпустила.
Конечно, мать права – все его беды от баб, только от них, но он ничего не мог с собой поделать!.. Он влюблялся пылко, страстно и навсегда, и потом оказывалось, что «навсегда» – это слишком долгий срок и Генке решительно не подходит!..
Илона устроила ему скандал, да не просто какой-нибудь, а с шантажом и угрозами. Генка терпеть не мог скандалов, а шантажа и угроз испугался до ужаса, и задабривал Илону, и уверял, что никогда не разлюбит, и даже повез ее то ли на Крит, то ли на Кипр!.. На Крит или Кипр они собирались с Катькой, но Илона угрожала разоблачением, и пришлось ехать с ней. Кажется, именно тогда Катька его засекла, так сказать, удостоверилась своими глазами, что Генка «любит другую», хотя в тот момент он уже никого не любил, отчаянно трусил и мечтал об избавлении от Илоны.