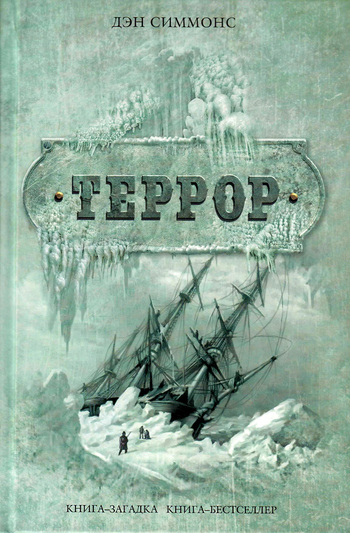Азарт среднего возраста Берсенева Анна

– Не ищут, – помолчав, нехотя ответил Пашка. – Отец с женкой пьющие. Навряд и заметили, что меня нету. А мать три года как померла, – предупредил он Сашкин вопрос.
Больше они о Пашкиной внелагерной жизни не говорили. Да они и вообще не были излишне разговорчивы, Пашка в силу деревенского воспитания, а Сашка просто по наследственному, от отца, характеру.
– Обжился ты у нас, Сань, – заметил как-то Пашка. – Глянешь на тебя – и вроде не приезжий ты. И не скажешь, что с самой Москвы.
Это было вечером, в день последних соревнований. Неделя подходила к концу, и не верилось, что скоро всего этого не будет. Этих маленьких корявых деревьев, всей этой неяркой, но почему-то за душу берущей природы…
– У меня отец отсюда родом, – ответил Сашка. – С Белого моря. Деревня Колежма. А в Мурманск он на рыбный промысел ходил. Даже младше меня тогда был.
– То-то гляжу, лицо у тебя такое! – воскликнул Пашка. – Поморское лицо, и смотришь так…
– Как? – заинтересовался Сашка.
– Ну, по-ихнему так, по-поморски. Вот я, например, саам, мы совсем не так смотрим. Ну, народ такой местный, саамы. Лопарями нас еще зовут. А в сказках, я читал, лапландцами. Слышал, может?
Про лапландцев Сашка тоже читал – в «Снежной королеве». Он вспомнил, как Герде помогали добраться до Кая через северные края лапландка и финка. Оказывается, лапландцы действительно существуют, не Андерсен их выдумал.
– Никто нас не выдумал, – в ответ на его вопрос объяснил Пашка. – Тут у нас на Кольском разные есть. И поморы тоже. То-то я сразу заметил, что ты на помора похож. Высоченный какой, и вид у тебя суровый. – И тут же он подмигнул: – На Наташку только иначе глядишь. Глаза так искры и мечут.
Наблюдательность его не подвела. Наташа Горяинова в самом деле вызывала в Сашкиной душе целую бурю чувств, и искры, которые заметил Пашка, были лишь слабым отсветом этой бури.
Наташа приехала на соревнования из Иркутска. Она была настоящая сибирячка – крепкая, ловкая, высокая, с румяным, словно от постоянного мороза, скуластым лицом. Но, вопреки всякой очевидности, Сашка ловил себя на том, что Наташа кажется ему маленькой и хрупкой. И дело было даже не в том, что он был все-таки выше ее ростом.
Дело было в какой-то очень глубокой, неназываемой сути, которая у Наташи была совсем другая, чем у него. И эта суть, эта ее хрупкая, вопреки внешности, природа притягивала его к себе невероятно.
– Раз такое дело, что отец помор у тебя, – сказал Пашка, – так тебе, наверно, интересно будет…
– Что? – не понял Сашка.
– Покажу тебе кой-что, – с загадочным видом пообещал Пашка. – Затемно завтра встанешь?
– Ну, встану, – пожал плечами Сашка.
– Наталью с собой бери, – великодушно разрешил Пашка. – Ей тоже понравится.
Они вышли из лагеря даже не утром, а ночью. Звезды еще не начали таять, и небо было не по-утреннему глубоким. Весенняя свежесть обновляющегося мира, которая и днем чувствовалась здесь, у реки, очень ясно, теперь была главной в природе.
Наташа шла неохотно – то и дело зевала, не успевала за Сашкиными широкими шагами, и вид у нее был такой, словно она делает ему огромное одолжение, соглашаясь тащиться куда-то в несусветную рань. Может, она и в самом деле так думала, но Сашке все же казалось, что она притворяется, а на самом деле очень даже рада, что он предложил ей пойти с ним вместе. И ему было легко идти оттого, что она идет рядом.
Пашка вел их с уверенностью, обещавшей какую-то очень необычную цель. Но о самой этой цели молчал, как партизан. Впрочем, Сашка особо и не расспрашивал. Ему нравилось идти в предутреннем молчании, вдыхать, раздувая ноздри, запахи земли и воды, слышать дыхание идущей рядом девчонки… Видно, почувствовав его душевный подъем, Наташка перестала отставать и шла теперь рядом с ним упругой, как у красивой лесной кошки, походкой.
– Тихо! – вдруг предупредил Пашка, хотя и так все шли в молчании. – Ну, вот она. Сань, гляди.
Сашка не сразу понял, на что он должен смотреть, выйдя из-за речной излучины. Разве что на солнце, которое ярким утренним шаром медленно взлетало над низкорослыми кустами. Оно и правда притягивало к себе взгляд, оно словно бы разбрасывало по земле россыпь сияющей росы, и при виде обновляемого им мира хотелось набрать полную грудь особенного утреннего воздуха.
Но Пашка указывал не на солнце. Проследив за его взглядом, Сашка едва сдержал изумленный возглас.
Ему показалось, что река перед ним кипит. Не бурлит даже, а вот именно кипит – таким мощным, таким необычным было движение, из которого вся она состояла. Присмотревшись, он увидел, что на самом деле она состоит из блестящих рыбьих спин.
– Ой, какие… – восхищенно прошептала Наташа. – Это кто?
– Семга на нерест идет, – сказал Пашка. – Царь-рыба!
Точнее и правильнее назвать эту рыбу было невозможно. Она была царственна каждым движением своего мощного тела, она была так гармонична, что непонятно было: как же река существовала без нее?
Сашка почувствовал, что восторг, который и так уже переполнял его из-за сияющего рассвета, становится таким сильным, что вот-вот хлынет у него горлом. Он оглянулся почти растерянно. Наташины чуть раскосые глаза радостно сверкнули навстречу его взгляду.
– Наташа… – с трудом проговорил он, с удивлением слыша, каким хриплым вдруг стал его голос. – Наташа, я…
– Пойду острогу налажу, – как-то очень быстро пробормотал Пашка. – Рыбы набьем – во!
Пашка скрылся в прибрежных кустах. Наташа смотрела на Сашку сверкающими, как рассвет, глазами.
Он взял ее за руку, чуть потянул к себе. Она подалась легко, словно только этого и ждала. Ее плечи, когда Сашка обнял их, показались ему такими нежными и беспомощными, каких просто не бывает на свете. Они не могли быть такими – она ведь и на байдарке ходила, и плавала не хуже других девчонок, да и парней тоже. Но сейчас, в этом сияющем мире, у бурлящей жизнью реки, она была нежна, как мотылек.
Но не только нежной она была, а невероятно, бешено желанной. Сжимая ее плечи, Сашка почувствовал себя не человеком даже, а огромной рыбой – такой, какие мелькали в реке сильными телами.
Все связанное с девчонками не было для него совсем уж неизвестной стороной жизни. То есть это раньше он думал, что ему уже многое о них известно. Когда обнимался с ними под видом медленных танцев на школьных дискотеках. Когда целовался после этих танцев, от нетерпения не успевая даже отойти подальше от школьного крыльца.
И только теперь он понял, что все это было не то. Только теперь, когда какая-то внешняя сила сжала и голову его, и горло, и грудь, будто стальным обручем. Когда Наташины глаза – она почему-то не закрывала их ни во время поцелуя, ни потом, – прожгли его, как раскаленные гвозди. Когда все у него внутри загорелось таким огнем, что он и сам боялся прожечь ее собою.
Он сгорал от этого огня, но руки его при этом жили отдельной, какой-то очень точной жизнью. И губы ею жили, и колени, которыми он раздвигал Наташины ноги, когда они упали вдвоем за прибрежный куст, на молодую весеннюю траву.
Наташа не то чтобы сопротивлялась – она просто не знала, что ей делать. Сашка почувствовал это и сам расстегнул «молнию» ее куртки, и пуговицы ее рубашки, и потянул вверх ее лифчик, и раздел ее всю… Он никогда ничего подобного не делал и успел мгновенно подумать, что со стороны это показалось бы ему грубым. Но когда все его действия определялись не чем-то сторонним, а тем, что мощным потоком шло у него изнутри, они не были грубыми, это он знал точно. И не знал даже, а чувствовал всем собою.
И Наташа, наверное, почувствовала это тоже. Она обняла Сашку за шею и подалась вверх, к нему, словно магнитом притянулась. И через минуту вскрикнула, закусила губу – наверное, от боли. Но Сашку, хотя он меньше всего хотел бы причинить ей боль, было уже не остановить ни вскриком, ни… Ничем его было не остановить!
Оба они были неопытны, у обоих все это происходило впервые. Но то, что в них обоих было, что бросило их друг к другу, то, чего они оба не сознавали, – это было сильнее опыта.
Это была их молодость, та великая сила, которая может позволить себя не сознавать.
Сашка понимал – если можно было назвать пониманием то, что происходило с ним в эти минуты, – что ничего подобного он в жизни не испытывал. Это было даже не чувство – то, что с ним сейчас происходило, – это было ни с чем не сравнимое соединение всех его сил в одну могучую силу. Весь он превратился в звенящий, пульсирующий сгусток энергии, и эта энергия была равно прекрасна и для него, и для девушки, которую она к себе притянула.
Хотя что чувствовала Наташа, он на самом деле не знал. Да если бы и знал, все равно едва ли делал бы все иначе, чем делал теперь, в этом своем незнании. Сила, которая определяла все его действия, не подчинялась таким вещам, как знание или разум.
А когда этот сгусток энергии взорвался в нем, как ядро, причиняя своими осколками боль, он почувствовал такое счастье, что готов был терпеть эту боль хоть всю жизнь.
Но взрыв не мог длиться всю жизнь. Он кончился, как – Сашка впервые это понял – кончается в жизни все.
Дрожа от мгновенно охватившей его слабости, переполненный восторгом и покоем, Сашка упал на спину и притянул к себе Наташу. Он только теперь разглядел ее – все время, пока длилось их соединенье, она находилась где-то в слепом пятне его сознания.
Вид у нее был испуганный и счастливый, и непонятно было, чего в ней сейчас больше, счастья или испуга. Сашка же чувствовал, как постепенно возвращается в свои берега. И в них, в этих берегах, его переполняли восторг и нежность к этой девочке, которая так неожиданно и так прекрасно слилась в его сознании с сияющим весенним утром, и с бурлящей жизнью рекою, и с победным серебром мощных рыбьих тел…
– Наташка… – с трудом шевеля губами, выговорил он. – Наташенька…
Она молчала. Может, от растерянности, а может, ждала от него чего-то. Чего она ждет, Сашка не знал. Ему казалось, с ним уже произошло самое прекрасное, что может произойти с человеком.
Он поцеловал Наташу и счастливо засмеялся. И тут же спохватился: вдруг Пашка услышит?
Впрочем, Пашки ни видно не было, ни слышно.
– Пойдем, а? – сказал Сашка, поднимаясь с земли. – Пойдем рыбу посмотрим.
Наташа встала тоже, отряхнула кофточку.
– А ты меня что, совсем не любишь? – вдруг спросила она. – Ты со мной просто так, да?
В голосе ее зазвенели слезы. Сашка растерялся.
– Как это я тебя не люблю? – удивленно проговорил он. – Почему?
Ему казалось, все, что только что между ними произошло, было сплошной любовью. И почему же она вдруг?..
– Но ты же молчишь, – с неутихающими слезами ответила Наташа. – Ничего мне не говоришь. Значит, не любишь.
«Они какие-то совсем другие, – подумал Сашка. – Все по-другому понимают».
Но эта мысль не испугала его и даже не очень удивила. Он принял ее так же просто, как жизнь.
– Я тебя люблю, – твердо сказал он и, наклонившись, снова поцеловал Наташу в обиженно сжатые губы. Губы сразу же приоткрылись под его поцелуем, стали мягкими и доверчивыми. – Я тебя, Наташ, очень сильно люблю. Пойдем рыбу смотреть!
Она улыбнулась, засмеялась и чуть не вприпрыжку побежала рядом с ним к реке.
Пашка был уже там. Он бродил по отмели и бил самодельной острогой прямо в воду. В ту минуту, когда Сашка с Наташей его увидели, он как раз попал в рыбу.
– Видали?! – Пашка обеими руками поднял острогу, на которой билась огромная семга. – Во какая! Их тут таких до фига и больше!
Все-таки Пашка отличался каким-то особенным тактом. Любой деревенский пацан на его месте отпустил бы какую-нибудь сальную шуточку, или похлопал Сашку по плечу, или хоть подмигнул бы и понимающе хмыкнул. Вообще-то Пашка относился к девчонкам без лишних антимоний, попросту. Но друга, идущего с девушкой к реке из кустов, он встретил так, словно тот ходил за ветками для костра, что ли.
Уже через минуту Сашка тоже бродил по отмели с острогой, которую ему великодушно отдал Пашка. Рыбы было так много, что если она и боялась ловцов, то ей просто некуда было от них деваться. Она била по коленям твердыми головами, плескала хвостами прямо у ног, разрезала воду вокруг темно-серебряными спинами.
Сашка бил в воду острогой, вытаскивал и выбрасывал на берег крупные рыбьи тела и чувствовал огромное, до горла заполняющее счастье. Оно было едино в нем, это счастье, и вместе с тем Сашка сознавал, из чего оно состоит. Из россыпи солнечной росы на траве, из взгляда Наташи, из ее объятий, которые до сих пор звенели в его теле, из ее мокрых прикосновений – она ходила по отмели рядом с ним, и он время от времени отдавал ей острогу, и руки их при этом смыкались, и смех охватывал обоих…
Все это было одно: девушка, река, царь-рыба, солнце, молодость!
– Доброе утро, Сань. – Пашка стоял в дверях кабинета. – Ну что, докладываю…
– Да ладно, Паш, – улыбаясь, наверное, какой-то блаженной улыбкой, сказал Александр. – На совещании доложишь.
– Ты ж сам хотел, чтобы я заранее доложился, – удивился Пашка. – Чтобы решить, идем мы на Дальний Восток или нет. В смысле, осилим ли.
– Идем, – сказал Александр. – Все мы осилим.
Пашка присмотрелся к лицу своего друга и начальника и, весело покрутив головой, сказал:
– Лихой ты мужик, Александр Игнатьич.
– Выпьем, Паш, – сказал Александр.
– С утра? – снова удивился Пашка. – Не похоже на тебя.
– По рюмке. За успех.
– Я и говорю, лихой, – усмехнулся Пашка. – Все говорят, рисковый, а на самом деле нет. Рисковые за успех не пьют. Боятся.
В кабинете, кроме основной, была еще одна, сливающаяся со стеновыми панелями дверь. Она вела в помещение, которое в кабинетах всех больших начальников называлось комнатой отдыха. Когда Александр покупал офис у разорившейся государственной конторы с непроизносимым названием, эта комната здесь уже была.
Он открыл бар, достал бутылку коньяку, подцепил два бокала-тюльпанчика. И, держа все это на отлете, набрал телефонный номер. Когда ему ответили, он почувствовал, как его заливает волна восторга. Такая же – ну, почти такая же, – как в тот весенний день, о котором он только что вспоминал.
– Аннушка, – сказал Александр, – соскучился я. Когда мы увидимся?
Глава 7
Александр встречался с Аннушкой уже три месяца, а отношения их до сих пор оставались такими, что у всякого нормального мужчины они должны были бы вызвать по меньшей мере недоумение.
Правда, их встречи происходили все-таки с перерывами, и даже довольно длительными: за эти три месяца Александр несколько раз летал то на Дальний Восток, то на Канары – в Лас-Пальмасе находилась крупнейшая в Атлантике база, на которой были и его корабли.
И все-таки неокончательность, какая-то недоговоренность отношений, которые установились у него с Аннушкой, выглядела странно.
Попросту, по-мужицки говоря, она до сих пор ему не дала. То есть, может, если бы он был в этом смысле понастойчивее, никуда она не делась бы – встречалась же с ним, не отказывалась, значит, выполнила бы все условия таких встреч.
Но ему не хотелось, чтобы она выполняла условия, вот в чем было дело! Ему хотелось, чтобы она была с ним потому, что не могла быть без него. А этого никак не получалось, и Александр чувствовал досаду – не на Аннушку, а на себя.
До сих пор его отношения с женщинами строились гораздо проще. Если они были красивы, неглупы, покладисты, но не слишком поспешны в ответ на его притязания, – он их не обижал, и они бывали им довольны. И это никогда не зависело от возраста женщин, с которыми у него возникали более или менее длительные романы. Обычно им бывало около тридцати, но попадались среди них и совсем молоденькие, как Аннушка. И задора в тех прежних женщинах было не меньше, чем в ней, и перчинка в них была – ему неинтересны были женщины без перчинки…
И что же вдруг произошло такое, отчего Аннушка заняла в его жизни какое-то особенное положение?
Ему хотелось, чтобы она его любила. Он ничего не мог поделать с этим своим желанием. И не знал, как его осуществить.
Воскресенья были для Александра нелюбимыми днями недели.
Работать по воскресеньям было невозможно: он ведь не философом был и не писателем, чтобы трудиться самостоятельно, никого к этому не привлекая. А заставлять подчиненных выходить на работу в выходные – до такого самодурства а-ля Сталин он не опускался.
Так что воскресенья приходилось проводить дома, и это загодя вызывало у него тягучую скуку.
Если бы его семейная жизнь была неустроенной, безалаберной, даже скандальной, ему было бы проще: он легко находил бы причины вообще не показываться дома в выходные. Но у него была заботливая жена, его любили дети, и он их любил, а значит, деваться было некуда.
В это воскресенье Александр проснулся от запаха оладий с яблоками. Даже и не проснулся еще, а почувствовал этот запах прямо во сне. Он был таким густым, таким домашним, так отчетливо вызывал в памяти ощущение полного, ничем не замутненного счастья, что Александр чуть не рассмеялся.
И проснулся.
Оладьями действительно пахло. Наверное, Юля уже напекла их целую горку и поставила на стол, иначе запаха не было бы: вытяжка-то над плитой работала исправно. Александр осознал все это сразу же, как только открыл глаза. И ощущение счастья тоже ушло сразу. А почему? Он не понимал.
Он встал, прошел в ванную, дверь в которую вела прямо из спальни.
Спальня у них с Юлей до сих пор была одна, хотя Александр предпочел бы спать отдельно. Но жена настаивала на общей постели – считала, что без этого и семья не семья, а скорее всего, просто повторяла тот уклад, который существовал в доме ее родителей и который она хотела в точности воспроизвести в собственном доме. Это ее желание было Александру понятно, он тоже мечтал бы о том, чтобы в его взрослом доме был тот уклад, который он помнил с детства. Но, в отличие от Юли, он точно знал, что это невозможно.
В общем, Александр вынужден был спать с женой в одной постели. Впрочем, в этом были и положительные стороны. В сорок лет Юля сохранила тот же темперамент, что и в молодости, то есть была не слишком требовательной к мужу, но и не вялой. Так что регулярный супружеский секс позволял Александру правильно вести себя с женщинами – без спешки, без явного вожделения, – а потому и добиваться у них успеха.
В кухню он пришел уже освеженный холодным душем, и настроение у него было ровное.
Оладьи действительно высились на блюде аппетитной желто-коричневой горкой. У стола стояла Дашка и поедала оладью, держа ее двумя пальцами на весу. Дашка была так похожа на маму, на его маму, что Александру на минуту почудилось, будто дочка оказалась в этом доме случайно.
– Сколько можно повторять: сядь, положи на тарелку, поешь по-человечески! – еще не видя мужа, выговаривала дочери Юля. – Повадилась куски хватать.
– Я вше равно только две штушки шъем, – с полным ртом отвечала Дашка. – У меня диета.
– Скажу отцу, он тебе покажет диету! – пригрозила Юля.
– И ничего не покажет! – засмеялась Дашка. – Доброе утро, па. Ну, я побежала.
Она на ходу чмокнула отца в щеку и исчезла из кухни прежде, чем он успел поцеловать ее в ответ.
Если бы Александр вздумал рассказать кому-нибудь, как проходит его воскресное утро, это был бы рассказ о самой настоящей идиллии. И даже дочкино торопливое исчезновение вполне в эту идиллию вписывалось: что ж, дети растут, и взрослым остается только вздыхать да умиляться их взрослению.
Но не в пересказе, а по-настоящему, в душе, Александр ничего идиллического не чувствовал. И не понимал, почему это так. Сказать, что его тяготил быт, – нет, ничего подобного. В конце концов, быт теперь был налажен так удобно, что тяготить не мог в принципе. И мама ведь так же, как теперь жена, вечно была занята чем-нибудь по дому, и это не казалось ему скучным, хотя тогда он был мальчишкой и скука по отношению к обыденности была бы для него более естественной, чем теперь.
Но от тогдашнего простого жизненного уклада скуки почему-то не было. А от нынешнего – была.
– Заспался ты сегодня, – сказала Юля. – Садись, пока оладьи горячие.
Она всегда готовила какую-нибудь простую еду: гречневую кашу, мясо с картошкой, борщ или вот оладьи. Это было, безусловно, хорошо. Когда-то, в период его короткого жениховства, в числе лучших качеств невесты числилось именно это: умение вкусно, по-домашнему готовить. Это и теперь можно было считать лучшим Юлиным качеством.
И почему оладьи, которые Александр нехотя жевал, поливая свежим малиновым вареньем, казались ему безвкусными?
– Может, съездим сегодня в агентство? – спросила Юля, садясь напротив мужа за стол.
– В какое агентство? – удивился он.
– Ну я же тебе говорила. Которое недвижимость в Турции продает.
Юля всегда сообщала о своих желаниях сразу, без обиняков, без той ласковой вкрадчивости, с которой неработающие жены обычно выманивают у мужей дорогостоящие блага, в которых сами мужья необходимости не испытывают. Она хотела дом в Турции и говорила об этом прямо.
– Ну, а я зачем там нужен, в этом агентстве? – вздохнул Александр.
– А вдруг меня обманут? Дом все-таки немаленьких денег стоит. Хоть я и подешевле высмотрела.
Александр не был ни расточителен, ни чрезмерно бережлив, но при мысли о том, что придется тащиться в агентство и обсуждать покупку какого-то совершенно ему ненужного дома, у него даже зубы заныли.
– Я сегодня к Вере обещал зайти, – быстро сказал он. – У нее какие-то проблемы, лестница из эркера проваливается, что ли. Надо посмотреть, что там и как.
С лестницей из эркера никаких проблем не было. Когда-то папа сам сделал эту лесенку в сад, а он понимал толк в инженерных расчетах, и с тех пор даже ремонтировать ничего не пришлось.
– Вечно у нее какие-то проблемы, – поморщилась Юля. – А ты беги, решай!
Это было несправедливо. Вера была не из тех женщин, которые склонны перекладывать свои проблемы на кого бы то ни было, хотя бы и на самых близких людей. Александр даже хотел бы, чтобы сестра почаще обращалась к нему хоть за какой-нибудь помощью. Он любил ее, и это было бы ему приятно. Но Вера решала свои проблемы сама, притом с такой ранней юности, когда другие девчонки даже не догадывались о существовании в жизни проблем.
Так что Юля морщилась лишь потому, что не любила его сестру и, по своему обыкновению, не считала нужным это скрывать. Вообще-то Александра не слишком это угнетало. Сестра и жена были так несхожи, что их трудно было представить слившимися в сентиментальном родственном объятии.
– Я пообещал, – твердо сказал он.
Теперь ему казалось, что он действительно пообещал сестре зайти. Почему бы и нет, кстати? В самом деле, давно ведь не был.
Подумав так, он сразу повеселел. Выходной день, представлявшийся вязким и расплывчатым, как тесто для оладий, приобретал живые очертания.
– А ты сходи туда сама, – примирительным тоном сказал он Юле. – Ну, в агентство это. – И, смягчая свой отказ улыбкой, добавил: – Ты же толковая, кто тебя обманет? Если что не так, позвони, я подъеду.
Он знал, что Юля вряд ли станет ему звонить. Она действительно была толкова в любых практических делах, и дом этот она хотела, и решение его купить вызрело у нее давно. Все это было гарантией того, что вмешательство мужа не понадобится.
А что ему этот дом совершенно не нужен – что ж, мало ли в его жизни ненужных, но зачем-то приобретенных вещей. Дом у моря еще не самое худшее. Может, дети когда-нибудь поедут, подышат морским воздухом.
Когда-то Александр хотел, чтобы Динька ездил с ним на Баренцево море. Ему казалось, нигде нет воздуха лучше, чем там, – соленого, свежего до ломоты в костях, до восторга, распирающего грудь… Но Денису неинтересно было ездить на море, в котором нельзя купаться, а таких отвлеченных вещей, как соленый восторг, он не понимал.
Только уже подъезжая к дому на углу Хорошевского шоссе и Беговой, Александр сообразил, что надо было предупредить сестру о своем появлении. Вообще-то у него были ключи от ее, то есть от родительской, квартиры, и если бы Веры не оказалось дома, он мог бы ее подождать. Но ведь она могла быть дома не одна…
Верина личная жизнь вызывала у Александра горечь с тех самых пор, как она вообще началась, то есть с семнадцати лет. Они с сестрой были двойняшками, и от этого горечь только усиливалась: Александр чувствовал все, что происходило у нее в душе, даже лучше, чем происходящее в душе у него самого. В конце концов, он был мужчиной, и что уж такого особенно тонкого могло быть у него в душе? А Вера… Вера была не просто женщиной, а женщиной особенной; за все свои сорок три года Александр таких не встречал.
Она была дома, и была одна. Зря он надеялся, что после расставания с Кириллом у нее наконец кто-то появился.
Кирилл, с которым Вера провела вместе год, был из тех мужчин, о которых может лишь мечтать любая женщина. Он был не только богат – владел сетью пятизвездных отелей, – но и, главное, великодушен, не мелочен, как того можно было бы ожидать от холостяка, разменявшего пятый десяток.
Как ни странно, все эти замечательные качества Вериного любовника почему-то раздражали Александра. Ну, водит ее в рестораны и в консерваторию, возит в Париж, дарит бриллианты. Даже машину вон подарил. Ну и что? Пусть бы поискал в свои немаленькие, а значит, разборчивые годы такую, которой захотелось бы что-нибудь подарить, с которой захотелось бы поехать в Париж и которая сама захотела бы пойти в консерваторию!
А машину Александр и сам ей тысячу раз предлагал, но она вечно отговаривалась тем, что не хочет терять время в пробках.
Когда, расставшись с Кириллом, Вера не выказала по этому поводу горя, Александр втайне даже радовался. Точнее, он гордился сестрой, как гордился ею всегда. Почему они расстались, он не знал, но Вере совершенно незачем было убиваться из-за того, что, выражаясь старинным языком, она упустила хорошую партию!
Она и не убивалась. Она была одна, и была несчастлива, и с этим ничего нельзя было поделать.
Дом, в который Ломоносовы переехали через два года после рождения Веры и Сашки, был необычным. Его построили после войны пленные немцы, и почти неуловимый немецкий дух придавал ему какую-то трогательную основательность. Второй этаж напоминал мезонин, а в квартирах первого этажа вместо окон были сделаны эркеры. Вечерами они светились, как фонарики в сказках братьев Гримм, и сам дом казался поэтому сказочным.
В доме было всего четыре квартиры, под окнами которых был разбит маленький сквер с фонтаном. Вокруг фонтана росли деревья – дуб, клен, вяз, ясень. Когда-то из всего класса только Вера и Сашка знали, как выглядит ясень. Еще они умели определять время по солнечным часам, потому что фонтан как раз и был солнечными часами: тень от центрального столба, из которого била вода, ложилась на круглую чашу в точном соответствии с движением времени.
С улицы ни фонтан, ни сквер видны не были. Для посторонних это был просто жилой дом несколько старомодной архитектуры. К тому же никто уже не помнил, что этот район, угол Хорошевского шоссе и Беговой улицы, когда-то был отведен городскими властями под своего рода заповедник для интеллигенции, поэтому здесь давали квартиры писателям, артистам, художникам, ученым и инженерам. Теперь это был самый обыкновенный район, и только те, у кого здесь прошло детство, знали о его прежней необыкновенности.
– Сашка! – Вера вышла в прихожую, услышав, что в замке повернулся ключ. – Ты как чувствуешь всегда: я с утра о тебе думала.
– Что же ты обо мне думала? – улыбнулся Александр.
– Боялась за тебя почему-то. Подумала даже, не случилось ли с тобой чего. Вроде ты не на охоте своей дурацкой, но все-таки…
Все-таки связь между ними – глубокая, врожденная – была нерасторжимой. На нее не могла повлиять такая мелочь, как разные квартиры, разные житейские заботы. И даже такая могучая вещь, как время, была над ней не властна.
– Чай будем пить, – сказала Вера. И смущенно объяснила: – Обеда нет. Вчера с работы поздно пришла, неохота было готовить.
Ее расставание с Кириллом прошло не просто ровно и спокойно, а даже эффектно: на прощанье он подарил ей деньги, чтобы она могла открыть школу английского языка, о которой давно мечтала. Сашка даже рассердился тогда: почему она ему про эти свои мечты не сказала, что он, какую-то сотню тысяч для сестры не нашел бы? Но, как бы там ни было, теперь у Веры была работа, и, в отличие от прошлых лет, когда она перебивалась какими-то унылыми заработками, работа такая, которая очень ее увлекала. К тому же это была не наемная работа, а собственное дело, и в этом собственном деле проявились способности, которые Сашка всегда в Вере подозревал; она оказалась весьма успешной бизнес-леди.
Вера сняла со стола вязаную скатерть, постелила другую – чайную, вышитую. Обе скатерти сделала мама – к новоселью, когда Ломоносовы перебрались наконец из малосемейки в настоящую квартиру. С тех пор так и стоял посреди столовой-гостиной старомодный круглый стол, накрытый вязаной скатертью; Вера его не убирала.
– Вер, – сказал Александр, глядя, как она легкими, словно взмахи крыльев, движениями накрывает на стол, – а почему…
Он замялся, не зная, как сформулировать вопрос.
– Что?
Вера повернулась, посмотрела внимательными темными глазами. В отличие от Александра, который был точной копией отца, только глаза мамины, она не была похожа ни на кого из родителей. Александр помнил, как однажды, изумленно качая головой, отец сказал, что Вера похожа на его несбывшееся счастье. Что это значило, он не понял тогда и не понимал теперь.
Александр знал, что брак с мамой был у отца вторым, а с первой своей женой он разошелся давно, еще до войны. Но в жизни Игната Михайловича Ломоносова было так много огромных событий, о которых можно было слушать с открытыми ртами, что его дети не особенно интересовались такими маловажными подробностями, как его давно забытые отношения с какой-то неведомой женщиной. Во всяком случае, Александр совсем этим не интересовался.
– Что ты, Сашка? – повторила Вера.
– Да знаешь, я все утро сегодня думал… Мы ведь при родителях всегда здесь обедали, в столовой, не в кухне. Я к этому, получается, привыкнуть бы должен. А вот Юля хотела дома такой же порядок завести, и мне… не захотелось. А почему? Не понимаю я, Вер.
По глазам сестры Александр понял, что она-то как раз отлично это понимает. Но ему говорить не хочет.
– Ну, может быть, ты хотел, чтобы это осталось нетронутым воспоминанием, – сказала Вера.
– Лукавишь ты, – усмехнулся Александр. – Не врешь, но лукавишь.
Это мама когда-то так говорила: не врешь, но лукавишь. Ее речь вообще была полна таких вот забытых слов, не то чтобы простонародных, но очень живых, звучащих нестерто. Может быть, в городке Александрове, где она жила до двадцати четырех лет, то есть до замужества, и теперь так же разговаривали.
– Садись к столу, Сашка, – засмеялась Вера. – Хватит в проницательности упражняться.
Меж причудливых цветов, вышитых на белой скатерти, стояли на столе вазочки с медом и вареньем. В одной вазочке был кленовый сироп.
– Тимофей прислал? – кивнул на сироп Александр.
– Алиса угостила, – сказала Вера. – Когда они с Тимкой еще в Москве жили.
Ее сын Тимофей уехал из Москвы год назад. Это случилось с ним так неожиданно – любовь, полная перемена жизни, – что Вера до сих пор не могла прийти в себя. Тим влюбился в американку и уехал с этой своей Алисой в Штаты. Теперь он жил на ранчо в Техасе, и это было предметом постоянной Вериной тревоги. То есть не сама его жизнь на ранчо, она-то как раз, насколько можно было понять издалека, полностью соответствовала тому, о чем Тимка мечтал. Он ведь поэтом был, и неприкаянность его, какая-то его… ненужность жизни была в Москве просто гнетущей.
Вообще-то к живой, наполненной обычными трудностями жизни Верин сын был способен со всей наследственной ломоносовской несгибаемостью. Он не впадал в панику, если задерживали зарплату, знал, что делать с протекшим краном, и руки у него были приставлены как надо. Дело было в другом. Он не хотел становиться белым воротничком, благополучным яппи, или кандидатом филологии, манипулирующим абстракциями, или спившимся бомжем… Но в Москве это были единственные пути, на которые с неизбежной и страшной силой толкала его жизнь. Александр с его простым и здравым взглядом на вещи понимал, что сопротивляться этой силе Тимка сможет недолго. И тем более понимала это Вера.
Так что теперь она должна была бы только радоваться, что сын наконец живет так, как и положено жить мужчине, которого жизнь наградила таким важным и таким бесполезным в обыденности даром, как способность писать стихи. Что он выращивает на этом техасском ранчо кукурузу и лошадей, а вечерами сидит на веранде под старым персиковым деревом и смотрит на огромные звезды…
Но Алиса, которую он любил и которая любила его, жила при этом не на ранчо в Техасе, а на Манхэттене в Нью-Йорке, потому что ее жизнь была связана с бродвейскими музыкальными театрами. Работа в мюзиклах – это было то, о чем она мечтала с детства, чему училась, что дано было ей от рождения так же, как Тимке была дана потребность писать стихи…
И как долго могла длиться такая вот раздельная жизнь любящих друг друга людей, и что можно было с этим поделать, если ничего поделать нельзя?
Александр заметил, что печальная тень пробежала у Веры по лицу при упоминании о сыне. Но вслух она ничего не сказала. Сестра не любила того, что любили, по Александровым наблюдениям, все женщины ее возраста: пустопорожних разговоров о том, как плохо, что все плохо, и как было бы хорошо, если бы все было хорошо.
– Ну, расскажи мне про себя, – сказала Вера.
Александр улыбнулся. Так они говорили друг другу с детства, если по какой-нибудь причине долго не виделись. И, как ни странно, для Александра это всегда оказывалось легко: немногими простыми словами рассказать сестре о своей жизни, которая наедине с самим собой представлялась непростой.
– Не знаю, что и рассказывать, Вера, – сказал он. – Как-то все у меня… установилось. Я понимаю, – он поймал ее взгляд, – ты с Юлей это связываешь.
Александр не мог не понимать, что, если Юля не любит его сестру, то эта нелюбовь взаимна. Нет, Вера держалась с его женой ровно и за все семнадцать лет его брака не позволяла себе не только скандалов, но даже споров. Но в самой этой невозможности споров, то есть проявлений живых чувств, как раз и выражалась их с Юлей абсолютная несоединимость.
– Нет, ну что ты… – начала было Вера.
– С ней, с ней, – повторил Александр.
– Мне иногда кажется, – поколебавшись, сказала Вера, – Юля – это пропасть между твоей юностью и тем, что у тебя теперь. Но это глупо, так думать, я же понимаю, – сама себя перебила она. – У тебя и теперь все такое… Живое. Ты работой увлечен, охотой. И на что сетовать? У других в нашем возрасте и этого нет, Сашка.
– Чего – этого? – спросил он.
– Страсти ни к чему нет, – объяснила Вера. – Сердце остывает. Что поделаешь, – улыбнулась она. – Жизни холод. Не каждый его постепенно с годами вытерпеть сумеет.
– Это стихи, что ли? – расслышал Александр.
– «Евгений Онегин» это. Ой, Сашка, сразу ведь стихи слышишь! А говоришь, бездарный.
– А то нет! – усмехнулся Александр. – Что-то я в себе никакого особенного дара не замечал.
– У тебя к жизни дар, – не согласилась Вера.
– Ты зря про Юлю так по-серьезному думаешь, – сказал Александр. – Она в моей жизни ничего не значит. Просто ничего, понимаешь? Нехорошо так про жену говорить, мать моих детей, и все такое. Я больше никому, кроме тебя, этого и не сказал бы. Но на самом деле это так. Она есть, Юля, я ей не мешаю быть, а чем надо, и помогу. Но сказать, что мне ее в жизни не хватает…
– А кого тебе в жизни не хватает?
Александр не ответил. Об этом он не мог рассказать даже Вере. То есть не об Аннушке не мог рассказать, а о том необъяснимом устремлении, которое вдруг связалось у него с этой девушкой.
– А мне родителей не хватает, – не дождавшись ответа, вздохнула Вера. – Совсем по-другому сейчас, чем в семнадцать лет. Тогда, может, в основном помощи от них не хватало. А сейчас – просто их, всего, что в них было. Ты их помнишь, Саш?
Конечно, Сашка их помнил. Хотя в отличие от Веры он оторвался от дома очень рано, и родительская жизнь проходила где-то в стороне от тех путей, которыми жизнь вела его самого. Но, двигаясь своими отдельными путями, он то и дело обнаруживал неожиданные подсказки о том, как ему отвечать на разнообразные вызовы жизни. И всегда эти подсказки оказывались связаны с тем, что он узнал от родителей, и всегда они были точными.
Но сейчас он никаких подсказок не слышал. И что ему делать, не понимал. Может, потому и потянуло его сегодня к сестре – в надежде, что она сумеет ему все это объяснить, если он правильно спросит.
И он уже собрался об этом спросить, уже сложил в уме нужный вопрос, когда услышал глуховатую мелодию своего телефона, который оставил в кармане куртки.
Звонить мог кто угодно. Мало ли у него было друзей и знакомых, мало ли людей были так прочно связаны с ним делами, чтобы нуждаться в нем в выходной! Но все у него внутри почему-то замерло и перевернулось, когда он услышал этот приглушенный звонок.
Александр выскочил в прихожую.
– Саша, – послышалось в трубке, – я дома, я одна. А мне…
– Что, Аннушка? – не дождавшись продолжения этой фразы, спросил он. – Что – вам?
– А мне хотелось бы быть сейчас с вами, – помолчав еще мгновенье, тихо сказала она. – Это возможно?
– Да, – стараясь, чтобы голос звучал спокойно, сказал он. – Я буду у вас через полчаса.
Глава 8
Аннушка жила на Юго-Западе. Доехать туда от Беговой за полчаса – это было лихо даже для воскресенья, когда Москва хоть немного отдыхала от пробок. Александр несся по улицам, как «Скорая», но понял это только после того, как пришлось заплатить штраф бдительному постовому.
Но это было уже на проспекте Вернадского, почти рядом с ее домом.