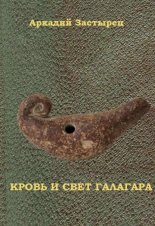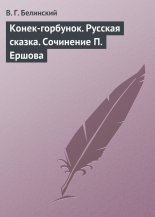Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа Павлов Александр

Введение. в постыдное удовольствие
В 1989 г. американский теоретик культуры Эндрю Росс, теперь вступивший в цех социологов, выпустил книгу со скандальным названием «Никакого уважения! Интеллектуалы и популярная культура»[1]. Скандальным в названии была отнюдь не аллюзия на фразу персонажа комика Родни Дэнджерфилда из картины «Снова в школу», а употребление слов «интеллектуалы» и «популярная культура» с союзом «и». На тот момент в соответствующих сферах истеблишмента США уже сформировалось мнение, что отношение интеллектуала к популярной культуре может быть исключительно резко негативное. Однако Эндрю Росс стремился доказать, что это на самом деле не так или, по крайней мере, не должно быть так. В своей книге Росс обращался к разным героям и разным темам: к Антонио Грамши и Сьюзен Зонтаг, к порнографии и кэмпу. То есть предметная область книги говорит о левой идеологической ориентации автора, равно как и о том, что популярную культуру на момент выхода книги всерьез принимали лишь левые.
Действительно, левые интеллектуалы часто приносили свои знания и умения на алтарь массовой, или народной, культуры. Но, конечно, далеко не все. Даже те немногие, кто если не уважали масскульт, то хотя бы серьезно относились к нему, заявили о себе позднее, чем возникла сама массовая культура. Поэтому надо вспомнить и левых критиков популярной культуры. Например, венгерского марксиста начала XX столетия Дьёрдя Лукача современная культура как таковая не могла удовлетворить, потому что была капиталистической, и он на ее месте хотел бы видеть, конечно, коммунистическую культуру. Но таковая могла появиться, как сокрушался он сам, лишь после «второй доисторической эпохи», цивилизованной, т. е. непосредственно перед коммунизмом[2]. Не могла удовлетворить массовая культура и представителей Франкфуртской школы социальных исследований – Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно. Не только по причине внутренне присущей ей «пошлости» и «вульгарности», но и потому, что она была идеологически вредной. Кроме того, Адорно разбирался в культуре и был слишком модернистски ориентированным, и значит, не способным увидеть за культурными трансформациями, какие последствия будет иметь эпоха постмодерна для массовой культуры.
Таким образом, даже у многих левых популярная культура не вызывала симпатий. Когда же случилось, что интеллектуалы вдруг если не приняли, то стали воспринимать массовую культуру как нечто, на что надо обращать внимание? В «извращенные времена», как называет нашу эпоху Жижек, возможно многое. Менялась культура, разрастаясь и поглощая пространство, которое ранее культурным не было, менялись и левые. В своей книге «Фильмы как политика»[3] американский кинокритик Джонатан Розенбаум упоминает трех персонажей, изменивших восприятие культуры. Каждый из них влиял на трансформацию этого восприятия в своей сфере: Майлз Дэвис в музыке, Жан-Люк Годар в кино, Сьюзен Зонтаг в литературе и искусстве. Именно последняя была одной из тех, кто изменил представления о популярной культуре, в том числе среди интеллектуалов. Если Годар, икона интеллектуалов, экспериментировал с формой кино, то Зонтаг все же действовала гораздо деликатнее и работала с концепцией культуры: она признала, что «пошлые» вещи – это тоже культура, и если они нравятся интеллектуалам, то образованные люди осведомлены о том, что любят пошлые вещи и именно за то, что они пошлые. Таким образом, Зонтаг одной из первых совершила прорыв в суждениях вкуса, описав понятие «кэмп» и предложив использовать его в будущих исследованиях. С ее легкой руки очень скоро снобизм интеллектуалов испарился. Объявляя кэмп предельно важным, Эндрю Росс в своей книге опирался именно на работы Зонтаг. Но он описывал понятие самым подробным образом, и сегодня его текст считается таким же классическим и едва ли не столь же важным, как и текст Зонтаг[4]. Так, плохой вкус и способность воспринимать вульгарное, пошлое и популярное стали атрибутами западных интеллектуалов.
Точно так же именно левые интеллектуалы обратили внимание на то, какую важную роль играет культура в новой эпохе, эпохе постмодерна. Собственно говоря, одна из целей этой книги – предложить концептуальную рамку модернизма/постмодернизма для прочтения кинематографа и зафиксировать переход или невозможность перехода низких жанров в массовую культуру[5]. В зависимости от контекста эти два ключевых понятия употребляются как стиль в искусстве или как характеристика эпохи со всеми свойственными ей атрибутами в культурной жизни. Во избежание недоразумений повторим прописные истины: модернизм исходит из посылки, будто культура жестко иерархична и может быть выстроена вертикальным образом. Постмодернизм отрицает эту посылку. Модернизму в целом не так уж интересно кино, в то время как постмодернизм делает ставку именно на него, причем не столько на артхаус, сколько на массовое кино.
Но на проблему массовой культуры и прежде всего кинематографа интеллектуалы обратили внимание раньше, чем дал о себе знать постмодерн. До того как он стал тем, чем в итоге стал, термин «постмодернизм» использовали в разных случаях и главным образом в литературе и искусстве, причем в тех жанрах, которые массовыми сегодня не назовешь. Даже сегодня с использованием и пониманием этого термина есть некоторые проблемы. То, что до сих пор зовется постмодернизмом в американской литературе, не вполне соответствует тому, что зовется постмодернизмом, скажем, в кино и тем более в философии. Например, проза Томаса Пинчона считается постмодернистской; однако творчество этого писателя не то же, что, скажем, роман «Гордость и предубеждение и зомби»[6].
Даже с популярностью массовой культуры могут быть трудности. Например, когда философ Фредрик Джеймисон писал про фильм «Собачий полдень» Сидни Люмета, он подразумевал, что это кино – феномен массовой культуры. Сегодня же этот фильм не может считаться таким уж массовым и относится скорее к категории авторского кинематографа, а сам Люмет признан художником, который создает проблемы в интерпретациях его творчества как массового. Однако в нашем случае важно именно то, что Джеймисон одним из первых начал подробно исследовать массовую культуру на предмет выявления в ней политических тенденций, не обнаруживаемых с первого взгляда[7]. Сам Джеймисон, хотя все же в отношении литературы, а не кинематографа, назвал это «политическим бессознательным». Поэтому категории модернистского и постмодернистского кинематографа должны быть дополнены еще одним предметным полем. Отсюда вторая основная цель книги – показать, какими способами возможно социальное и политическое прочтение американского массового кинематографа. Ведь кино, превращаясь в самый популярный продукт массового потребления, становится и сферой политического высказывания, сознательного бессознательного.
В целом прошедшие годы XXI в. доказали, что высокая культура более не выполняет тех функций, которые были характерны для нее на протяжении всего времени существования. Она загнала себя в гетто фестивалей, театров, библиотек и выставок. За последние 100 лет культура как таковая (ее верхи и низы) произвела столько, что сегодня ее главной функцией оказывается последующее воспроизводство самой себя, а задачей широких масс, жаждущих развлечений или эстетического наслаждения, – потребление этих, вновь воспроизведенных, продуктов. Однако это воспроизводство и потребление сместились в одну, хотя и большую, область искусства: почти вся культура сегодня сводится к ее массовости, которая выражается исключительно в кинематографе. Кино фактически доминирует над всеми другими формами искусства и культурного потребления. Например, для кино специально создается самая качественная музыка. Снимают экранизации произведений литературы, начиная с классики и заканчивая современными вещами. Массово экранизируются комиксы.
Вспомним перенесение на большой экран реальных событий – политических (сотни картин на политическую тематику), социально-экономических («Пределы риска»), биографий («Железная леди») и т. д. Экранизируются пьесы («Мартовские иды», «Кориолан»). Успешные несколько десятилетий назад картины переснимаются и воссоздаются, отсюда и многочисленные римейки даже неуспешных картин. Также внезапно решают снимать сиквелы или приквелы к давнишним хитам (примером служит недавний «Трон: наследие»). Любое мало-мальски значимое произведение культуры попадает на экран. И шанс высокой культуры выжить – не отгородиться от масс в театре или в книге, но попытаться проникнуть в кинематограф. Чем она, кстати, пользуется. Поэтому состояние современной культуры позволяет ценить любые фильмы. И если даже в художественном отношении какая-либо картина не удалась и мало привлекает внимание эстетствующих критиков, она может быть по достоинству оценена с точки зрения успеха у самых разных слоев населения (например, «Сумерки. Сага»), а также политического анализа или идеологического посыла.
Главными героями этой книги стали Фредрик Джеймисон и Славой Жижек. По крайней мере, чаще всего ссылки можно встретить именно на них, потому что они являются наиболее яркими философами-интерпретаторами современной культуры и, в частности, кинематографа. Но если Джеймисон знает кино и использует свою эрудицию, часто рассуждая в традиционных категориях (монтаж, Тарковский и проч.), то Жижек работает именно с прочтениями. Сегодня левые стали гораздо лучше разбираться в массовой культуре, чем правые, так как в определенный момент прекратили ее чураться. Это не означает, что последние ничего не понимают в масскульте. Но такой звезды, как Славой Жижек, в консервативном лагере нет. Правые обычно применяют конкретно-политический анализ кино, в то время как Жижек хотя и может варьировать свои рассуждения от конкретных прочтений (оправдание пыток в «Цель номер один», марксизм в «Титанике» и «Аватаре»), но часто анализирует работу идеологии как таковую, используя примеры из кино («Они живут», «Таксист»), причем кино американского, демонстрируя таким образом связь между обращением к современному американскому массовому кинематографу и интенциями прочитать его политически (как правило, с позиции левых). В данной книге мы также будем часто обращаться к экспликациям американского кинематографа, но иногда и к импликациям, в зависимости от контекста, в котором рассматривается то или иное явление.
При этом оговоримся, что в данном случае может пониматься под идеологией. Если это система определенных взглядов (например, консерватизм или либерализм), то в каждом явлении массовой культуры может быть обнаружена своя система подобных взглядов. Авторы могут проповедовать в своих шоу либертарианство или марксизм. Вместе с тем мы также можем прочитывать те или иные продукты масскульта на предмет идеологического содержания, т. е. искать в них что-то, что туда могло проникнуть случайно, а не намеренно, или же воспринимать тот или иной феномен масскульта как явление идеологии в целом (речь идет о частностях, а не о массовой культуре как таковой). Еще один способ говорить об идеологии массовой культуры предложил Славой Жижек. Упоминаемый выше подход Жижека – это попытка находить в массовой культуре то общее, что свойственно любым политическим режимам. Речь идет не о том, что в массовой культуре есть идеология, а о том, как в массовой культуре она себя обнаруживает, т. е. как обнажает нечто скрытое, что не видно в идеологии с первого взгляда. Таким образом, идеология в данном понимании – это некие подспудные тенденции, которые можно проследить на примерах массовой культуры.
Если с «политическим сознательным» относительно просто, то с «бессознательным» все намного сложнее. Елавной исходной посылкой этой книги является следующее: в массовом кинематографе есть «политическое бессознательное». Но проявляется оно не в кинематографе как таковом, а в разных его явлениях и течениях. В данном случае интерпретативная работа с кинематографом строится не на обращении его к ярким образам, которыми можно было бы описать то или иное сложное явление. Например, так делает современный левый философ Марк Фишер, описывая поздний мутирующий «капитализм» как чудовище из фильма Джона Карпентера «Нечто». Но использовать метафоры из фильмов (что делают, кажется, очень многие авторы в своих текстах) – одно, а усматривать в фильмах определенные идейные месседжи – другое. Именно так «читает» кино российский философ Виталий Куренной, который видит за Голливудом некие послания, например, утверждение свободы, новую формулу консерватизма и т. д. Но он воспринимает посыл картины, а часто и всего Голливуда, как таковой[8], мы же говорим, что при анализе следует обращать внимание на лакуны, белые пятна, слабые ходы в сюжете, неточности в образах персонажей, бреши и на те места, которые остались у сценаристов и создателей картины непроговоренными.
Чтобы пояснить, о чем идет речь, давайте рассмотрим картину «Снова в школу», фразу из которой Эндрю Росс использовал в заглавии своей книги. Сюжет ленты таков: Торнтон Мелон, преуспевающий капиталист без какого-либо образования, заработавший свое состояние на сети магазинов одежды больших размеров, отправляется в престижный колледж, чтобы проведать сына. Там выясняется, что сын не очень хорошо учится и даже находится на грани отчисления. Чтобы поддержать ребенка, капиталист, став спонсором университета и тем самым подкупив декана, поступает на первый курс. Во время учебы он, обладая большим жизненным опытом, вступает в определенные отношения с преподавателями, используя установку «Никакого уважения!», с кем-то конфликтует, с кем-то ведет себя на равных, с кем-то пытается заигрывать и т. д., но ни перед кем не испытывает должного пиетета. Скорее, ожидается, что с пиететом станут относиться именно к нему, что и делает декан.
На поверхностный взгляд конфликт фильма не столь очевиден и должен быть описан подробнее. В лице главного героя крупная буржуазия без вкуса и даже намеренно безвкусная противостоит академической элите с хорошим вкусом. Не дети «плебейской буржуазии», которые должны освоиться в высокой культуре вместо оставшихся без образования отцов, но сама «плебейская буржуазия» врывается в университет. Это не просто человек из народа; это человек из народа с ресурсами, его деньги – ключ к тому, чтобы открыть любую дверь. Торнтон Мелон не самый симпатичный персонаж. Он покупает ученых и знаменитых авторов для написания курсовых работ, стремится к удовольствиям и пренебрегает нормами морали. Но преподаватели, с которыми он начинает войну, также не слишком симпатичны, т. е., по сути, в картине некому сочувствовать. Носителем радикальных ценностей, который, впрочем намеренно, искажает цитаты из Карла Маркса (левый постмодернист), является сосед по комнате сына Торнтона Мелона. Этот студент-изгой в исполнении молодого Роберта Дауни-младшего, периодически вместе с сокурсниками устраивает радикальные акции, которые разве что немного злят богатых учеников колледжа. Главное: этот «марксист» пользуется благами буржуазии, Торнтон Мелон берет его на поруки и фактически содержит. Таким образом, на символическом уровне слабый протест радикалов направлен не только не по адресу, но еще и буквально приручен истинным адресатом, остающимся в тени. Это радикальная интерпретация фильма, но она не выходит за рамки дозволенного, а работает именно с тем материалом, который предоставляет само кино. Именно такие прочтения дают нам представления о «политическом бессознательном» американского массового кинематографа.
Раз уж этот фильм оказался настолько важен для Эндрю Росса, мы продолжим его интерпретировать и прибегнем к еще одному измерению анализа. Рассмотрим фигуру интеллектуала в фильме, к которому Торнтон Мелон настроен враждебно. Дело в том, что академическая профессура не более симпатична, чем ее главный герой. Даже, казалось бы, положительная героиня, преподаватель литературы, слишком экзальтирована, а кроме того, вероятно, не очень хорошо разбирается в предмете. Когда Мелон сдает ей эссе о творчестве Курта Воннегута, написанное самим Воннегутом, но выдает его за свое, она отвечает, что автор эссе ничего не понимает в творчестве этого писателя. Как следует воспринимать этот пассаж? Можно предложить несколько подходящих интерпретаций данного сюжета, исключающих друг друга, но имеющих равное право на существование.
С одной стороны, создатели картины могли дать понять зрителям, что любые интерпретации всякого творчества ложны, и, может быть, автор в своих произведениях сказал больше, чем хотел сказать, и что с момента прочтения произведения широким кругом читателей публикация живет своей жизнью. Другими словами, преподаватель литературы имеет право считать, что разбирается в творчестве писателя. При этом писатель может не закладывать и не подразумевать такую интерпретацию своих мыслей, какую подразумевает профессиональный читатель. Этим объясняются неудача Курта Воннегута интерпретировать собственное творчество и резкая оценка этой попытки со стороны профессионала. Вместе с тем при таком прочтении этого эпизода сохраняют лицо и преподаватель, и писатель. С другой стороны, авторы фильма могли ставить перед собой цель осмеять именно университетских интеллектуалов, которые живут в мире классических культурных иерархий и опираются на «интеллектуальные бренды». Таким образом, при подобном прочтении высмеиваются преподаватели, которые на самом деле не понимают творчество тех, о ком они читают свои лекции. Наконец, эта сцена может быть прочтена как выпад против таких, как Курт Воннегут, т. е. всего класса интеллектуалов – писателей, мыслителей и т. д. Данный эпизод в каком-то смысле можно считать радикальным ответом «нью-йоркским интеллектуалам» типа Вуди Аллена. В фильме «Энни Холл» Вуди Аллен, уставший от разглагольствований «интеллектуала», стоящего перед ним в очереди на фильм Ингмара Бергмана, отмечает, что Маршалл Маклюэн, о котором рассказывал «интеллектуал», не согласился бы с подобным изложением своих идей. После того как «интеллектуал» ожидаемо не согласился с позицией Вуди Аллена, тот предлагает узнать точку зрения самого Маклюэна, неожиданно оказавшегося в том же кинотеатре, и подводит его к этому молодому человеку, чтобы Маклюэн уверенно заявил: «Я слышал все, о чем тут шла речь. И могу заметить, что вы ничего не смыслите в моем творчестве». В данном случае ложную интерпретацию идей Маршалла Маклюэна признает ошибочной сам Маклюэн. «Интеллектуал», мнящий себя экспертом, посрамлен; Вуди Аллен, верно понявший идеи автора, в победителях; Маршалл Маклюэн остается непререкаемым авторитетом. Но в случае с Куртом Воннегутом все значительно сложнее. Преподаватель не настолько некомпетентна, как можно подумать поначалу, потому что она была достаточно проницательной, чтобы заметить, что эссе (по крайней мере, она его прочитала!) писал не Торнтон Мелон, и не достаточно проницательной, чтобы понять, что его написал сам Курт Воннегут. Именно воннегутовская интерпретация, а не творчество Курта Воннегута признается негодной профессионалом. Однако здесь преподавателя, как в случае с Маклюэном, не может осадить высшая инстанция. Таким образом, последнее слово остается за профессором, т. е. за интерпретатором, который осуждает интерпретацию высшей инстанции. Более того, Торнтон Мелон сообщает по телефону Курту Воннегуту, что прекращает выплаты по чеку. В итоге в проигрыше оказывается именно Воннегут, который, с точки зрения профессионалов, на условиях анонимности не сумел качественно сделать работу и лишился причитающегося ему гонорара. Хуже всего, конечно, то, что Курт Воннегут стал работать «литературным негром» у представителя буржуазии. Впрочем, на этом в фильме построена сама шутка с Воннегутом.
Это еще один пример «политического бессознательного». Мы не знаем доподлинно, имели ли авторы фильма в виду одно из этих прочтений, когда включали в сценарий столь сложную сцену, или подразумевали что-то другое, здесь не учтенное. Однако нечто все же было сказано, хотя, возможно, и бессознательно. По этой причине мы вправе рассуждать о том, что может стоять за сказанным в американском кинематографе. В этом собственно и заключается постыдная, но приятная работа интеллектуала с массовой культурой.
Проговорим еще раз: массовая культура, которую представлял Торнтон Мелон, более не настаивает на конфликтном отношении к классу «интеллектуалов». Трудность в том, что издавна так называемый американский антиинтеллектуализм[9] предполагает любовь к массовой культуре, что имплицитно свидетельствует о том, будто интеллектуалы не могут ее ни любить, ни уважать. В мультсериале «Симпсоны» Гомер Симпсон, внезапно став очень умным, приходит в кинотеатр, но ощущает, что не может смеяться над глупой, но романтической комедией, не понимая, что публика нашла в фильме смешного. В итоге зрители замечают, что кто-то в зале не смеется, что мешает им наслаждаться картиной, и выгоняют Гомера с сеанса. Это еще один пример (в утрированной форме) установки Торнтона Мелона и массовой культуры по отношению к интеллектуалам.
Вот почему мы должны подойти к проблеме с другой стороны – со стороны интеллектуалов. На самом деле у самих интеллектуалов к популярной культуре может быть разное отношение. Например, одни говорят об исследовательском интересе. Другие пытаются замаскировать свое отношение к популярной культуре под «плохой вкус» и прикрываются «кэмпом». Наконец, третьи могут даже любить ее, но скрывать свою любовь. Те же, кто не скрывают своей грязной страсти, признаются, что наслаждаться потреблением массовой культуры – их постыдное удовольствие. Вот прекрасный пример не только стыда любви к низкому, но и попытки прослыть «интеллектуалом», позаимствованный нами из текста отечественного кинокритика: «К стамбульскому фотографу приезжает брат-деревенщина, которого бы век его глаза не видели. Вечером, мучаясь обществом мужлана и блюдя свой имидж, фотограф ставит кассету со “Сталкером” Андрея Тарковского <…>. Мужлан долго крепится, но в конце концов, не выдержав, удаляется на боковую. С облегчением вздохнув, фотограф останавливает невыносимую и для него тягомотину и радостно заменяет ее на честное порно»[10].
Это пример ложного чувства стыда. Собственно, заглавие этой книги должно быть взято в кавычки. Даже уличая себя в получении наслаждения от низкого и признаваясь себе в этом, мы ведем себя неправильно. Потому что, даже наслаждаясь постыдным, мы можем использовать его с максимальной пользой для себя, анализируя его. Собственно, оно-то и должно быть проанализировано в первую очередь. Например, тому же Славою Жижеку не стыдно любить в том числе и низкое, а не наслаждаться одной лишь оперой. Иногда он, захлебываясь от восторга, рассказывает о каком-нибудь фильме, который не пристало любить интеллектуалу, как само собой разумеющееся. Но потреблять массовую культуру теперь не стыдно, тем более что именно она говорит об окружающем мире. Часто в ней закодированы те или иные послания, дешифровать которые под силу разве что интеллектуалу.
Сегодня в Соединенных Штатах, например, вряд ли кто-то стал бы ассоциировать массовую культуру с чем-то глупым, несерьезным, абсолютно пошлым. Чаще всего позитивное отношение к массовой культуре со стороны американцев свидетельствует не о низком культурном уровне, а о традиционном прагматизме в отношении к культуре. Они нередко отказываются от различных практик высокой культуры в пользу голого прагматизма. Сталкиваясь с проблемой различения высокой и низкой культур, исследователи объявили общим местом, что больше нет ни высокой, ни низкой культур, а есть то, что западный журналист Джон Сибрук назвал «nobrow», попытавшись упразднить термины «lowbrow» (грубый, низкий) и highbrow (утонченный, высокий)[11]. Проблема в том, что даже lowbrow все равно относится скорее к сфере высокого искусства, пусть и альтернативного (андеграундные течения типа поп-сюрреализма), нежели массовой культуры. Вряд ли массы задумываются над тем, какую культуру они потребляют: массовую или не массовую, они потребляют лишь некоторые продукты. Так что различия высокого и низкого на самом деле сохраняются.
Если тот или иной продукт масскульта нашел свою многочисленную аудиторию, значит, это что-то говорит нам о современной аудитории и о нашей культуре в целом. Вместо того чтобы отвергать и продукт, и его потребителей, его надо изучить. Все знают, что в популярном мультипликационном сериале «Южный парк», во-первых, поднимаются сложные темы; во-вторых, они интересно раскрываются авторами; в-третьих, в сериале есть масса вещей, которые нужно обнаружить, чтобы лучше понять высказывания авторов. Речь идет об аллюзиях на другие феномены массовой культуры[12]. Чтобы смотреть «Южный парк», нужно быть очень хорошо подготовленным зрителем и разбираться в поп-культуре как минимум последних 20 лет и во всем том, на чем основано мировоззрение создателей «Южного парка». Многие серии «Южного парка» уже предлагают интерпретацию массовой культуры как таковой, и мы можем согласиться или не согласиться с такой интерпретацией, но в силу намеренных или ненамеренных высказываний исследователю тяжело работать с таким ворохом смыслов, предлагая уже метаинтерпретацию.
Наконец, необходимо сказать о структуре книги, которая обусловлена не только тематикой текстов, но и используемой в них методологией анализа. В первой главе книги, посвященной теории низких жанров, обсуждается эволюция юмора как низкого жанра в американском кино. Принципиально важен в этой главе текст про вульгарных авторов, который отчасти станет теоретико-методологической рамкой для раздела о феминизме. Ключевым в оптике понимания всей книги является текст о модернизме и постмодернизме в кино. Он может служить методологическим ключом к прочтению главы о «модернистах» и других глав. Здесь речь идет о том, что модернистский кинематограф возможен и сегодня, но в качестве экспериментов на уровне формы кино. В данном случае задействован «формальный» анализ. Таковы разделы про Копполу и Кубрика. В части о Кроненберге говорится, что этот режиссер – модернист не только по форме, но и по содержанию (его интересует тело, соотношения психики и тела и проч.), которое заложено в его картинах, что накладывает отпечаток и на формальную сторону.
Следующая часть посвящена явлениям американского кино 1970-х. Это, с одной стороны, массовая, а с другой – низкая культура. Здесь не только рассказывается о том, что такое грайндхаус, культовый кинематограф и порнография, но также, как они функционируют в массовой культуре и в каких отношениях находятся с постмодернизмом. В отличие от грайндхауса и культового кино, с порнографией даже проще – это кейс, посвященный тому, как низкий жанр постарался влиться в массовую культуру, но проиграл.
Раздел о том, что низкое может быть высоким у Жижека – в своем роде методологическое введение к тексту про отношение Жижека к идеологии и ее представленности в современном кинематографе. В разделе про антиутопию и капитализм в качестве методологического инструментария взяты соображения Фредрика Джеймисона об утопии. Самой сложной является глава, посвященная монстрам – зомби, вампирам, призракам и маньякам, а также тому, что они означают и как эволюционировал смысл этих образов на экранах. Отчасти это попытка описать репрезентацию монстров, отчасти – прочитать монстров не только в отношении того, что они могут символизировать (женщин, евреев, геев и проч.), но и того, что они могут означать, если вдруг представляют самих себя.
Одной из ключевых глав является та, где обсуждаются конкретные кейсы: консерватизм, либерализм, патриотизм, феминизм. Гораздо сложнее с идеологией в «Бойцовском клубе». Текст, посвященный этой теме, выделяется, потому что в данном кино идеология противоречива и не может быть эксплицирована. Здесь используется анализ другого рода. Это не прочтение идеологии фильма, а взгляд на формирование идеологии: с чего она начинается, с какими противоречиями сталкивается и к чему приходит в самом фильме. Наконец, еще одна глава посвящена идеологическому прочтению мультсериалов «Южный парк» и «Симпсоны». В «Южном парке» можно увидеть, как в массовой культуре используется идеология либертарианства. В отношении обоих сериалов звучит призыв относиться к идеологии, которую они собой символизируют или репрезентируют, критически.
Ключевые темы книги – оппозиция модернизм/постмодернизм в кино, работа идеологии в американском массовом кинематографе, репрезентация монстров и интерпретация их образов с точки зрения социальной теории, а также рассуждения о явлении низких жанров в социальном контексте, которые тоже могут быть описаны как часть «массового» кинематографа. Таким образом, общая теоретико-методологическая рамка, объемлющая собой все тексты, – совмещение киноведения, социально-политической и культурной теорий.
Следует обратить внимание, что большая часть этой книги опубликована в качестве введений к книгам или статей в журналах «Логос», «Полис», «Искусство кино», «Отечественные записки», «Политическая концептология», а также на сайтах «Терра-Америка», «Рабкор», «Мнения. ру», «Русский журнал». Я благодарен редакторам, которые работали с этими текстами. Отдельные главы публикуются впервые и писались специально, для того чтобы книга обрела целостность.
Наконец, мне бы хотелось поблагодарить моих друзей Бориса Межуева, Константина Аршина и Якова Охонько, которые так или иначе обсуждали со мной темы этой книги или помогли ценными советами, а также родителей, мою жену и всех близких людей, без которых эта книга точно бы не получилась.
Завершить это введение мне хотелось бы фразой, которой закончил свою книгу «Будет ли когда-нибудь еще сиять радуга?» персонаж мульфильма «Симпсоны» Чарльз Монтгомери Бернс: «Надеюсь, дорогие читатели, вам понравится читать эту книгу так же, как мне ее писать». Другими словами, я рассчитываю на то, что вы получите удовольствие от чтения этой книги, пусть и постыдное.
I. Теория низких жанров
1. Комедия черного цвета: шутки над смертью
Традиция шуток на тему смерти – черного юмора – существует давно. Острые шутки на эту тему, произносимые со сцены, обеспечивают внимание аудитории: с одной стороны, они провоцируют общественность на споры, с другой – привлекают поклонников эпатажа. Но в своем современном виде жанр черного юмора занял место в «комедии не для всех» лишь недавно.
Черный юмор даже в самом невинном виде по вкусу приходится не всем, что видно по статусу некоторых культурных продуктов, ставших классическими. Таков, например, фильм американского режиссера Фрэнка Капры «Мышьяк и старые кружева», поставленный по пьесе Джозефа Кессельринга и вышедший в прокат в 1944 г. Наверное, это был один из первых фильмов с юмором подобного рода, который к тому же вызвал немалый резонанс. С момента выхода он обрел неоднозначную репутацию и до сих пор считается спорным произведением. Черный юмор этого фильма и сегодня приходится по вкусу далеко не всем, даже в России. Например, вот один из отзывов, оставленных на популярном портале «Кинопоиск», где пользователи могут писать рецензии на фильмы: «Гм… Я задаюсь себе вопросом вот уже в который раз – что же было в этом фильме такого смешного, что на IMDB эта кинокартина занимает почетное 235 место? Может оно какое-то невероятно трудное для понимания и юмор в нем необыкновенного сорта, но я не в силах досмотреть этот фильм даже до конца, выключила. Очень черная комедия»[13]. При этом картина представляет собой всего лишь комедию положений, сюжет которой завязан на многочисленных смертях, а не нападение на табуированные в обществе темы. Но даже такие, сравнительно целомудренные, шутки на тему смерти и сегодня вызывают острую реакцию блюстителей нравственности и тех, кто не понимает прелестей черного юмора. Впрочем, это не единственный пример, хотя и весьма показательный.
В последние десятилетия в жанре черного юмора происходят многочисленные трансформации и гибридизации. По отношению к некоторым темам этот юмор совершает трансгрессию, т. е. старается расширять границы допустимого в массовой культуре[14]. Наиболее ярко эти современные социокультурные тенденции относительно восприятия смерти отражаются в кинематографе и мультипликационных сериалах.
Для того чтобы проанализировать стратегии репрезентации смерти и юмора в кино, мы должны сначала описать место комедийного жанра в кинематографической культуре. Следующие вопросы, ответы на которые нам предстоит дать: как кинематографисты смеются над смертью? Какой тип юмора все же допускает табуированные в других контекстах шутки над темой смерти? Наконец, какую функцию выполняют (стремятся выполнить) авторы, которые позволяют себе смеяться над смертью, – инструментальную, психологическую/терапевтическую, культурную или все вместе взятые?
Комедия до сих пор остается самым низким и, возможно, самым недооцененным жанром из всех существующих. При этом она является также и одним из самых древних жанров в искусстве. Однако исследователи обращают на нее пристальное внимание только в том случае, если она вступает в союз с другими жанрами. Например, «романтическая комедия» или жанровая смесь (так называемые мешап) комедии и фильма ужасов[15]. «Обращают внимание», т. е. относятся к комедии всерьез, пытаются понять ее конвенциональные формулы, статус в истории кино и т. д. Но все же всерьез к ней относятся отнюдь не часто.
«Родовое проклятие» комедийного жанра восходит к античности. Аристотель в «Поэтике» главным образом рассматривает трагедию, упоминая комедию лишь вскользь. Впрочем, он намеревался написать еще одну часть «Поэтики», посвятив ее исключительно смеху. Но намерения этого не исполнил, либо текст работы затерялся. (Вспомним, именно на предположении о существовании этого трактата и причинах его исчезновения строится сюжет интеллектуального бестселлера 1980-х «Имя розы» Умберто Эко. Персонажи книги умирают лишь из-за желания узнать, как и что о смехе думал Аристотель.)
Уже Аристотель обращает внимание на тот факт, что история возникновения и эволюции комедии никому не известны[16]. До Аристотеля никто не занимался изучением темы и даже не вел ее летопись. От самого Аристотеля нам также не осталось в наследство ни языка описания комедийного жанра, ни напутствия заниматься этой темой. В дальнейшем комедию также никто не подвергал тщательному философскому анализу. Она была вытеснена из внимания великих умов прошлого, которые могли бы сказать нечто важное о природе этого жанра.
В «Поэтике» Аристотель лишь сообщает нам: «Комедия, как мы сказали, есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдание и ни для кого не пагубное»[17]. Возможно, именно с легкой руки классика комедия и обрела статус самого низкого жанра, который сохранила на протяжении веков истории культуры. Конечно, такой прием, как гротеск, характерный для комедии, использовался и именитыми авторами в «высокой» литературе и профессиональной живописи. Но гротеск не всегда имеет комический характер. Например, когда он выражает нечто безобразное или ужасное, получается совсем не смешно. Гротеск комичен лишь тогда, когда его используют, для того чтобы подчеркнуть нечто нелепое, и уж тут он находится в сфере телесного, а потому – низкого. Возможно, и по этой причине смешное долгое время не могло подступиться к теме смерти. Характер юмора и представления о смешном эволюционировали на протяжении многих веков, но смерть оставалась темой, над которой не было принято смеяться. Если она и присутствовала в комедии, то в силу особенностей жанра оставалась в гетто народной, низовой культуры.
Часто корни черного юмора стремятся найти на исходе Средних веков и почти всегда приводят в пример «Пляски смерти» – сюжеты живописи и словесности, в которых персонифицированная смерть уводит с собой пляшущих людей, представляющих разные слои общества. Но тот вид черного юмора, который стал известен в XX в., если даже и имел истоки в высокой культуре, сам по себе никак не представлялся современникам и ценителям столь же традиционным. Конечно, такой признанный автор, как Даниил Хармс, мог придать абсурдному юмору налет «благородства», но все же юмор так и не выбрался из гетто культуры народной, низовой. Кроме того, не было таких «проклятых ученых»[18], которые могли бы сделать черный юмор предметом своего тщательного анализа. Другим жанрам повезло больше: так, например, Жорж Батай исследовал порнографию и эротизм и тем самым легитимизировал их в интеллектуальном поле.
И даже если сегодня исследователи кинематографа вдруг решаются писать о комедии, то чаще всего в их списки «канона серьезных смешных фильмов» практически не попадают картины, юмор которых является сортирным или черным. Например, в «Кратком путеводителе по комедиям» Боба МакКейба в список 50 важнейших комедий вошли лишь пять лент, которые имеют хотя бы какое-то отношение к смерти. Это «Быть или не быть» (1942) Эрнста Любича, «Убийцы леди» (1955) Александра Маккендрика, «Военно-полевой госпиталь» (1969) Роберта Олтмена, «Четыре свадьбы и одни похороны» (1993) Майка Ньюэлла и «Шон против живых мертвецов» (2004) Эдгара Райта[19]. В общем если комедия была низким жанром, то черный юмор занимал в ней самое незавидное место. Вместе с тем существовал предел, за который нельзя выходить. На протяжении истории кино этот предел диктовали общественные представления-табу о том дне, ниже которого опускаться запрещено.
Черный юмор не сразу смог застолбить себе место даже в комедийном жанре. Сперва комедии были тем, что сегодня называется «слэпстик» (от англ, slapstick comedy – буквально «веселье с колотушками»; комедия положений). В этом субжанре работали многие комики, начиная с Чарли Чаплина, Бастера Китона или братьев Маркс. Однако в середине XX в. на смену наивным сценическим гэгам пришли более серьезные темы. Как подмечает Ханна Арендт, маленький человек, репрезентируемый Чаплином, стал не нужен, и на арену вышел сверхчеловек[20]. Эту трансформацию можно наблюдать в шедевре Чаплина «Великий диктатор». Впрочем, споры о том, допустимо ли – и если да, то при каких обстоятельствах – смеяться над Гитлером, ведутся по сей день.
Но даже в середине XX столетия комедии в целом оставались целомудренными, не затрагивая самые болезненные темы. Например, таковы картины американского автора Престона Стёрджеса. Достаточно циничными, чтобы смеяться над смертью, комедии стали лишь в начале 1970-х, когда самые страшные потрясения XX в. уже были историей. Именно циничными комедии 1970-х называет упоминаемый выше Боб МакКейб[21]. В целом 1970-е – эпоха эксцентричных комедий. В это время активно начинают снимать свои картины Мел Брукс, Карл Райнер, немного позднее братья Дукеры и их постоянный соавтор Джим Абрахамс и т. д. Но из всех «эксцентричных комедиантов» только Вуди Аллен смог стать уважаемым и серьезным автором во многом благодаря его ставке на интеллектуализм.
Впрочем, и до Вуди Аллена существовали прекрасные образцы черного юмора. Например, черная комедия «Убийцы медового месяца» Леонарда Касла (1969), в которой пара любовников, представляясь братом и сестрой, убивают одиноких женщин, пытающихся устроить личную жизнь. Хотя в фильме почти нет сцен насилия, для 1969 г. картина была вызовом моральным устоям и общественному вкусу. Сегодня фильм вошел в пантеон культового кино и был выпущен на DVD самой престижной компанией, специализирующейся на ремастеринге значимых картин мирового кинематографа, – The Criterion Collection. Но это – хороший пример независимого кино. То же самое касается и таких голливудских шедевров, непосредственно связанных с темой смерти, как «Военно-полевой госпиталь» (1969) и «Гарольд и Мод» (1971) Хэла Эшби. Последняя лента наиболее любопытна, так как стала первым студийным фильмом, который получил репутацию культового кино. Главный герой Гарольд молод, богат, но не удовлетворен жизнью. Он постоянно инсценирует самоубийства, чтобы привлечь внимание матери. Но после того как Гарольд встречает 79-летнюю Мод на похоронах (куда они оба ходят просто развлечься, как в кино или театр), его отношение к жизни и смерти меняется. В день своего 80-летия Мод кончает жизнь самоубийством и завещает Гарольду жить. Для популярного американского кинематографа это был очень противоречивый фильм, слишком смешной, чтобы быть мелодрамой, и слишком странный, чтобы быть комедией. Тем не менее фильм нашел отклик у определенной аудитории. Так, в одном из кинотеатров в Соединенных Штатах он регулярно шел в течение двух лет. Это был отважный эксперимент, показавший, что по крайней мере часть американского общества готова к восприятию смерти в виде очень странного юмора. Дорога была открыта новым творческим поискам.
Экспериментировать продолжил Вуди Аллен. Вплотную и непосредственно он обращается к теме смерти в картине «Любовь и смерть», посвященной русской классической литературе XIX в. Эта эксцентрическая и уже довольно умная лента снята в 1975 г. еще до того, как Аллен создал свои главные хиты «Манхэттен» (1979), «Энни Холл» (1977) и выработал индивидуальный творческий почерк. Однако здесь он уже пытается включить в сценарий интеллектуальные шутки, над которыми посмеялись бы и умные люди. Например, «Врач запретил мне чем-либо заниматься до смерти»; «У меня язва. Смерть ей вредна» и т. д. Кстати, тому же Вуди Аллену принадлежит известный афоризм: «Никто из нас не боится смерти. Мы просто не хотим быть рядом с ней, когда она придет».
На всем протяжении фильма главный герой оказывается рядом со смертью – на войне, на дуэли. Мы наблюдаем, как вокруг него умирают близкие люди, пока, наконец, смерть не находит и его самого. В нескольких сценах мы видим смерть как субъект – она безмолвно уводит умерших людей, а герой Аллена за этим наблюдает. Смерть предстает в материальном образе: это некто в белом балахоне с капюшоном. Люди, которых уводит смерть, не грустны, не испуганы, они заговаривают с персонажем и просят передать какие-то несущественные вещи родным. Скорее всего, такая репрезентация смерти в материальном виде – дань уважения кумиру Вуди Аллена Ингмару Бергману. (В материальном виде у Бергмана смерть предстает в картине «Седьмая печать».) Кстати, сам Бергман хоть и поднимал тему смерти в своем творчестве, но никогда даже не пытался подать ее в комическом ключе.
В Великобритании в том же жанре абсурдистской, эксцентрической комедии, что и Вуди Аллен, работала комик-труппа «Монти Пайтон». Работы этой команды стали, наверное, самыми интересными в жанре «шуток над смертью». Свой главный шедевр на тему смерти команда сняла в 1980-х, хотя эта тема также присутствовала и в предшествующих полноценных фильмах: «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975) и «Житие Брайана по Монти Пайтону» (1979). Несмотря на то что картина называется «Смысл жизни» (1983), авторы в ней рассуждают все же больше о смерти. В этой ленте к абсурду уже примешивается черный юмор, не вполне характерный для Вуди Аллена.
Например, сцена, когда специальные агенты приходят за жизненно важными органами к еще живому человеку, тот отвечает: «Но я еще жив. Я согласился отдать их только, когда умру». «Да, – говорят они. – Но ведь вы умрете, когда мы их заберем». Затем охотники собираются забрать органы и у жены донора-добровольца. На эту сцену обращает особое внимание словенский философ Славой Жижек в своей работе «Чума фантазий». Он вкратце пересказывает дальнейший сюжет, в котором «охотники за органами» провожают сопротивляющуюся, пока еще живую, героиню в звездное пространство вселенной, чтобы доказать, что одна маленькая жизнь отдельного человека – ничто по сравнению с возвышенным абсолютом макрокосма. Жижек доказывает этим, что нелепая черная шутка о смерти является предметом и той эстетики, что работает с прекрасным, а не только той, что с безобразным[22]. Предметами эстетики традиционно принято считать лишь возвышенное и прекрасное. Но существуют и те, кто стремится работать с ужасным либо исследовать эстетику безобразного и уродливого. Нелепость шутки – низменное (расчленение живого человека) оправдывается возвышенным.
В 1990-е настала эпоха мешап, когда авторы пытались объединить разные типы комедий, например, сортирный юмор и романтическую комедию, как в ленте «Кое-что о Мэри» (1998), или романтическую историю и черный юмор, как в фильме «Смерть ей к лицу» (1992) или «Четыре свадьбы и одни похороны» (1993). В последних картинах смерть стала не предметом всеобщего осмеяния, а сюжетным ходом, той областью, к которой применяется инструментарий комедии.
Над смертью смеялись осторожно. По большому счету, речь шла не столько о серьезных проблемах, существующих в обществе (СПИД, рак и т. д.), т. е. о ее социальных аспектах, сколько о феноменологии самой смерти или же в крайнем случае о смерти экзистенциальной – индивидуальной, касающейся конкретного человека. Фактически комедии 1990-х были безобидными: хотя они и могли сказать что-то о социальной стороне бытия, но острых вопросов, реальных проблем, касающихся смерти, все же не затрагивали.
К этому же типу относятся и более поздние картины типа «Смерть на похоронах» Фрэнка Оза (2007). Лента, в которой смешные ситуации, в том числе смерть, возникают на похоронах патриарха аристократического английского семейства, оказалась настолько успешна, что римейк (в котором почти все актеры стали чернокожими) с тем же названием, но уже для американской аудитории, буквально через несколько лет снял уважаемый драматург Нил Лабут (2010). Это черный, но в той или иной мере мягкий юмор, непристойный, но все же осторожный. Осторожный в том смысле, что «табу на смех над смертью» в последнее время касается не столько феномена как такового, сколько его конкретных исторических примеров, связанных с социальными проблемами. Хотя к смерти и стали относиться с большим безразличием, все равно смеяться над многими вещами все еще нельзя. Юмор этого фильма черный, но «беззубый», он лишен сатиры.
Лишь некоторые фильмы вплоть до конца XX в. не боялись затрагивать опасные, спорные темы. Например, драма с элементами комедии «Жизнь прекрасна» (1997) Роберто Бениньи, сюжет которой развивается на фоне Холокоста, вызвала шквал критики, хотя не отступала от принятого описания этой трагедии. А картину «День, когда клоун плакал», снятую на ту же тему американским комиком Джерри Льюисом, никто не видел: смонтированная, она до сих пор лежит на полке[23]. Юмор фильма настолько неуместен, что картина до сих пор не увидела света, хотя была закончена в 1972-м.
В итоге в кинематографе укрепились две сосуществующие стратегии репрезентации смерти в комедии. В первой – смерть используют инструментально как прием. Во второй – смерть всегда конкретное проявление и ее социальное восприятие. Больший интерес представляет именно вторая стратегия, потому что первая ограничивается лишь жанровыми конвенциями черного юмора. Но и вторая стратегия претерпела существенные изменения с конца 1990-х и на протяжении 2000-х. Черный юмор, благодаря долгой кинематографической традиции, становится уже почти представительным, т. е. признается полноценным нормальным жанром.
В отличие от черного, так называемый сортирный юмор, набравший популярность в 2000-е, о чем говорит хотя бы успех множества «плоских и пошлых комедий» типа франшизы «Очень страшное кино», считается самым низким жанром и в некоторой степени в пространстве социальных осуждений занял место черного юмора. И нет ничего удивительного, что в эпоху мешап смешиваться стали даже такие жанры и стили, которые, казалось бы, смешиваться не могут. Так, вступили в альянс черный и сортирный юмор, а к ним присоединились сегодня уже признанные абсурдистские шутки в стиле «Монти Пайтон» и всегда остававшаяся респектабельной социальная сатира.
Действительно резко над смертью стали смеяться с манифестацией прихода сортирного юмора в 2000-х. Характерно, что ключевым жанром, в котором возник этот гибрид, стали телевизионные мультипликационные сериалы. Например, в мультсериале «Гриффины», который даже закрывали за непристойность, в качестве персонажа постоянно появляется Смерть, которая когда-то лишь мелькала в фильмах Ингмара Бергмана и Вуди Аллена. Многие сюжетные линии сериала прямо замешаны на участии Смерти. Еще более острыми оказались сортирные шутки шоу «Южный парк».
Удивительно и примечательно, что историки и социологи кино, которые не чураются самых «низких» тем в своих исследованиях – это и порнография, и разные вариации жанра ужасов, где присутствует много крови, расчленения, насилия, а также то, что в последнее время стало известно как «новый экстремизм», или «трансгрессивный кинематограф», – обходят стороной различные формы комедии[24]. Те же из специалистов, кто посвящает себя изучению комедии, выбирает в качестве предмета ее более или менее приемлемые в современной культуре субжанры, например, романтическую комедию[25].
Разумеется, существуют исследователи, изучающие не столько тенденции или жанры, сколько отдельные продукты и феномены современной культуры, например, тот же «Южный парк». Однако эти авторы стремятся «облагородить» изучаемый феномен, вписывая шоу в интеллектуальные традиции. Далеко не все исследователи настолько отважны, чтобы исследовать природу или тип юмора «Южного парка». А те, кто берутся это делать, пытаются рассматривать его в устоявшейся аналитической традиции исследований народной культуры, предложенной еще Михаилом Бахтиным[26]. Тема «низкого юмора» остается в глазах исследователей не столько табуированной, сколько несолидной или, может быть, даже слишком простой. В попытках избежать изучения черного и сортирного юмора как отдельного типа авторы, не чурающиеся исследовать, скажем, «Южный парк», упускают возможность понять многие проблемы, которые создатели этого шоу обсуждают непосредственно в контексте данного юмора.
«Южный парк» смеется над табуированными темами в самой грубой и часто пошлой форме: он смеется на СПИДом, раком, политкорректностью и т. д. Эта встреча абсурда, черного юмора и юмора сортирного, пока что стала последним словом в теме «шутки над смертью». Однако даже для авторов мультфильма существует тема, смеяться над которой они не могут. Речь идет о Холокосте. Многие исследователи полагают, что Холокост в принципе не может и тем более не должен быть представлен в массовой культуре. И если про него нельзя снимать даже драматические фильмы (вспомним, что в 1993 г. критике подвергся и Стивен Спилберг с его «Списком Шиндлера»), то о каких комедиях может идти речь? Выходит, что смерть все-таки сильнее смеха, и в ее самых страшных явлениях, которые часто называют радикальным злом, она совершенно не смешная.
Лишь некоторые из западных исследователей и тех, кто создает значимые продукты в сфере массовой культуры, пытаются дать понять, что к смерти не следует относиться слишком серьезно. Возможность безобидных шуток помогает смириться с неизбежным и осознать, что смерть в ее многообразии не так уж и страшна. При этом черный юмор ориентирован скорее на циников, а сортирный – на трансгрессию, расширение пределов дозволенных тем; в отношении смерти они оба выполняют примерно одну функцию. Предлагая смеяться над смертью или над ее самыми страшными проявлениями, юмор фиксирует точку в социальной истории, когда обществу становится ясно, что эта тема перестала быть слишком болезненной. Так, некоторые американцы уже позволяют себе смеяться над трагедией 9/11, но шуток над Холокостом пока не допускается. Возможно, в тот день, когда общество начнет смеяться и над Холокостом, эта катастрофа перестанет восприниматься как самое страшное событие в человеческой истории. В каком-то смысле поэтому и говорят, что черный и сортирный юмор выполняют терапевтическую функцию. Вместо постыдного замалчивания реальных проблем, которых со временем меньше не становится, они предлагают обсуждать их, пусть и под видом шуток.
Если подводить итог, то можно сказать, что терапевтическая функция юмора столь же важна, как и культурная. Менее всего интересна инструментальная функция смеха, потому что она является лишь приемом, трюком в нарративе и редко несет серьезную смысловую нагрузку. Смех в культуре – тема отдельного исследования, но и без того можно сказать, что вид юмора отражает степень развития общественного сознания. Например, в России не только не принято шутить над некоторыми феноменами смерти, но и вообще как-либо репрезентировать их даже серьезно (скорее, их будут замалчивать). Это касается СПИДа и даже рака. Любой фильм, снятый на подобную тему, попадает в разряд «чернухи», что в некотором смысле произошло с «Тельцом» (2000) Александра Сокурова. Например, получившую высокие оценки критиков и зрителей картину Джонатана Ливайна «Жизнь прекрасна» (2011) в России решили не выпускать в прокат, потому что тему рака, которому посвящен фильм, у нас не принято обсуждать в публичном пространстве. В Соединенных Штатах, как выясняется, над раком смеяться – причем смеяться в разных степенях – допустимо, что свидетельствует о высоком уровне сознания острых социальных проблем, требующих репрезентации в массовой культуре.
2. В защиту «вульгарного авторского кинематографа»
В мае-июне 2013 г. американская кинокритика обсуждала концепцию «вульгарного авторского кино» (vulgar auteurism). Хотя термин впервые был употреблен в 2009 г. в уважаемом издании, посвященном мировому кинематографу, дискуссии о нем развернулись значительно позже. Это понятие использовал Эндрю Трэйси по отношению к Майклу Манну в тексте «Вульгарное авторское кино: случай Майкла Манна»[27]. И вот, спустя несколько лет, развернулись активные дискуссии вокруг «феномена». Характерно, что обсуждение было спровоцировано не именитыми кинокритиками, а блогерами с сайта MUBI.
Примерно в это же время «вульгарному авторскому кинематографу» стали уделять много внимания и другие популярные блоговые платформы, такие как Tumbler[28]. В итоге статьи на эту тему появились в ведущих интеллектуальных американских периодических изданиях «The New Yorker»[29], «The Village Voice»[30], выдержки из текста Эндрю Трэйси онлайн опубликовал и «Cinema Scope»[31]. Отчасти критики были вынуждены сдерживать напор блогеров, пытавшихся провести ревизию понятия «авторства». Что же такое «вульгарный авторский кинематограф», который вынудил критиков ведущих журналов вместо того, чтобы писать об артхаусных хитах, начать исследовать творчество режиссеров, преимущественно работающих в развлекательном жанре?
Концепция «вульгарного авторского кино» может быть изложена в двух-трех предложениях. Речь идет прежде всего о качественных жанровых работах последних пяти-десяти лет, в которых бы отчетливо угадывался яркий индивидуальный почерк режиссера – автора. Забегая вперед, обратим внимание, что уже здесь обнажается существенная проблема с концептом: как определить высокое качество картины, достоинства режиссера и кто именно это должен делать (критики, блогеры, синефилы, рядовые зрители)? Вместе с тем те, кто пишут на эту тему, находят «вульгаризм» и значительно раньше – в радиусе последних 20 лет – и стремятся включить в список обсуждаемого явления как можно больше имен. При этом необходимо, чтобы автор работал в «жанре», преимущественно в экшн, а также он непременно должен быть любим массами, т. е. являться «вульгарным». Впрочем, кроме экшн допустимы и иные жанры, например, комедия. Обычно критики отзываются о братьях Питере и Бобби Фаррелли, снявших «Тупой и еще тупее» (1995), «Кое-что о Мэри» (1998), «Я, снова я и Ирэн» (2000) и др., как о «вульгарных авторах». Кроме того, это понятие относится прежде всего к американскому кинематографу и тем иностранным режиссерам, которые после успехов на родине стали работать в Соединенных Штатах. Таким образом, «вульгарный автор» обязан быть сравнительно молодым, он может и должен работать с большими бюджетами, со звездами, иметь высокие кассовые сборы, но не должен быть признан критиками или искушенными в высоком искусстве зрителями.
Поскольку речь идет об «авторском кино», в дискуссиях с неизбежностью упоминают имя Эндрю Сэрриса, собственно, главного американского адепта теории автора в кинематографе. Таким образом, молодых блогеров и критиков часто вписывают в «традицию» классической кинокритики, к чему они, кажется, сами не стремятся. Как бы то ни было, молодые кинокритики скорее противопоставляют себя интеллектуальной традиции Эндрю Сэрриса, нежели признают его тексты своими идейными истоками. Поэтому сторонники концепции отмечают, что «вульгарное авторское кино» отличается от «авторского кино»: первое якобы «скорее связано с экспрессивной эзотерикой, нежели с пантеоном». Сам Сэррис настаивал на понятие «пантеона», в который и хотел включить режиссеров-индивидуалистов. Сегодня же, в отличие от времен Эндрю Сэрриса, с точки зрения сторонников «вульгаризма», режиссерам не нужно оглядываться на тех, кто будет писать о них статьи и книги, и тем более не нужно стремиться занять место в пантеоне «авторов»: включат всех, кто работал в жанре и успел примелькаться во временном интервале как минимум последних двадцати лет.
Молодые критики и синефилы, ратующие за концепцию «вульгарного авторского кино», ставят перед собой две цели. Во-первых, рассматривать «известных, но недооцененных персонажей» типа Джона Мактирнана («Хищник», 1987; «Крепкий орешек», 1988), Уолтера Хилла («Воины», 1979; «Улицы в огне», 1984) и Абеля Феррары («Король Нью-Йорка», 1990; «Плохой лейтенант», 1992). Подчеркнем, что недооцененными этих авторов считают именно адепты нового подхода в кинокритике. Во-вторых, вовлечь общественность в дискуссию о творчестве режиссеров, картины которых не принято обсуждать всерьез, и попытаться подробно проанализировать творчество этих авторов, например, картины Рассела Малкэхи («Тень», 1994; «Обитель зла-3», 2007), Тони Скотта («Топ тан», 1986; «Настоящая любовь», 1993), Роба Зомби («Изгнанные дьяволом», 2005; «Хэллоуин», 2007). Список не исчерпывается этими именами. Это просто примеры, которые часто мелькают в текстах критиков.
Кроме упомянутых режиссеров, в список включены следующие герои: Джо Карнахан («Команда А», 2010), Нимрод Антал («Хищники», 2010), Джон М. Чу («Бросок кобры-2», 2013), Айзек Флорентайн («Ниндзя», 2009), Роэль Рейн («Смертельная гонка», 2-я и 3-я части, 2010 и 2012 гг. соответственно), Джастин Лин (4-6-я серии франшизы «Форсаж», 2009–2013), Марк Невелдайн и Брайан Тейлор («Геймер», 2009; «Адреналин», 1-я и 2-я серии, 2006 и 2009 гг. соответственно), Джон Хайамс («Универсальный солдат», 3-я и 4-я части, 2009 и 2012 гг. соответственно), Пьер Морель («Заложница», 2007; «Из Парижа с любовью», 2009), Пол Верхувен («Звездный десант», 1997), Найт М. Шьямалан («Девушка из воды», 2006; «Явление», 2008), Майкл Бэй («Плохие парни», 1-я и 2-я серии, 1995 и 2003 гг. соответственно; 1-3-я серии франшизы «Трансформеры», 2007–2011; «Кровью и потом: анаболики», 2013), Пол Андерсон (франшиза «Обитель зла», 2002–2012)[32]. С точки зрения сторонников «вульгарного авторского кинематографа», все эти режиссеры обычно игнорируются критиками из-за якобы откровенно низкого интеллектуального уровня картин. Считается также, что неприятие этих «авторов» со стороны критики может заключаться в личной антипатии к насилию, которое проповедуют «вульгарные режиссеры». Что очень важно, почти всегда это насилие не смягчается иронией, а если подается как «веселое», то все равно, как правило, отталкивает тех, кто привык смотреть более «взвешенные ленты». Сторонники «вульгаризма» стремятся найти высокое искусство там, где его до сих пор якобы не было принято искать.
Защитники «вульгаризма» могут быть умеренными и радикальными. Отличаются они резкими высказываниями по отношению к «старым авторам», а также по степени их оценок авторов «новых». Например, некоторые настаивают, что Пол Андерсон гораздо изобретательнее, нежели Микаэль Ханеке. Другие отмечают, что автору третьей и четвертой серий «Универсального солдата» удалось бы снять «Координаты Скайфолл» лучше, чем Сэму Мендесу. Забегая вперед, отметим уязвимость позиции адептов «вульгаризма». Если уважаемый киноакадемиками и критиками Сэм Мендес признается «обычным автором», снявшим серьезную жанровую ленту, которую другие могли сделать лучше, не означает ли это, что точно такими же «невульгарными авторами» должны быть признаны, по крайней мере, те режиссеры, кто снимал предыдущие серии бондианы после перезапуска франшизы, т. е. Мартин Кэмпбелл и Марк Форстер? Но последние подпадают, скорее, под понятие «вульгарных авторов», так как всегда работали в жанре. Наконец, есть и такие, кто призывает отказаться от исследования творчества уже давно признанных авторов и полностью посвятить себя освоению новых горизонтов, которые открывает перед критикой «вульгарное авторское кино».
Теорию «вульгарного авторского кино» можно понять лучше, если обратиться к истокам споров об авторском кинематографе, т. е. к самой теории «авторского кино». Она восходит к текстам французских критиков начала 1950-х годов: некоторые из них стали великими режиссерами и, конечно, «авторами», например, Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар. Начинающие тогда еще критики публиковались в молодежном журнале «Cahiers du Cinema», редактором которого был известный киновед Андре Базен. Собственно, сам термин «de la politique des auteurs» принадлежит Андре Базену, поддержавшему молодых коллег, но все же критически воспринимавшему их подход к кино[33]. Подход французов заключался в том, что они объявили американских студийных режиссеров, работавших в сфере развлекательного кинематографа, настоящими «авторами» с собственным индивидуальным почерком и системой эстетических ценностей: их героями были Николас Рэй, Отто Премингер, Говард Хоукс и Альфред Хичкок.
В 1962 г. термин попал на американскую почву, родину «авторов», которыми восхищались молодые французские интеллектуалы. В оборот его ввел уже упоминавшийся критик Эндрю Сэррис. Сэррис писал для уважаемого и в 1960-е пока еще контркультурного издания «The Village Voice». Однако его «Заметки о теории автора» появились в другом, значительно более контркультурном журнале, где он и начинал свою карьеру, «Film Culture» Йонаса Мекаса. Сэррис отмечал, что, имея в виду «de la politique des auteurs», для удобства чтения он будет использовать новый термин «теория автора» (auteur theory)[34]. Примечательно, что примерно в то же время и безотносительно Сэрриса «войну» против великих европейских режиссеров в Соединенных Штатах вели американские критики Паркер Тейлор и Мэнни Фарбер. В частности, Мэнни Фарбер предлагал взглянуть на американских «термитов» типа Сэма Фуллера, которые по всем параметрам превосходили «европейских белых слонов» и были не меньшими «авторами». Еще более примечательно, что его заметка о «термитах», как он называл своих героев, появилась в том же 1962 г.[35]
Но даже энтузиазм Сэрриса – не то, что Фарбера – не вызывал воодушевления у его коллег по перу. Так, вероятно, самая влиятельная критикесса Полин Кейл пыталась сдержать попытки режиссеров, слишком активно пытавшихся заявить о своих «авторских амбициях». Например, Кейл не очень жаловала Стэнли Кубрика и не раз критиковала его картины. Вот почему в пантеон, о котором говорили приверженцы «теории автора», было очень сложно попасть, и в те времена далеко не все сегодня уже именитые режиссеры считались «авторами». Необходимо обратить внимание, что влияние критиков в 1960-1970-х годах было колоссальным: часто именно от их рецензий и эссе напрямую зависела прокатная судьба голливудской картины.
Как и их французские коллеги, американцы хотели создать контрканон «авторов», т. е. провести ревизию уже устоявшейся традиции почитать отдельных европейских режиссеров. Сама идея «необходимости канонов» если и не создана, то активно развиваема американским влиятельным критиком Джонатаном Розенбаумом[36]. Розенбаум много лет настаивает, что в истории кинематографа существуют каноны, традиция, которая не подлежит какой-либо ревизии, и поэтому исследователи кинематографа и академики должны не просто соблюдать устоявшиеся нормы, но и с необходимостью воспроизводить, поддерживать к ним интерес у молодого поколения. Проблема заключается в том, что канон не один, их много, и все они разные – это касается не только жанров, но и стилей, а главное – «канона лучших фильмов». И конечно, особую роль в дискуссиях занимает «канон режиссеров».
В свой личный пантеон Сэррис, например, включил 20 режиссеров, среди которых Хичкок, Хоукс и Уэллс[37]. Как сильно критика уважает последнего, хорошо известно. Шедевр Уэллса «Гражданин Кейн» в течение долгого времени признавался лучшей картиной всех времен, а сам Уэллс – выдающимся «автором». Но редко вспоминают, что не кто иной, как Уэллс, нанес серьезный удар по «теории автора». Известно, что Уэллс завещал завершить начатый им проект «Дон Кихот» (1957/1992) испанскому режиссеру Джессу Франко, который имеет особенный статус в кинокультуре. По его собственному признанию, Франко являлся «культовым режиссером», т. е. по его же словам, никакой пользы для кинематографа он не принес, но тем не менее оказался любим узким кругом поклонников. Все были удивлены, что Уэллс выбрал именно Франко, чтобы тот закончил один из его самых амбициозных проектов. Это доверие означало, что и Франко является «автором». Каким образом сегодня можно воспринимать этот фильм, ставший одним из самых больших разочарований? Как произведение двух «авторов» – признанное в высокой культуре и признанное в низкой? Не хотел ли тем самым Уэллс пошатнуть еще не сформировавшийся пантеон, канон великих «авторов», который все еще будет доминировать в критике и в XXI в.?
Это возвращает нас к концепту «плохого» фильма/режиссера. Сам Эндрю Сэррис к понятию «плохого фильма» и «плохого режиссера» относился традиционно, он не считал, что «плохое» может быть «хорошим», как считают многие сегодня. Тем не менее критерии «плохого» для Сэрриса были неочевидны. Означает ли, задавался вопросом критик, что если режиссер плохой, то он не может снять хороший фильм? И что вообще означает понятие «плохой режиссер»? С точки зрения критика, никаких объективных критериев для определения художника как плохого не было и нет. Ситуация усугубилась к концу 1970-х, когда два кинокритика Майкл и Гарри Медведы стали писать о «плохом кино», т. е. составлять списки худших фильмов, описывать режиссеров, на которых до тех пор никто не обращал внимания, рассказывать о громких голливудских провалах и т. д. Они создавали еще один канон. Конечно, Медведы не настаивали на том, что фильмы и режиссеры, о которых они пишут, «хорошие», но они отмечали, что те же картины могут быть интересны, увлекательны и оценены по достоинству. Кстати, именно к этим критикам восходит канонизация Эдварда Вуда-младшего как «худшего режиссера всех времен и народов». До конца 1970-х Эдвард Вуд не был известен как автор. Позднее уже Тим Бёртон снимет апологию «Эд Вуд» (1994), в которой будет превозносить энтузиазм и энергию мастера плохих фильмов. Не та же ли самая энергия позволила Орсону Уэллсу пригласить в свой проект Джесса Франко? Никто не отрицал, что Вуд – плохой режиссер, но картины, снятые им, в итоге приобрели статус «авторских», пусть этот автор и был «плохим». Как когда-то Тим Бёртон в своей картине «Эд Вуд» сопоставил Уэллса и Вуда[38], сам Уэллс сопоставил себя с «плохим режиссером» Франко.
С 1952 г. раз в 10 лет Британский киноинститут проводит опросы критиков, на основе которых составляет списки лучших фильмов, публикуя их в журнале «Sight & Sound». В 2012 г. рейтинг кинокритиков возглавил фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», вытеснив на второе место фаворита предыдущих десятилетий «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса, неизменно возглавлявшего список с 1962 г. Вероятно, этот проигрыш лучшего фильма, который признавали таковым 50 лет кряду, и стал аргументом в пользу того, что необходимо если и не пересматривать каноны, то по крайней мере обратить внимание на что-то новое. Сегодня же радикальные сторонники «вульгарного авторского кино» считают, что в картинах Орсона Уэллса нет ничего такого, что еще не было открыто другими критиками. В этом есть доля истины, однако это не означает, что адепты «вульгаризма» правы во всем.
Вероятно, подход молодых критиков можно было бы принять, но с существенными оговорками. Прежде всего проблема заключается в том, что сегодня понятие «автор» является максимально размытым и требует уточнений. Более того, те «авторы», о которых пытаются говорить сторонники «вульгарного подхода», имеют неодинаковую репутацию и, следовательно, статус в культурном пространстве.
Например, приверженцы «вульгарного авторского кино» особое внимание уделяют работам Пола Андерсона. Андерсон – распространенное имя среди современных американских режиссеров. Так, уважаемыми «авторами» среди Андерсонов уже давно считаются два – Пол Томас Андерсон («Нефть», 2007) и Уэс Андерсон («Королевство полной луны», 2012) – блестящие американские режиссеры, давно признанные критикой. Молодые критики же хотят возвеличивать еще одного Андерсона, автора франшизы «Обитель зла». Они считают, что этот режиссер не менее достоин быть большим художником. Но при этом вниманием обделен еще один «вульгарный автор» – Брэд Андерсон, начинавший карьеру с независимых фильмов ужасов («Девятая сессия», 2001) и снявший один из самых стильных триллеров 2000-х «Машинист» (2004). Хотя последние его фильмы имеют низкие оценки зрителей и пользователей интернет-ресурсов, где при желании можно поставить оценку картине, и действительно уступают другим лентам, все же режиссер снял несколько принципиально важных работ, которых иначе как «авторскими» не назовешь[39].
Однако эта трудность решается за счет инклюзивности теории «вульгарного авторского кинематографа»: включить в эту группу можно кого угодно. Проблема только в том, что критики все еще не заметили Брэда Андерсона и при этом обратили внимание на куда менее значимых режиссеров. И если речь идет о фильмах с высокими бюджетами, то где та грань, которая разделяет творчество, скажем, Зака Снайдера и Пола Андерсона, Кристофера Нолана и Брэда Андерсона? Снайдер и Нолан – уважаемые критиками «авторы». Пол Андерсон – уже почти уважаемый. И тем не менее их статус разный. Эту грань должны провести молодые кинокритики, ратующие за включение новых фигур в общественные дискуссии, и объяснить, что именно находится по обе стороны от этой грани.
Существенных же проблем с «вульгарным авторским кинематографом» несколько. Во-первых, все упомянутые «вульгарные режиссеры» работают не только в жанре экшн, но также и в жанре ужасов, например, Джон Карпентер. А такие «мастера ужасов», как Карпентер, уже давно были признаны широкой общественностью. Разве кто-нибудь усомнится в том, что Дэвид Кроненберг, Уэс Крэйвен, Джордж Ромеро или даже Тоуб Хупер являются «авторами»? Все они постоянные участники разных фестивалей, некоторые из них даже имеют престижные награды. Например, Кроненберг еще в 1990-х шокировал общество в Канне своей «Автокатастрофой». Ким Ньюмен, критик, который пишет преимущественно об ужасах, в своей старой книге «Кошмарное кино» уделяет «авторам хоррора» целую главу, которая так и называется «Авторы». В их число он включает Дарио Ардженто, Ларри Коэна, Дэвида Кроненберга и Брайана Де Пальму[40]. В переиздание этой книги он включает новую главу «Еще авторы», в список которых теперь попали Тим Бёртон, Гильермо дель Торо, Дэвид Линч и Ларри Фесенден. Последний, например, сегодня снимает дешевые «ужасы», а самое главное его достижение – независимый фильм про вампиров «Привычка»[41]. Может ли он быть поставлен в один ряд с Тимом Бёртоном? Ким Ньюман считает, что такое возможно. Но тогда интуитивный подход Ньюмана к «авторам» ничем не отличается от «вульгаризма», а ведь он писал про это еще в конце 1980-х. Следовательно, «вульгарный авторский кинематограф» по умолчанию существует уже давно. Отсюда возникает и уже упоминаемая проблема, которая заключается в том, что «авторы» разных жанров имеют неодинаковый статус. Во-первых, каким образом братья Фаррелли могут быть сопоставлены с Полом Андерсоном, а Тим Бёртон – с Ларри Фесенденом?
Во-вторых, возраст и карьера «вульгарных авторов». Большинство из них относительно молоды, но одни начинали снимать дешевые боевики еще в 1990-х. Другие практически сразу начали работать с большими бюджетами. Иначе говоря, вульгарность «авторов» не равноценна. Сторонники теории «вульгарного авторского кино», кажется, не стремятся различать режиссеров, которые уже давно работают в жанре и добились какого-то признания, и тех, кто стал снимать крупнобюджетные картины сравнительно недавно. Ведь некоторые из упомянутых «вульгарных авторов» были настоящими «авторами» у себя на родине (например, Пол Верхувен) и стали работать в жанре и с крупными бюджетами лишь в США. Делает ли это их столь же вульгарными, как и тех, кто никогда не снимал артхаусного кино? В этом отношении некоторые защитники «вульгаризма» настаивают на том, что, скажем, «Пол Верхувен – автор» и «Айзек Флорентайн – автор» – не одно и то же. Подразумевается, что их авторство и статус разные. Но тогда почему необходимо навязывать Полу Верхувену ярлык «вульгарный»?
В-третьих, некоторые из «вульгарных авторов» уже давно были признаны знаковыми режиссерами. Например, The Criterion Collection, одна из крупнейших и лидирующих сегодня компаний по выпуску DVD и Blu-ray в высоком качестве, специализирующаяся во многом на европейской и американской классике, артхаусе, начинала свою деятельность с релизов картин Майкла Бэя («Скала» 1996; «Армагеддон», 1998) и Пола Верхувена («Робокоп», 1987), теперь почему-то признанных «вульгарными». То, что эти картины ремастировали в числе первых, много значит, потому что компания не выпустила, например, ни одного фильма Кена Рассела, который, кажется, все же может претендовать на то, чтобы считаться не «вульгарным автором». Многие «вульгарные авторы» уже давно были признаны «авторами» и являются таковыми для многих зрителей. Часто если зрителю нравится, скажем, фильм «Адреналин», он не будет трудиться проверять фильмографию режиссера и впоследствии станет смотреть прочие фильмы уже как авторские.
Как когда-то французские критики, ставшие великими режиссерами, современные кинокритики открывают нам имена новых «авторов», пусть их и называют вульгарными. Проблема лишь в том, что такие режиссеры, как Джон Карпентер, Уолтер Хилл и Джон By, не просто снимают уже несколько десятилетий, но и всегда были людьми с именами. Не только исследователи и киноведы, но и многие зрители считали их «авторами», причем отнюдь не вульгарными. И потому самая большая проблема концепции «вульгарного авторского кино» и вообще кинокритики в том, что для зрителей многие из упомянутых режиссеров уже давно являются уважаемыми. Времена кинокритиков, когда они влияли не только на судьбу картины, но и на судьбу студийной системы в целом, прошли. Сегодня зритель сам может формировать свое представление о кинематографе. Развитие блогов и социальных сетей (во всяком случае в США), а также комментарии на некоторых ресурсах позволили аудитории быть «самим себе кинокритиками». Вероятно, это сильно бьет по достоинству штатных авторов ведущих журналов. Собственно, именно они были вынуждены отбиваться от шквала статей о «вульгаризме» в блогосфере. Например, критик Ричард Броди, знаток творчества Годара, в «The New Yorker» выступил против «вульгаризма» и вступился за «великих авторов» типа Орсона Уэллса. При этом он сильно польстил своим оппонентам, сравнив тех с критиками из «Cahiers du Cinema». Таким образом, именно блогосфера побудила к широким спорам критиков, обычно не интересующихся картинами типа «Универсальный солдат-4», и фактически вынудила познакомиться с этими лентами.
Принципиально важно, что «вульгарный авторский кинематограф» позволяет заявить и о новом явлении в кинокритике – фактически о «вульгарной кинокритике», которая не только признает многих режиссеров «авторами», но и пишет о них серьезные работы. Таким образом, некоторые режиссеры могут выйти за пределы развлекательного кинематографа именно благодаря этому сегменту критики. Серьезная полемика вокруг понятия «вульгарного авторского кинематографа» показала острую необходимость в такого рода дискуссиях внутри самой критики. И хотя само это понятие довольно спорно, оно дает импульс для дискуссий о чем-то новом и не позволяет застревать на темах, обсуждать которые уже мало кому интересно.
Так же молодые критики не просто обращают внимание на что-то новое, но и реанимируют старые традиции киноведения. Как и все уважающие себя «авторы», блогеры обращаются к прежним концепциям, пусть даже и пытаясь объяснить свой подход через противопоставление. Фактически они напоминают всем о том, что понятие «авторское кино» было разработано именно американскими критиками. Например, упомянутый в начале текста сайт MUBI, пользователи которого приняли активное участие в дискуссии о «вульгарном авторском кино», отстаивая важность понятия, ранее назывался именно «Авторы». На сайте можно смотреть фильмы (обычно бесплатно), а также находить близких по вкусам людей, которые, вероятно, принимают «вульгарное кино» всерьез.
Если проследить за дискуссиями об авторском кино по антологии «Авторы и авторство», то станет ясно, что все главные слова были сказаны на протяжении 1960-1970-х[42]. В 1980-х к понятию «авторства» стали обращаться все реже. С одной стороны, оно стало само собой разумеющимся. С другой – его начали использовать в относительно маргинальных областях киноведения: развернулись дискуссии вокруг «авторов»-женщин, «сознательных» чернокожих режиссеров и «авторов», работающих в квир-эстетике. При этом часто смещали понятие в маргинальные сферы одни и те же исследователи. Например, один из наиболее авторитетных американских киноведов Робин Вуд начинал карьеру с того, что написал несколько книг о творчестве классических авторов Говарда Хоукса и Альфреда Хичкока. Однако позднее, под влиянием идей феминизма и фрейдомарксизма – прежде всего в вариации Герберта Маркузе, – он изменил область своих интересов и стал писать о хорроре и других вещах. Джордж Ромеро, Брайан Де Пальма и Ларри Коэн стали для него авторами не меньшими, а, возможно, даже и большими, нежели Хоукс и Хичкок. Конечно, во многом интерес к квир-эстетике и понятию «вытеснения» в хорроре были обусловлены гомосексуальной ориентацией самого Вуда, тем не менее эта маргинализация «авторского кино» заметна не только в его текстах.
В итоге сторонники «вульгарного авторского кино» возвращают концепт «авторства» в более широкие сферы культуры, пытаясь не ограничивать обсуждение дискуссиями о феминизме, расе и квир-культуре. Более того, молодые критики в некотором роде возвращают в авторский кинематограф спор о маскулинности, в большей мере свойственной творчеству Говарда Хоукса и Альфреда Хичкока, что роднит, казалось бы, противостоящие друг другу концепции «авторского кино» и «вульгарного авторского кино». Таким образом, в новом феномене скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И каким бы уязвимым это понятие ни было, к нему необходимо относиться всерьез и, возможно, с симпатией.
3. Модернистское кино растворяется в воздухе
Эта глава посвящена постмодернистскому кинематографу и призвана ответить на вопрос, возможно ли существование модернистского кинематографа в эпоху постмодерна. Ответ крайне важен в оптике всей книги. Разговор об этом нельзя вести без краткого введения в тему модерна и постмодерна. Поэтому для начала опишем, что понимается под модернизмом, постмодернизмом, обратим внимание, что о модерне и постмодерне думают главным образом левые философы. Вкратце затронем вопрос отношения правых мыслителей к модерну, а затем на нескольких примерах разберем, что представляют собой постмодернистский и модернистский кинематографы, а также тот тип кинематографа, который родился в эпоху модерна, но уже устарел, превратившись в классику.
Под модернизмом в данном случае, с одной стороны, понимается целое течение в искусстве и культуре в конкретный исторический период, а с другой – в самом широком смысле – эпоха, отражающая общий дух современности, которая заканчивается в тот момент, когда родилось то, что последовало за ней. Чаще всего западные исследователи в целях пояснения понятия «модерн» обращаются к ставшему классическим тексту американского марксиста Маршала Бермана: модернизм – это «парадоксальный союз, союз разъединенных, который погружает нас всех в водоворот нескончаемого разъединения и обновления, борьбы и противостояния, неопределенности и муки. Принадлежать модернизму – значит быть частью Вселенной, в которой, по словам Маркса, “все, на что можно опереться, растворяется в воздухе”»[43]