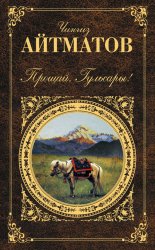Жизнь и приключения Заморыша Василенко Иван

Но музыка музыкой, а мороз морозом: у меня опять начали стучать зубы. Тут к дому подъехали еще сани и из них вышла нарядная женщина и гимназисты. Тогда я перебежал мостовую и, сам себя не помня, вошел в клубах пара в распахнутую дверь вместе с гимназистами.
Вслед за ними я поднялся по знакомой уже мне белой лестнице и остановился на площадке. Швейцар с раздвоенной бородой и в длиннополом сюртуке с золочеными полосками на рукавах снимал с гимназистов шинели. Он взглянул на меня и строго сказал:
– Эт-та что такое?
Гимназисты засмеялись и все вместе ответили:
– Да это же ряженый!
Двухбородый тоже засмеялся, поклонился мне и открыл перед всеми нами дверь.
Я не успел даже подумать, почему они назвали меня ряженым, как оказался в той самой комнате, откуда нас с Витькой выгнал тощий старикашка. Только теперь в этой комнате было полно детей. Они держались за руки и танцевали вокруг елки, а мадам Прохорова, одетая в черное бархатное платье с блестящей брошкой на груди, водила рукой по воздуху и командовала: «Два шага направо, два шага налево, шаг вперед, шаг назад!» Потом музыка переменилась, и мадам Прохорова весело запела: «Пойдем, пойдем поскорее, пойдем польку танцевать, в этом танце я смелее про любовь могу сказать!» Дети попарно обнялись, закружились и затопали ногами.
Я притаился за деревом, что росло из кадки, и смотрел. Девочки были в нарядных платьях, с бантами в волосах, но я ни одной из них не запомнил, я видел только Дэзи. Она стала еще красивее. В ее каштановых волосах, когда она кружилась, вспыхивали и гасли искорки, а глаза были большие и ласковые.
Музыка умолкла. Длинный гимназист, с которым Дэзи кружилась, хлопнул в ладоши и спросил:
– Благородные рыцари и прекрасные дамы, кого вы избираете королевой бала?
Все закричали:
– Дэзи! Дэзи!
Длинный встал на стул, снял с елки золотую корону, в какой рисуют на портретах царицу, и надел ее на голову Дэзи, а сам опустился на одно колено и поцеловал край Дэзиного белого платья. Все захлопали в ладоши и усадили Дэзи в высокое бархатное кресло.
В комнату прибежал другой гимназист, с лошадиной головой и хвостом. Он прыгал перед Дэзи, брыкался и ржал, а Дэзи хохотала. Гимназист-конь ускакал, вместо него на четвереньках приплелся гимназист с медвежьей головой и начал на Дэзи реветь. Дэзи сняла с елки апельсин и сунула ему в пасть.
Потом приходили еще другие звери и птицы, и Дэзи всех чем-нибудь угощала.
Когда больше не стало ни зверей, ни птиц, гимназисты, с которыми я поднимался по лестнице, закричали:
– А тут еще есть ряженый! А тут еще есть ряженый! Вон он за пальмой прячется! Он нищим нарядился!
Я закрыл лицо руками.
А гимназисты и девочки кричали:
– Это Сережа Кузьмин! Нет, это Женя Мелиареси! Ну, выходи, Женя, проси у Дэзи милостыню!
Мне хотелось залезть под диван, сжаться, но я пересилил себя: не отрывая одной руки от лица, я другой вытащил из-под рубашки книгу и положил ее Дэзи на колени. Я сказал:
– Дэзи, мистер Жорж прислал тебе «Каштанку». Не давай мне ни шоколада, ни апельсина, а только помни меня!
И выбежал из комнаты.
Дома я незаметно проскользнул в нашу комнату и лег в постель. От обиды мне хотелось плакать. И в то же время я весь горел от радости: ведь «Каштанку» я все-таки Дэзи подарил!
Проснувшись ночью, я услышал в темноте, как мама говорила:
– Ты его хоть ради праздника не бей. В нем и так еле душа держится.
Отец ответил:
– Я его не просто бью, а наказываю. Ты хочешь, чтобы он стал таким же бродягой, как те, что жмутся у нас в чайной? Безобразие! То днем где-то шлялся, а теперь уже и по ночам пропадать начал.
Я понял, что разговор шел обо мне и что завтра отец опять меня побьет, но страха я не почувствовал: мне по-прежнему было радостно, и я скоро заснул.
Цирк
Утром отец поставил меня на колени, драл за уши, бил по щекам. Потом долго ходил по комнате и что-то мне «внушал», из чего я не запомнил ни одного слова. Под конец он приказал мне попросить прощения и протянул руку, чтобы я ее поцеловал, но я руки не поцеловал, а встал без разрешения с колен и пошел из комнаты. Отец так удивился, что даже не остановил меня.
Весь день у меня горели уши, и я все думал, не убежать ли из дому. Может быть, меня примут к себе бабка с Зойкой. Я им воровал бы на базаре у торговок яйца или что попадется, и тем бы мы кормились. Осенью я видел мальчишек, которые продавали в клетках щеглов. Наловят сетками и продают. И я бы ловил щеглов и продавал. И еще мальчишки продают бычков, нанизанных на веревочки. Бычков они ловят в море удочкой. Я тоже куплю удочку и буду ловить рыбу. Я буду ходить куда захочу, а тут отец сажает меня за буфетную стойку и уходит по делам. Я сижу и сижу на табуретке и не смею ни на минутку отлучиться.
К вечеру, когда уши гореть перестали, верх взяло другое чувство – жалость к маме. Как она будет горевать, если я убегу из дому!
Отец ходил хмурый. Он о чем-то думал. Иногда он взглядывал на меня и тотчас же отводил глаза. Когда стемнело, отец вдруг сказал:
– Петр, закрывай чайную, ну ее к черту! Из-за этой чайной света божьего не видим! Дети, одевайтесь! К нам цирк приехал.
– Вот так-то лучше, Степан Сидорович! – живо отозвался Петр. Он в два счета выпроводил босяков и запер дверь.
– И ты с нами, – кивнул ему отец.
– Я? – Лицо у Петра почему-то стало темное. Но потом он сказал: – Ладно, пойду и я.
Когда все оделись, отец оглядел наши пальтишки и вздохнул: они были те самые, которые шила еще в Матвеевке деревенская портниха, – из дешевой бумажной материи, с кургузыми воротниками, да к тому же изрядно потрепанные. В городе таких и не увидишь.
Мы шли по скрипучему снегу и терли уши; мороз был такой, что перехватывало дыхание, а тут еще ветер. Чем ближе мы подходили к Персидской улице, за которой открывалось море, тем дуло злее. Я потянул Петра за рукав и, когда он ко мне наклонился, спросил:
– Цирк – это что? Это где Каштанка нашла своих хозяев?
– Не тот самый, но такой же. Да вот увидишь, – ответил Петр.
Все дворы на Персидской улице были темные, но один двор – мы увидели его еще издали – весь так и светился. Свет поднимался к самому небу. Ворота во дворе были распахнуты. Посредине двора стояла серая круглая махина, обклеенная красными, желтыми, зелеными картинками. На картинках вздыбливалась лошадь, танцевала красивая женщина и летел вниз головой человек с рогами, похожий на черта.
– Опоздали! – сказал отец с досадой. – Уже начали. – Он сунул в окошко деньги. – Четыре билета на галерку – два взрослых и два детских.
Схватив билеты, отец подбежал к двери и толкнул ее. Мы затопали куда-то вверх по деревянной лестнице.
И я увидел то, что увидела и Каштанка, когда выскочила из чемодана мистера Жоржа: ослепительный свет и всюду лица, лица, лица. Петр поднял меня и посадил на деревянную перегородку. По эту сторону перегородки стояли, а по ту – сидели. Потом Петр посадил рядом со мной Витю.
Все люди смотрели вверх. Там, на страшной высоте, раскачивалась на перекладине какая-то женщина в голубом с блестками платье. Перекладина, похожая на мамину каталку, висела на двух толстых красных шнурах. Женщина встала на нее во весь рост, даже не взявшись руками за шнуры. Я от страха перестал дышать. Вдруг где-то забарабанило, да так жутко, что у меня пробежали по спине мурашки. Мужчина, который стоял посредине круга и натягивал длинный канат, крикнул:
– Алле!..
Женщина бросилась вниз головой. И все ахнули.
Но женщина не упала, а быстро-быстро закружилась на каталке то головой вниз, то головой вверх. И, пока она кружилась, где-то все барабанило и барабанило. Люди волновались:
– Довольно! Довольно!
Отец тоже крикнул:
– Довольно!
Женщина схватилась за канат и по канату спустилась вниз. И тут все так захлопали, так заревели, что я даже не мог разобрать, что мне говорил отец.
Женщина убежала, а вместо нее на круг с опилками вышел смешной человек: рот у него растянулся до ушей, а нос поднялся выше лба. На одной ноге у него была штанина из розового ситца с зелеными цветами, а на другой – с красными. Он споткнулся, упал и заревел. Все засмеялись, и я тоже, но Витька на меня зашипел, хоть перед этим и сам смеялся. Вот всегда так!..
– Это шут, – сказал отец. – Он будет все время смешить.
И правда, на круг выбегали то фокусники, то попрыгунчики, то танцовщицы, а шут уйдет и опять вернется, да такое отколет, что все расхохочутся.
Раз шут вздумал поиграть в мяч. Он бросал надутый бычий пузырь в публику, а из публики тот пузырь бросали ему обратно. Вот он поймал пузырь и стал целиться в одного господина. Прицеливался, прицеливался, потом сразу повернулся в другую сторону и кинул пузырь какой-то девочке в котиковой шапочке. Девочка ловко поймала мяч, но он у нее в руках лопнул. Она испугалась и брыкнулась со скамьи вверх ногами. Потом вскочила да как запустит в шута калошей! Шут – бежать! И когда бежал, с него упали штаны. Вот смеху было! Я тоже смеялся, но потом сразу перестал. Не из страха, что Витька на меня зашипит, а потому, что девочка, когда она с досады то снимала, то надевала свою шапочку, показалась мне страшно похожей на Зойку. «Неужели это Зойка?» – подумал я. Но как могла Зойка попасть в первый ряд, где сидели важные господа и барыни? Конечно, Зойка всюду пролезет, только откуда у нее могла взяться такая хорошая шуба и котиковая шапочка? На круг выбежала лошадь. Она танцевала и кланялась, подгибая передние ноги. Когда ее увели и я хотел опять посмотреть на девочку, на том месте было уже пусто.
Перед самым концом представления на круге опять появился шут. Он сорвал рыжий парик и длинный нос, стер платком краску с лица и превратился в обыкновенного человека.
– Почтенная публика, – заговорил он, – господа и дамы, молодые люди и барышни, слесари и молотобойцы, горничные и парикмахеры, кухарки и пожарники! Поздравляю всех вас с Новым годом. А будет ли счастье – бабушка надвое сказала.
- Под хмельком и с опозданьем
- К нам приплелся Новый год.
- Что за божье наказанье!
- Все у нас наоборот.
- За границей школы строят,
- Там дают прогрессу ход,
- А у нас… могилы роют —
- Все у нас наоборот.
- Там для мыслей есть свобода,
- Тут открыть попробуй рот!
- Словом, старая тут мода,
- Словом: все наоборот.
Он все говорил и говорил, и как только доходил до слова «наоборот», сейчас же на галерке принимались хлопать.
– Ночевать ему сегодня в участке, – сказал Петр.
– Уж это как водится! – отозвалось сразу несколько голосов.
Мы вернулись домой, разделись и легли спать. Я уже совсем засыпал, когда услышал разговор. Отец сказал:
– Надо бы детям шубы новые купить, ходят как нищие. Только дорого. Где столько денег взять?
– А золотые Хрюкова? – ответила мама. – Чего их держать?
– Те я хотел про черный день приберечь. А вдруг прогонят… Даже не на что будет квартиру снять.
Сон все плотнее обволакивал меня, и все в голове мешалось: скрипучий снег на черной от ночи улице, вороная красавица лошадь на задних ногах, шут в широченных ситцевых штанах, Зойка в котиковой шапочке… и моя новая шуба с меховым воротником… А утро, когда отец драл меня за уши, теперь казалось мне далеким-далеким, будто было это год назад…
Новые шубы
Весь следующий день мы с Витей не переставали говорить о цирке. Самое нарядное и интересное зрелище, какое нам до сих пор приходилось видеть, это была карусель с лошадками, каретами и фонариками, увешанными разноцветными бусами. Когда я смотрел, как она крутится под визгливые звуки шарманки, у меня был праздник на душе, но с тем, что мы увидели вчера, карусель ни в какое сравнение не шла. Витька даже забыл пыжиться передо мной и прыскал, когда вспоминал разные штучки шута.
– Ну, цирк! – говорил и отец, необыкновенно почему-то подобревший. – На такой высоте кружиться – ужас что такое!
Но, хоть у нас не было другого разговора, кроме как о цирке, я нет-нет да и вспоминал, что отец говорил ночью маме. Приснилось это мне или не приснилось? Наверно, приснилось. И приснилось потому, что гимназисты приняли меня за наряженного нищим.
Когда наступил вечер, отец сказал:
– Дети, пойдемте на Петропавловскую улицу. Хватит вам ходить обшарпанными. Что вы, хуже всех?
– Не приснилось, не приснилось! – радостно закричал я, так что Витька даже посмотрел на меня, как на дурачка.
На этот раз с нами пошла и Маша, у которой пальто было ничуть не лучше, чем у нас.
Я никогда раньше не видел Петропавловскую вечером. По обе стороны улицы горели на чугунных столбах газовые фонари, а вокруг фонарей мелькали снежинки. Окна тоже светились, и за стеклами лежали, стояли, висели такие диковинки, что у нас глаза разбегались. А по улице все шли и шли люди – одни в меховых шубах и шапках, другие в черных шинелях с золотыми пуговицами и в фуражках с золотыми гербами, третьи, как наш Протопопов, в светло-серых шинелях, с шашками на боку и золотыми погонами на плечах.
Вот и окно с волком и медведем за стеклом. Отец смело потянул за медную ручку. Перед нами раскрылась огромная застекленная дверь. В магазине было светло, тепло и так чисто, будто вот только сейчас все там вымыли и натерли до блеска. Мы как вошли, так и остановились у двери. За прилавками стояли приказчики в черных пиджаках и накрахмаленных манишках с галстуками. Один из приказчиков, с железным аршином в руке, закивал нам головой и сказал как давно знакомым:
– Пожалуйте сюда-с. С Новым годом. Мальчик, стулья!
Мальчишка ростом с Витю, тоже в пиджаке и галстуке, притащил нам стулья, и мы все сели. Отец сказал:
– Что ж, примерим детям шубки, что ли?
Приказчик поклонился.
– Имеются. Как раз на этот рост. Прикажете бобриковые?
– Зачем же бобриковые, – будто даже с обидой сказал отец. – Дети не хуже других.
– Прекрасные дети! – воскликнул приказчик и даже зажмурился от удовольствия. – Как только вы вошли, я сейчас же подумал: «Какие чудесные дети!» Прикажете драповые с котиковым воротником? Только вчера из мастерской.
– Драповые так драповые, – ответил отец.
Приказчик сразу завладел всеми нами. Он надевал на нас шубы, застегивал их на все пуговицы, оттягивал полы и рукава книзу, нежно проводил ладонью по спине, потом снимал, надевал другие, опять застегивал, опять оттягивал и поглаживал и, наконец, сказал:
– Чудесно! Прямо как по заказу. Даже с маленьким походом на вырост. Вот только на барышне рукава чуть-чуть длинноваты. Но это дело пяти минут. Посидите.
Он исчез, а немного спустя опять появился, надел на Машу шубу, отскочил от нее, будто обжегся, вскинул вверх руки и сказал, не веря своим глазам:
– Это же превосходно!
Нас подвели к огромному зеркалу, и мы робко оглядели себя. На мне и Вите шубы были черные с котиковыми воротниками, на Маше – шуба коричневая и тоже с меховым воротником. Я, конечно, понимал, что к новой шубе не очень-то подходили бумажные помятые брюки и рыжие заплатанные башмаки. Но шуба – это важнее всего другого, и я был счастлив.
Приказчик ловко завернул в хрустящую бумагу наши старые пальтишки, перевязал шнурочком, к шнурочку приладил деревянную ручку и с поклоном вручил все отцу.
Когда мы вышли на улицу, отец перекрестился.
– Царство небесное покойному Хрюкову! Будем вспоминать его добрым словом. Пусть ему на том свете икается на здоровье. – Он вытащил из кармана мелочь, немножко подумал и лихо крикнул: – Эх, куда ни шло! Извозчик!..
Отец и Маша расположились на сиденье, а мы с Витей у них на коленях. Извозчик стегнул лошадь, бубенчик на дуге звякнул, и сани понеслись по главной улице мимо газовых фонарей, мимо светлых окон с диковинками, мимо бар в шубах и господ в шинелях с золотыми пуговками.
Когда на Маше примеряли в магазине шубу, она не проронила ни слова. Лицо у нее было как каменное. И в санях она тоже молчала. Но когда мы вернулись домой и она сняла свою шубу, то вдруг заплакала и поцеловала ее. Позже она рассказывала, что все время не верила в такое счастье и поверила только тогда, когда повесила наконец шубу дома на гвоздик.
Болезнь
Мне теперь еще больше хотелось, чтобы мадам Прохорова опять пришла к нам с Дэзи. Я бы сделал вид, что куда-нибудь ухожу, и надел бы свою новую шубу. Надел бы и походил по залу на глазах у Дэзи. Конечно, я не гимназист, но шуба моя такая же, в каких ходят и Дэзины товарищи.
И еще мне хотелось сбегать в железнодорожную будку и узнать, Зойка то была в цирке или не Зойка. Если правда, что Зойка, то пусть и она увидит меня в городской шубе, а то ишь как разрядилась! А если то была не Зойка? Если Зойка по-прежнему лежит больная? Конечно же, надо сбегать к ней в будку и отнести сахару и осьмушку чаю. Но как, как? Ведь я опять целыми днями сижу за буфетной стойкой. Нас с Витей отец не выпускает из чайной – зачем же нам тогда новые шубы? И никаких у нас с Витей нет товарищей. Когда к нам пришел лопоухий Петька, сын бакалейного лавочника, и мы начали играть во дворе в прятки, отец выпроводил его, а нам с Витей сказал: «Товарищи до добра никогда не доводят!»
И вдруг мне повезло. Пришел один толстый дядька, сел на табуретку, а табуретка под ним заскрипела и развалилась. Отец сказал:
– Опять расшатались. Сбегай-ка завтра, Митя, к столяру, пусть переберет все табуретки.
К столяру! Ведь это туда, где Зойкина будка.
Вечером я незаметно взял из буфета пачечку чаю и десять кусочков сахару. Чай положил в один карман шубы, а сахар в другой. И заснул в этот вечер с таким чувством, будто завтра будет праздник.
Проснулся я от какого-то шума. Открыл глаза и увидел, что у Машиной постели стоит отец в одном белье и держит в руке лампу, а мама, тоже полуодетая, наклонилась над постелью и спрашивает:
– Маша, Маша, что с тобой? Тебе холодно, да?
Маша стучала зубами и все просила:
– Мама, мамочка, укрой меня, укрой меня!..
До самого утра никто больше не спал.
Утром Маша уже не просила укрыть ее, а сбрасывала одеяло и жаловалась:
– Жарко!.. Ах, как мне жарко!..
Отец пошел за доктором. Маша все металась и металась, а отец не возвращался. Наконец подъехали извозчичьи сани. Из них вышли отец и мужчина в дорогом пальто и меховой шапке. В комнате отец бросился снимать с доктора пальто и затанцевал так, как танцевал перед Протопоповым. Доктор вынул из кармана черную трубочку. Он приложил ее одним концом к своему уху, а другим к Машиной груди. В это время мама рылась в ящиках комода и искала новое полотенце. Полотенца она так и не нашла, а вместо полотенца вытащила чистую наволочку. Доктор вымыл с мылом руки. Мама подала ему наволочку и сказала:
– Извините, доктор.
Но доктор не рассердился.
– Ничего, ничего. – И вытер руки наволочкой.
За это мне он очень понравился.
Когда доктор уходил, отец положил ему в руку серебряный рубль. Но доктор рубль вернул отцу обратно и сказал:
– Нет, не надо. Заплатите только извозчику.
С тех пор доктор приезжал к нам через день, и отец каждый раз выносил извозчику по полтиннику. А о докторе говорил:
– Чудный, чудный человек! Святой!
Отец всегда так: об одном он говорит: «Чудный! Святой!» – а о другом: «Подлец! Мерзавец!» А часто бывало, что об одном и том же человеке он сегодня говорит – «святой», а завтра – «мерзавец». Но наш доктор, как потом я понял, был и не святой, и не мерзавец, а самый обыкновенный доктор, рубль же он не взял потому, что был доктором для бедных и ему мещанская управа платила жалованье. Лет пять спустя, когда заболел я, его опять позвали к нам. Тогда он уже в мещанской больнице не служил и рубль положил в карман.
Маша все болела и болела, и к столяру отец меня не посылал, а посылал в аптеку. Потом Маше стало лучше. Отец сказал:
– Ну, завтра пойдешь к столяру.
Но мне идти к Зойке уже не хотелось. И вообще мне ничего не хотелось. Когда я сидел за буфетной стойкой, мне хотелось только одного: положить руки на стойку, а голову на руки и закрыть глаза. Ночью меня стало трясти, потом бросило в жар, и все у меня в голове перепуталось. Пришел Петр, взял меня на руки и понес. Он отнес меня в «тот» зал. Там босяков уже не было. Стояли почему-то две кровати. На одной кровати лежала Маша, а на другую Петр положил меня. Маша приподнялась и через спинку кровати с жалостью смотрела на меня. А мне от этих жалостливых глаз стало еще хуже, и я сказал:
– Не смотри на меня!..
Приехал доктор, приставил мне к груди свою черную трубочку, а на другой ее конец налег головой. Голова у него была большая, и трубка больно давила мне грудь. И вообще все у меня болело, особенно голова и глаза. Доктор сунул мне под мышку градусник, потом вынул, посмотрел и нахмурился.
Когда он ушел, мама намочила салфетку в уксусе и положила мне на голову. Но салфетка сейчас же высохла. И сколько мама ни мочила ее, она все высыхала и высыхала. Под потолком на стене расплылось зеленое пятно. Я знал, что это плесень, но мне стало казаться, что это не плесень, а море. Я прыгал в него, окунался с головой, глотал воду – и мне делалось легче. Но море опять превращалось в плесень на стене, и я так метался и стонал, что мама становилась на колени перед иконой, крестилась и стукалась лбом о каменный пол. Приходил Петр. Он брал меня на руки и носил по залу. На руках я затихал. Петр клал меня на кровать, я засыпал, но потом опять начинал метаться.
Однажды, проснувшись, я не почувствовал ни жара, ни боли. Напротив, мне было необыкновенно хорошо и очень хотелось есть. Мама накрошила в стакан с молоком полбублика, я вынимал ложечкой размякшие кусочки и ел с таким удовольствием, с каким до этого никогда и ничего не ел. Я опять заснул. А когда проснулся, то увидел, что мама склонилась над Машей, а Маша мечется и стонет.
Ночью у Маши пошла из носа кровь. Машу приподняли, а на колени ей поставили чашку. Кровь все капала и капала, и лицо у Маши сделалось белей стены. Мама кричала: «Маша!.. Маша!..» – но Маша больше не открывала глаз, и голова ее упала на плечо.
Вдруг забарабанили в дверь. Отец бросился открывать. Это Петр привез доктора. Доктор был без галстука, из-под пиджака выглядывала белая ночная сорочка. Он раскрыл кожаную сумку и быстро стал вынимать из нее узкие желтые полоски марли и разные щипчики.
Когда доктор уходил домой, Маша лежала как мертвая, но кровь у нее больше не шла.
Через несколько дней Маше стало лучше, а меня опять бросило в жар. Доктор сказал, что у нас возвратный тиф.
…Наконец мы поднялись с постели. На дворе была уже весна. От слабости мы шатались. Мама надела на нас шубы и вывела во двор подышать свежим воздухом. Я опустил руки в карманы и нащупал там кусочки сахару и пачку чаю.
«Из искры возгорится пламя»
Маленький дворик при чайной был завален всякой рухлядью: гнилыми бревнами, угольной золой, черепками от разбитых чайников, поломанными табуретками. Но между камнями поднимались вверх бледно-зеленые острые травинки, на крыше озорничали воробьи, солнышко ласково грело лицо, и от всего этого мне было необыкновенно радостно.
Пока мы с Машей болели, Витю к нам не подпускали, чтобы не заболел и он. Теперь Витя сидел во дворике рядом со мной, на бревне, не пыжился, а смотрел добрыми глазами. Наверно, он соскучился по мне, и ему было жалко меня. Он рассказывал мне о Робинзоне Крузо, который попал на необитаемый остров и прожил там много лет, о рыцарских турнирах, о храбром и благородном Айвенго (чайная была долго закрыта, и Витя мог читать книги, сколько хотел). Видно было, что он старался развеселить меня, позабавить и нарочно придумывал разные интересные истории. Так, он рассказывал, что ходил с Петькой к морю и нырял там. Будто прыгнет в воду и идет ко дну долго-долго, потом ударится ногами о дно и поднимается обратно наверх. А в воде видит, как плавают рыбы и разные чудовища. Одно чудовище даже погналось за ним, но он успел выскочить на берег. Я догадывался, что он все это сочиняет: ведь весна только началась, и вода в море была еще холодная. Но мне так хотелось попасть и на необитаемый остров, и на рыцарский турнир, и на морское дно с рыбами и чудовищами, что я выслушивал все, как настоящую правду.
– Вот видишь? – Витя вынул из кармана и показал подсолнечные семечки. – Давай выкопаем ямку и посадим семечко, а летом здесь вырастет подсолнух.
– Давай, давай! – с радостью откликнулся я.
– Давай купим синей бумаги, склеим змея и запустим его высоко-высоко. А к хвосту привяжем разноцветный фонарик со свечкой. Ночью он будет светить в небе, и никто не догадается, что это такое.
– Давай, давай! – подхватывал я, весь дрожа от нетерпения. – А еще можно ежа завести. Или лисичку. Вот если бы лисичку! Мы б с ней ходили гулять по городу, и все на нас смотрели б!
Но змея мы не запустили и ежа не завели. Через несколько дней опять открылась чайная, и отец всех расставил по своим местам: Витя пошел в «тот» зал следить, чтоб босяки не рвали на цигарки газеты и книги, Маша застучала посудой в эмалированной чашке, а я сел за буфетную стойку. Когда за буфет становился отец, я отправлялся на кухню помогать Маше мыть посуду или тоже шел в «тот» зал.
С весной наших обычных посетителей – нищих, бродяг, попрошаек – стало показываться все меньше и меньше: они двинулись с юга на север. Зато прибавилось рабочих. Сходились они к вечеру. Человека три-четыре оставалось в «этом» зале, остальные проходили в «тот» зал и заказывали чай. Кувалдин просил у отца книжечку поинтересней, но мы-то с Витей знали, что читал он не эти книжки, а те, которые приносил с собой. Только одну книжечку, выданную отцом, он прочитал от начала до конца: это была «Сказка о попе и о работнике его Балде». Когда он дошел до слов попа:
- Нужен мне работник:
- Повар, конюх и плотник,
- А где мне найти такого
- Служителя не слишком дорогого? —
все засмеялись. Кувалдин тоже смеялся. Но потом сказал с большим уважением:
– Написал эту сказку наш великий писатель Александр Сергеевич Пушкин. Любил он простой народ всем сердцем и отдал ему свой драгоценный дар. Народ его тоже любит и будет любить вечно.
– Это правильно, – сказал отец и, очень довольный, пошел из «того» зала к себе, за буфет.
А Кувалдин продолжал:
– Написал он и стихи декабристам, о которых я вам рассказывал раньше, а декабристы из Сибири ему ответили:
- Наш скорбный труд не пропадет;
- Из искры возгорится пламя.
Поэтому наша газета и называется – «Искра». Вот она. – Он оглянулся, вынул из пиджачного кармана что-то, похожее больше на тоненькую книжечку, чем на газету, и положил на стол. Все наклонились и принялись рассматривать. Печать была мелкая, и только одно слово крупное: «ИСКРА». – Сейчас мы ее прочитаем. Слушайте, на ус мотайте да на дверь поглядывайте.
Он читал и объяснял. Прочтет немножко, объяснит и опять читает. А чаще сами рабочие останавливали его. Особенно один, похожий на цыгана – с черными глазами и черными усами. Он все спрашивал: «А это ж почему? А это ж как понимать?»
Хотя Кувалдин все объяснял, а некоторые места читал по два и три раза, я по-прежнему ничего не понимал. Да, наверно, и Витя понимал плохо и только делал вид, будто заранее знает, что скажет Кувалдин.
Иногда приходил инженер Коршунов и приводил с собой двух или трех приятелей, таких же бородатых, как и он сам. Тогда в «том» зале начинался спор. Инженер стучал костяшками пальцев по столу и сердито говорил:
– Одна бомбочка, брошенная в подлеца директора, осветила б народу умы в сто раз лучше, чем все эти ваши шествия с красными флагами.
А Кувалдин отвечал:
– Вы тащите на свет божий старую ветошь. Вы ничему не научились.
И опять я не понимал: как мог Коршунов ничему не научиться, если отец говорил, что инженер – человек ученый? Теперь Коршунов заведовал гвоздильным заводом, и, хоть сам говорил, что это не завод, а балалайка, отец стал его еще больше уважать.
Поспорив, инженер с грохотом отбрасывал ногой табуретку и уходил. За ним шли его бородатые приятели.
Кувалдин говорил:
– Болотные люди. Только зря с ними время тратишь. – И опять вытаскивал свою книжечку-газету.
Когда в чайную приходил бродяга или кто другой, рабочие, которые чаевничали в «этом» зале, приглашали такого человека за свой стол, чтоб не допустить в «тот» зал. А если появлялась дама-патронесса или заглядывал околоточный, то рабочий, сидевший ближе к двери другого зала, говорил: «Майна!» – и маленькая газета исчезала, как по волшебству. Вместо нее Кувалдин раскрывал книжку «Как верная жена умерла на гробе своего мужа». Околоточный послушает и уйдет, дама-патронесса повертится, покрутится и уедет.
Бегство
Все случилось как-то сразу. Когда я потом, спустя годы, вспоминал об этом, мне делалось и страшно, и горько, и смешно.
С некоторых пор к нам по вечерам стал заходить новый босяк. Прежде чем открыть в чайную дверь, он долго смотрел в окна и почесывался. А войдя, вздыхал, жался и сторонкой, сторонкой пробирался в «тот» зал. Но до «того» зала он редко добирался: его перехватывали рабочие в «этом» зале и угощали. Щеки и подбородок босяка были в серой щетине, а глаза маленькие, мутные, без ресниц.
Однажды, когда босяк сидел с рабочими и прихлебывал из блюдца чай, дверь с визгом распахнулась, и вошли трое здоровенных усатых мужчин. Стуча сапогами о каменные плиты пола, они быстро прошли в «тот» зал. Босяк засеменил к Петру и медовым голосом сказал:
– Стань, милый человек, к двери и никого не выпущай.
– Это что за номер? – уставился на него Петр.
Голос у босяка сразу изменился.
– А ты делай, что приказывает надлежащее начальство! – прошипел он Петру в лицо.
От такой неожиданной перемены Петр опешил и стал у двери.
В «том» зале зашумели, закричали, затарахтели табуретками. Вслед за тем оттуда выбежал Кувалдин и бросился к двери. Усатые кинулись за ним, но рабочие повисли у них на плечах и не пускали. Увидя, что у дверей стоит Петр, Кувалдин повернул в сторону, к окну, и рванул шпингалет. Короткой заминки оказалось достаточно, чтобы усатые вцепились в Кувалдина. Петр взревел и бросился на усатых. Те направили на него револьверы.
Когда Кувалдина увели, Петр ударил себя кулаком по голове и застонал. Некоторое время он неподвижно сидел на табуретке, потом встал и медленно пошел из чайной.
Вернулся он только на другой день, сильно пьяный. Сжимал ладонями виски и все повторял:
– Подлец я, подлец!.. Нету мне прощения!..
Отец его не слушал; он ходил из зала в нашу комнату, из комнаты в зал и шептал:
– Теперь меня выгонят… Теперь наверняка выгонят…
Весть о том, что Петр запил, облетела всех дам-патронесс. Они съехались в чайную, столпились около Петра и принялись его уговаривать:
– Петр, голубчик, ну что же ты расстраиваешься! Возьми себя в руки, успокойся!
Толстенная мадам Медведева сладко заговорила:
– Не надо, милый, не надо. Ведь ничего не случилось. Ну, арестовали беглого каторжника, так это ж был социалист, он против царя и бога шел. Ну, хочешь, будешь у меня кучером работать. Да что кучером! Я тебя старшим приказчиком в гастрономическом магазине сделаю!
Петр оглядывал дам безумными глазами. Вдруг лицо его исказилось. С выражением отвращения он взял со стола мокрую тряпку, которой я стирал с клеенок присохшие крошки, и мазнул купчиху по лицу от лба до третьего подбородка. Дамы бросились врассыпную. А Медведева до того обалдела, что стояла и шлепала губами. Дамы сначала перепугались, а потом начали хихикать. Босяки заржали. Я тоже засмеялся. Медведева опомнилась да как закричит:
– В полицию! В полицию его, подлеца!.. А ты чего смеешься, щенок паршивый?! – накинулась она на меня. – Всех разгоню! Чтоб духу тут вашего не было!..
Отец схватился за голову. Я от страха вылетел на улицу и побежал куда глаза глядят.
Бежал, бежал, бежал, пока не оказался перед Зойкиной будкой. Я дернул дверь. Бабка сидела за столом и пила из чашки чай. Она смотрела на меня и не узнавала. Вдруг лицо ее сморщилось, по щекам поползли слезы.
– А Зойка где? – спросил я.
– Нету Зойки, нету, – забормотала она. – Увезли нашу Зоичку, увезли… Цирк увез, чтоб он сгорел, проклятый!..
– Зачем? – не понял я.
Бабка рассердилась:
– «Зачем, зачем»? Не знаешь, что ли? В акробатки пошла, в попрыгуночки. Будут ей теперь ручки-ножки выкручивать.
Она опять заплакала. А поплакав, спросила:
– Чаю хочешь?
Я чаю не хотел. Какой чай, когда, может, жизнь моя кончается! Из-за меня отца, наверно, уже прогнали. Если я вернусь, он меня изобьет до смерти. А если еще не успели прогнать, то он изобьет меня в угоду купчихе, чтобы та не выгоняла его. Как ни поверни, все равно я буду избит. А после болезни я еще больше ослабел и, наверно, умру, когда он будет бить меня. Куда же мне деваться? Счастливая Зойка! Пусть ей выкручивают руки-ноги, а все-таки она не умрет. Ей даже публика будет хлопать в ладоши. Вот и мне бы туда, в цирк, кувыркаться вместе с Зойкой.
– Бабушка, а куда он уехал, цирк этот? – спросил я.
– Кабы знать! – ответила бабка. – Уехал – и все. Разве мне докладывают!
Тогда я рассказал, что со мной случилось.
Бабка выслушала и покачала головой.
– Вот уж и не знаю, что тебе посоветовать. Переночуй на Зоичкином топчане, а утром, может, и придумаем что.
Ночь я провел так, будто опять заболел тифом. Меня то знобило, то бросало в жар. А тут еще с грохотом пробегали мимо поезда. Особенно меня донимала мысль, как страдает сейчас мама. Может, она думает, что я утопился или бросился под поезд.
Обессиленный, я так крепко заснул перед рассветом, что открыл глаза только тогда, когда будку заливало солнцем. Мне стало страшно: неужели я всю ночь провел не дома?
Бабка дала мне бублик, напоила чаем и сказала:
– Иди домой. Лучше дома ничего на свете нет. Авось обойдется.
От бабкиных слов у меня на душе стало спокойнее, я пошел.
Может быть, я так бы и вернулся домой и все бы, как говорила бабка, обошлось, но еще издали я увидел, что к чайной подъехал экипаж и из него вышли Медведева и сам городской голова, тот важный господин, который был у нас на молебне. Что угодно, только не попадаться на глаза купчихе! А городского голову она, конечно, привезла, чтоб расправиться с отцом.