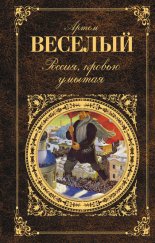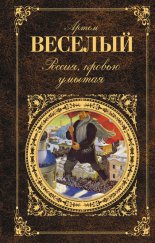Прощай, Гульсары! Айтматов Чингиз
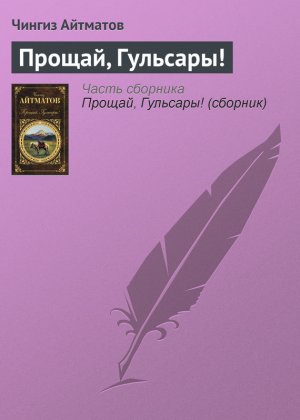
– Спасибо. Я с конем.
– Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни вон в овраг – и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем?
– Поезжай, – мрачно процедил Танабай.
– Ну, как знаешь, – усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину: – Ополоумел старик!
Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.
– Зачем смеешься над человеком, а если бы тебе так пришлось? – сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.
– Ерунда… – Шофер, зевая, крутанул баранку. – Мне приходилось всякое. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то! Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.
– Зверюга ты! – сказал парень.
– Плевал я на все, – ответил тот.
Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал иноходца:
– Ну, пошли, чу, чу! Иди же!
За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивали в холодном небе.
4
В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья и, как только зацвела степь, двинулись вниз.
После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его еще за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, весь как-то напруживался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились как завороженные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.
– Эй, табунщик! Остано-ви-ись!
И вдогонку неслись смех и последние слова:
– Смотри, попадешься, поймаем!
Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу:
– Признавайся, когда привезешь нам кумыса?
– Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!
– Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.
– Ах, вот как! – И снова принимались тормошить его.
Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом, так ни разу и не проехалась на его коне. Возможно, она этого и не хотела.
В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движению рук. Но, встречаясь с ней, Танабай всегда добрел.
– Ну-ну, потише, куда так! – шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.
Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть с сердца хозяина, как теплел его голос, как ласковей становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.
Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе, и как же это получается и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать и чтобы люди не даром работали.
В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем – отдали сверх плана хлеб и скот за других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать – неизвестно. Время шло, о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было: все сдавалось в убыток себе – хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять и никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.
– Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас, – говорил Танабай. – Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.
– Что не так? Что неправильно? – Бухгалтер совал ему бумаги. – Вот смотри планы… Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты коммунист, а мы враги народа, да?
В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем, – были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давно счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..
И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди это не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай – старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются как единоутробные. Значит, и на родство он посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?
– Ну что ты сидишь, Танабай, очнись, – возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет – значит, надо купить карагачевого леса, железа на шины, а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбаешь. А весной не успеть – посевная, окот, прополки, а там сенокос… А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко становилось подчас.
И все же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват…
Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чуял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подобреет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теребить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.
После этого Танабай ехал задумчивый. Он отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он, и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам…
Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим тонким нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.
– Ты заметь, как он тебя любит, Бюбюжан, – говорил ей Танабай. – А ну погладь, погладь еще. Ишь как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.
– Он-то любит, – думая о чем-то своем, отвечала она.
– Хочешь сказать, что другие не любят?
– Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет.
– Это почему же?
– Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.
– А тебе?
– Что мне? Я вдова, солдатка. А ты…
– А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты, – пытался шутить Танабай.
– Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.
– Ну, а я при чем? Я иду, и ты идешь.
– Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.
– Слушай, Бюбюжан!
– Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же умный человек. Мне и без тебя тошно.
– Что ж, я тебе враг, что ли?
– Ты себе враг.
– Как это понимать?
– Как хочешь.
Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и как пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.
Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая женщина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.
От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба», – думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обувке и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя.
– Т-р-р, Гульсары, куда ты так несешь?! – спохватывался Танабай, натягивая поводья.
5
И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первые забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать – пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта черная зависть!.. Но бог с ней…
Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем – и стар и мал: «Гульсары!», «Иноходец Танабая», «Краса аила»…
А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы… Нет, я Гульсалы… Мама, скажи, что я Гульсалы… Чу, впелед, а-и-и-й, я Гульсалы…»
Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке. То было Первое мая.
После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.
Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника.
С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.
– Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай, – шептал он, расчесывая коню гриву и челку. – Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!
Ожидание чего-то необыкновенного чувствовалось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготней людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке.
Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремена, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.
Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.
Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись.
И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай приспустил поводья, иноходец вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гульсары! Гульсары!..»
Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.
– Просите у народа благословения! – торжественно провозгласил главный распорядитель игр.
Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомиин!» – и сотни рук поднялись ко лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.
После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.
Тем временем начались игры на кругу – борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступлением, главное начнется там, куда ускакали всадники.
Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.
Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом были и слабость его, и сила.
Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной полынью.
Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недосягаемой для иноходца скоростью с десяток лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.
И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» – услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрей покатилось навстречу. И замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг власть удил и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника – в нем бушевал огненный дух бега.
И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он вскочил на бугор, точно бы на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.
Так мчались они втроем, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.