Остановите самолет – я слезу (сборник) Севела Эфраим
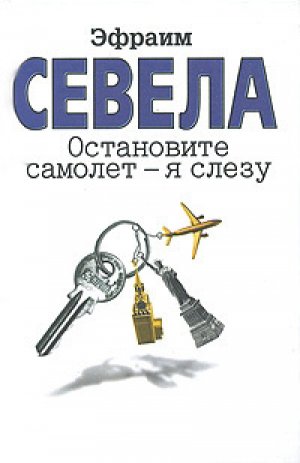
И пошли мы. Благо, недалеко – рукой подать. Действительно, зачем нам нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять.
Прем мы по Первой Мещанской, смотрим номера домов так, для блезиру, потому как на сто процентов уверены, что такого номера там нет и в помине. Вдруг видим… Вот он, этот самый номер! Трехэтажный дом. И квартира есть. На первом этаже. С табличкой на двери: Б. С. Патлах.
Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал.
– Погоди, Аркаша. Очень мне необходимо этого Патлаха Бенциона Самойловича в личность увидеть. Непременно. Не могу я поверить, что такие бесстрашные чудаки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный заворот кишок. Не увижу его – совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все это не липа, тем более надо выпить. За твой народ, Аркаша. Самый отчаянный. И великий.
Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной принадлежности.
– Беня, – слабым голосом позвала она. – Это за тобой.
В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться Бени и, как курица-наседка перед собакой, ощерилась на нас:
– Берите! Хватайте! Загоняйте иголки под ногти! Всех не передушите! Нас – миллионы.
Тихо, не очень повышая голос, кричала она эти слова в курносую Колину рожу. Меня за его спиной она даже не заметила.
– Успокойся, мама, – обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой, но лысый, как Ленин. – Не нужно истерик. Не доставляй им этой радости.
Он, как и его мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним, и совершенно не оробел. Слегка побледнел, и все.
– Дай мне, мама, сумку с бельем. Я все приготовил, – сказал он и поцеловал старушку в лоб.
Мы с Колей так и приросли к полу. Потому что мы увидели то, во что ни за что не хотели верить. Мы увидели героя. Живого. Не придуманного. Советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить инфаркт на месте.
Первым вышел из столбняка Коля Мухин.
– Патлах! Сука! – взвыл он от избытка чувств и заключил в свои медвежьи лапы лысого, как Ленин, Патлаха. – Дай я тебя расцелую, Бенцион Самойлович, морда ты моя жидовская. Да ты же мне всю душу перевернул, да я отныне новую жизнь начинаю!
– Вы, собственно, кто такие? – растерялся хозяин.
– Аркаша, – догадался Мухин, все еще не выпуская Патлаха из объятий, – он нас за легавых принял. Чудило! Скидай, Аркадий, штаны. Покажи ему, что мы – евреи.
Все уладилось. Мамаша Патлаха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам хозяин картины свои показывал. Он художником оказался. Из непризнанных. В СССР их формалистами зовут. Абстрактными.
Если честно признаться, я в этом ничего не смыслю. Мне приятно смотреть на картину, где все ясно и понятно. Где лошадь – лошадь, а трактор – это не аэроплан. А все эти штучки-дрючки, по-моему, на дураков рассчитаны.
Колины вкусы от моих не намного отличались. Мы из вежливости посмотрели несколько картинок, маслом писаных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет. И хвост – не хвост, а вроде пучка сельдерея. Дальше – рыбный скелет. Обглоданная рыба.
– Еврейская сюита, – с достоинством пояснил художник.
Мы это все проглотили без инцидентов. Потом допоздна слушали художника. Соловьем заливался – рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудес наговорил, как научная фантастика. Мы с Колей рты поразинули, как малые дети.
А художник как одержимый. Глаза сверкают, пена на губах. Настоящий сионист. Пламенный.
Вывалились на улицу в темноте. В голове гудит, сердце колотится. Вот когда меня одолела сладкая отрава сионизма. Да и Колю заодно.
По этому случаю мы завернули в забегаловку и такого дали газу – еле нашу коммунальную квартиру потом нашли. Коля озверел от уважения к евреям, которых он до этого не больно жаловал. Если не считать меня.
Главное представление разыгралось в нашей общей кухне. Коля приставил меня к стене, чтоб я не упал, и пошел по комнатам сзывать соседей. Люди уже спать легли, рабочий народ – он их из постелей выволок.
Первой притащил простоволосую, в ночной рубахе Клаву – жену свою. Ткнул ее к моим ногам.
– На колени, шкура вологодская!
Клава родом из-под Вологды.
– Стой на коленях перед ним! След его целуй!
Второй была наша дворничиха Сукильдеева.
– Становись, татарское иго! – приказал Коля. – Уважь мудрейший народ.
Пенсионера Бабченко он швырнул к моим ногам так, что косточки хрустнули:
– Кайся, хохол, за невинно пролитую кровь этой нации. За Батьку Махно, за Петлюру. Гнись, сука! Придушу!
Дальше пошли жильцы русского происхождения. Им Коля велел хором прокричать: «Слава великому еврейскому народу!»
– Раз, два, три, – скомандовал Коля. – Начинай!
И осекся. Хмель дал утечку, мозги прояснились.
– Ладно, – вяло сказал он, – отбой. А ну, кыш отсюда по своим углам! А что было – замнем для ясности.
А вы спрашиваете, как это началось? Вот так и началось. И остановиться сил не хватило.
Я потом к этому художнику стал наведываться. Манило послушать его речи. Иногда вместе с Колей заваливались. И слушали-слушали – не надоедало. Пока он визу не получил и не отбыл. Куда вы думаете? В Израиль? Малость ошиблись, дорогой. Он, голубчик, дальше Вены не сдвинулся. Остался в Австрии. Говорят, процветает. Его фаршированные рыбы нарасхват у немцев. Комплекс вины, как пишут в газетах.
«Ах, ах, ах, – скажете вы. – Как это такой пламенный сионист, который других сагитировал, сам улизнул, укрылся в теплом местечке?»
И если вы думаете, что я его сейчас начну бичевать и оплевывать, как дезертира и бесчестного человека, то глубоко заблуждаетесь.
Теперь-то, после всего, что я пережил, я глубоко уважаю этого Патлаха, Бенциона Самойловича, и понимаю, что он был самым мудрым из нас. По крайней мере, логики у него было больше, чем у всех нас вместе взятых.
Никого он не обманывал. Он действительно был без ума от Израиля и все передачи оттуда на русском языке слушал с раннего утра до поздней ночи. Он был как заведенный будильник. В разгар самого задушевного разговора он вдруг умолкнет, взглянет на часы и включает радио. Его мозг был настроен на «Голос Израиля» с точностью до одной секунды. Он включал рычажок, и без паузы раздавались позывные Иерусалима.
Я был у него в гостях и видел, как он сломался. У него сидел народ. Конечно, евреи. Стоял жуткий галдеж.
– Тихо! – крикнул он. – Слушаем Израиль.
Стало тихо, и он включил свой транзистор. Но и там тоже было тихо. Только легкое потрескивание. Художник глянул на свои часы и неуверенно спросил:
– Неужели мои часы врут?
Нет, часы не врали. Сверили с другими. Время было точное.
На израильской волне продолжались слабые шорохи.
Художник перевел рычажок на «Би-Би-Си» – там вовсю гремели позывные Лондона. Он прыгнул на «Голос Америки» – и там позывные убывали, приближаясь к концу.
Все больше меняясь в лице и бледнея, художник вернулся к Иерусалиму. Тишина.
И так две с половиной минуты по часам. Потом дали позывные, и женский голос, как обычно, сообщил:
– Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».
И ни слова извинения за опоздание.
Художник выключил радио, опустил свою лысую, как у Ленина, голову и так просидел какое-то время, пока мы не зашевелились, собираясь уходить.
Он поднял на нас глаза, и это были не его глаза. Огонь в них угас.
– Все, – сказал он. – Страна, в которой государственная радиостанция, вешающая на заграницу может опоздать с передачей на две с половиной минуты и не извиниться, пусть даже по техническим причинам, – это не государство, а бардак. Мне там делать нечего.
И не поехал.
Он был самым прозорливым евреем в Москве. Он был провидцем. Недаром у него была лысина, как у Ленина.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Стригся Коля Мухин, конечно, только у меня. И, как вы сами понимаете, бесплатно. У меня бы рука отсохла, если бы я взял с такого близкого кореша хоть одну копейку, и если вы подумали на минуточку, что я на такое способен, так это только от того, что вы меня абсолютно не знаете.
То, что он стригся бесплатно, так это, как говорится, полбеды. Коля категорически воспротивился, чтоб мы это делали после работы, в моей комнате, где моя жена, а не его, будет потом выметать Колины лохмы. Ой посчитал это унизительным для себя. Это оскорбляло его пролетарскую рабочую гордость.
Коля приходил стричься ко мне в парикмахерскую. А наше заведение, должен я вам сказать, совсем не для таких личностей, как Коля Мухин. То есть, не для слесарей-водопроводчиков. Я работал в одной из самых шикарных гостиниц Москвы. Сплошной мрамор и бронза. Хрустальные люстры с тонну весом. Среди гранитных колонн в нашем холле может заблудиться взрослый человек. Церковь, храм, а не отель. Люкс, чего тут рассказывать. И, как вы сами понимаете, в таком раю проживают знатные иностранцы, советские генералы, дипломаты со всех концов света. Иногда попадаются и личности с Кавказа. Они сыпят деньгами налево и направо и получают в нашем отеле любую комнату и в любое время, потому что платят не в кассу, а администрации в лапу. Иначе бы их и на порог не пустили. Со свиным, как говорится, рылом да в калашный ряд. Как, скажете вы, с советским паспортом? Да еще непроверенный простой человек? Точно. Но простой он с виду, а на самом деле – золотой. Сунет такой кавказский человек кругленькую сумму, и иностранца моментально переведут к черту на рога, куда-нибудь в Останкино, а ему, кавказскому человеку, пожалуйста, полу-люкс с белым роялем.
Он на рояле не играет. Он увенчан другими лаврами. Он с Кавказа возит в Москву лавровый лист. Понятно? Миллионные барыши. То, что он имеет за день, я за пять лет не получу. И Святослав Рихтер, и Давид Ойстрах тоже.
Вот какой у нас клиент. Я имею в виду не кавказцев – их один процент, а иностранных туристов, генералов и дипломатов. Когда сидят, ожидая очереди, чтоб попасть ко мне в кресло, можно подумать, что это международный конгресс на самом высшем уровне. Фраки, ордена, аксельбанты. Дамы в невероятных мехах и бриллиантах. А кругом сверкает хрусталь, стены переливаются мраморными жилками, ноги тонут в мягких коврах. И все они, не взирая на чины и звания, терпеливо ждут, пока я приглашу в кресло. С французом – силь ву пле, с американцем – плиз, а с нашим иконостасом – милости просим, товарищ генерал.
Один Коля Мухин не признает очереди. Он вваливается ко мне, весь в мазуте и ржавчине, в рваном ватнике, из брезентовой сумки торчат гаечные ключи и ручная дрель, плюхается в кресло между фраками и мундирами и зычно, как в лесу, объявляет:
– Кто последний – я за вами.
Но это только так, для проформы. Стоит моему креслу освободиться, и он рвет ко мне, оттолкнув любого, кто подвернется под локоть.
Коля шокирует насмерть нашу клиентуру. И делает это нарочно и со смаком. Как же, мол, не пропустить вперед рабочего человека в рабоче-крестьянском государстве? Чья власть? Рабочих! Кому почет и уважение! Рабочему! Извольте расступиться, дать дорогу гегемону, то есть пролетариату.
Коля Мухин с виду прост, а на деле хитрее ста армян и еврея в придачу. Он знает всю правду, а прикидывается дурачком. Сами, мол, вопите про рабочую власть, ну, так вот и ешьте: любуйтесь хозяином страны, как вы меня, пролетария, называете. Душу отводит.
Я хоть про себя и радуюсь, что он им в морду наплевал, но в то же время опасаюсь, как бы меня за его проделки не выставили без выходного пособия. Коля – русский и член КПСС. Он вытрезвителем отделается. У меня же нет его преимуществ. Сунут волчий билет в зубы – и гуляй как знаешь.
Многие за границей любят рассуждать о русском человеке. Пишут книги, спорят по телевизору, жалованье за это получают. Загадочный, говорят, сфинкс, тайны славянской души. Вот уж, погодите, проснется русский народ, он свое слово скажет.
Меня от всего этого смех берет. Или, думаю, идиоты, или притворяются, чтоб без куска хлеба не остаться. Я ученых книг на этот счет не читал и читать не стану. Я прожил пятнадцать лет, как один день, в общей квартире с Колей Мухиным и распил с ним не одно ведро водки. Поэтому выбросьте все книги и послушайте меня. Я вам нарисую конный портрет, как говорил один мой клиент, самого типичного русского человека, а вы себе делайте выводы.
Начнем с советской власти, которой русский народ, наконец, разобравшись, что к чему, покажет кузькину мать. Коля Мухин на советскую власть руку не поднимет. Можете не мечтать. Он давно знает ей красную цену в базарный день. Больше того, люто он ее не любит и честит на все корки, когда пьян. И при всем при том, когда войдет в раж, будет козырять этой властью как своей и даже гордиться, что он, мол, рабочий человек – хозяин всей страны.
Он уже сто лет стоит в очереди на отдельную квартиру, а достаются они другим: за взятки или за чин высокий. Ему же, рабочему человеку, со своей женой Клавой, тоже рабочим человеком, век прокисать на двенадцати квадратных метрах. Коля прекрасно понимает, что все вопли и лозунги о рабочем человеке – это туфта, для дураков. Потому и откалывает коленца, когда вваливается в роскошный отель для иностранцев и советских тузов – настоящих хозяев этой страны, чтоб дать им понять, что не такой уж он глупенький.
Но пусть попробует какой-нибудь иностранец при нем хаять советскую власть на понятном ему, Коле, языке, и Коля тут же морду ему набьет. И даже не поленится, отведет, куда следует.
Для Коли Мухина, для его поколения русских, советская власть и Россия – понятие одно и то же. Пусть будет такая-такая-рассекая лживая, кровавая и трижды проклятая, но все же наша, и потому не вашего ума дело в нашу советскую жизнь встревать.
Коля честен. Возьмет в долг, даже будучи в стельку пьяным, не забудет, вернет в срок. Есть у него лишняя копейка – даст взаймы, только намекни. Идет с компанией выпить – норовит первым за всех уплатить.
И при этом Коля – самый, что ни на есть вор. У себя на работе тащит все, что под руку подвернется: болт – так болт, гайку – так гайку, кран, муфту, целую трубу, и продаст из-под полы за тройную цену или частным образом установит у заказчика и деньги положит себе в карман. А в магазине попробуй продавец обвесь его на сто грамм ветчинно-рубленной колбасы – такой устроит хипеш, все вверх дном перевернет: жулики, мол, советскую власть по кускам растаскиваете. И искренне так орет, книгу жалоб требует, еще немного – и зарыдает от стыда за то, что отдельные личности позорят высокое звание советского человека.
Поговори с Колей по душам – все понимает. Даже больше, чем надо. И что в стране бардак, на словах – одно, на деле – другое, что свободой и не пахнет, а вопим на весь мир, мол, самые мы демократические, самые прогрессивные, самые передовые. Смеется Коля над этим: вот шулера, вот мазурики, свернут когда-нибудь себе шею, поскользнутся на собственной лжи, как на блевотине. Но смеется беззлобно, даже с долей уважения за ловкость, с какой это все делается. Наши, мол, шулера, наши мазурики. А что обманывают-то не кого-нибудь, а его лично, Колю Мухина, не хочет принимать в расчет, а только отмахивается.
Коля – за справедливость. Прочитает в газете: в Греции террор, – кровью нальется, жалеет греческий народ. Или услышит по радио, как негров в Америке угнетают, весь побледнеет, кулаки сожмет, хоть сейчас готов в бой за освобождение своих черных братьев.
Но вот наши, советские, прихлопнули в 1968 году Чехословакию, когда этот шлимазл Дубчек хотел сделать социализм с человеческим лицом. Бросили на Прагу тысячи танков, Дубчеку коленом под зад, чехов – на колени.
В Москве, помню, кто поприличней, глаз от стыда поднять не мог. А спросил я Колю Мухина его мнение – правильно сделали, отвечает, так им, этим гадам-чехам, и надо. Ишь, чего надумали! Свободы им захотелось. А что, спрашиваю я невинно, ты против свободы? Нет, мотает головой. Зачем же ты чехов так поносишь? А за то я их, гадов, ненавижу, что против нас хвост подняли. Им, видишь ли, подавай свободу. А мы, что, лысые? Если свобода, так для всех. Понял? А нет – так и сиди в дерьме и не чирикай. Правильно с ними расправились – чтоб другим не завидно было.
Интеллигенцию Коля еле терпит. Сам он недоучка, как и я, не может спокойно видеть человека с дипломом. А если у того лицо не хамское, а тонкое, воспитанное – это для Коли, как красная тряпка для быка. Он ненавидит их руки без мозолей и белые необветренные лица без следов запоя на чистой коже.
Коля, совсем неглупый парень, свято верит, что все беды на Руси от интеллигентов. Что они, паразиты, живут за его счет, да еще норовят продать Россию загранице. Членов правительства и весь партийный аппарат он не любит с такой же силой, причисляя их, за отсутствием видимых признаков физического труда, к интеллигенции. Поэтому, когда я слышал в Америке или в Израиле, что вот, мол, скоро, недолго ждать осталось, русский народ покажет свой характер и освободится от коммунизма, мне хотелось кричать, как при пожаре:
– Идиоты! Болваны! Ни хрена вы не смыслите. Упаси Бог, чтобы русский народ показал свой характер. Тогда уж точно никто костей не соберет. На всем земном шаре.
Такой кровавой бани еще история не знала, какая начнется, если в России рухнет режим и хоть на неделю воцарится безвластие. В гражданскую войну, когда русский мужик в Бога верил, море невинной крови было пролито. А теперь? Без Бога, без святынь, да при нынешней технике. Выйдет Коля Мухин с гаечным ключом вместо кистеня и начнет крошить черепа, а другой Коля, поглупее, доберется до атомных ракет и нажмет спьяну сразу на все кнопки. Вот будет компот! Так что лучше не надо. Не толкайте Колю Мухина на баррикады, не дразните Колю химерами. Путь будет, как есть.
Я, честно говоря, люблю Колю. У него душа – нараспашку, и не надо слишком часто в эту душу плевать. Ведь Коля – дитя. Он может захлебнуться от восторга, если увидит смелый, отчаянный поступок. Так было, когда начались еврейские дела с выездом в Израиль, письма за границу, обращения в Генеральную Ассамблею Объединенных Наций за поддержкой против – кого? – советского правительства, которое не только на эту Ассамблею, а на весь мир начхать хотело. Коля ошалел и проникся глубочайшим почтением ко всем без различия евреям. Теперь они для него были первыми людьми, в каждом он видел героя.
Заваливается как-то ко мне ночью, водкой разит от него:
– Аркадий, чинил я давеча краны у одного еврея. Ох, и правильный мужик попался! Что, спрашиваю, в Израиль, небось, лыжи навострил? А он на меня: вон отсюда, провокатор! Выставил меня и денег за работу не уплатил. Вот сука! Я не стал артачиться, ушел по-доброму. Я же не глупенький. Правильно поступил человек, конспирацию соблюдает.
Потом – ленинградский процесс. Судили евреев за то, что хотели самолет захватить и улететь в Израиль. Двоих к смертной казни приговорили. Коля Мухин не отлипал от радиоприемника, ловил каждое слово из Лондона или Мюнхена, чтобы знать правду, что произошло на самом деле.
– Значит, не совсем в дерьме Россия, – заключил он, – если такие люди в ней еще водятся. Правда, они евреи. Но евреи теперь – вся надежда России, у своих-то, у славян, кишка тонка оказалась.
Окончательно был Коля добит, когда на суде в Ленинграде Сильва Залмансон, еврейская женщина, схлопотав десять лет лагерей, сказала в последнем слове русским судьям на древнееврейском языке:
– Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!
Коля зарыдал у транзистора и не стал дальше слушать, что говорил лондонский диктор.
– Пусть отсохнет моя правая рука, – повторял он потом при каждом удобном случае, – если я забуду тебя, Иерусалим. Ах, мать твою за ногу, какой великий народ! А мы, суки, их жидами называли! – и глаза его блестели от слез.
Так воспринимал все это Коля Мухин, потому что был зрителем. Для евреев же это были черные дни. После ленинградского процесса и двух смертных приговоров активисты-сионисты хвост поджали, косы повесили. Стало немного жутко: советская власть показала коготки.
Что уж говорить о простых смертных, вроде меня. Честно признаюсь, я ждал погромов. Мне в троллейбусе одна пьяная харя плюнула в рожу, прямо на мой еврейский нос. И хоть бы кто вступился. Наоборот, очень многие вслух выразили свое одобрение. Будь там Коля Мухин, мы бы вдвоем разнесли весь троллейбус, а одному заводиться – гиблое дело при моем сложении. Да еще с ранением в голову.
Мои клиенты, из евреев, которые до Ленинградского процесса очень бурно переболели сионизмом, излечились от этой болезни вмиг и теперь, садясь в мое кресло, больше не делились последними новостями «Голоса Израиля» и не выли от восторга при каждой удачной атаке «наших» против Ливана или Иордании. Они вжимались в кресло, чтобы никому не мозолить глаза, и их еврейские носы, казалось, норовят утонуть в мыльной пене.
А радио из заграницы пугало предсказаниями, что советская власть расправится с евреями, как Бог с черепахой, и сионистскому движению в России предрекали близкий конец.
Даже Коля Мухин приуныл:
– Ах, собаки, ах, сучье племя! – сокрушался он с похмелья. – Ну, и сила же у них, если даже евреев смогли поставить на место. Все! Придушили! Поиграли, мол, и хватит. Запомни, Аркадий, цапаться с советской властью – это все равно, что плевать против ветра. Себе дороже. И твои евреи ничем не лучше других. Теперь сиди смирно, молчи в тряпочку. Пошли, найдем кого-нибудь, сообразим на троих.
Была зима. Кажется, февраль. Конечно, февраль. Конец февраля. Москву пронизывал холодный ветер, а так как снегу было мало, то казалось, что вот-вот из тебя выдует твою промерзшую душу, пока пробежишь от метро до своей работы.
В тот день я работал без особой нагрузки. По случаю холодов число иностранцев в гостинице заметно убавилось. Колю никак не ожидал в гости, потому что он у меня стригся неделю назад, накануне банного дня, когда он заваливался в Сандуны от рассвета до ночной темноты и отпаривал, как он говорил, коросту за целый месяц.
Коля Мухин ворвался с морозу в наш парикмахерский салон, как буря, как смерч, и с порога позвал меня, добривавшего случайного клиента:
– Аркаша, на два слова!
Я глазами показываю, что, мол, занят, вот добрею этого плешивого – и тогда я ваш, Николай Иваныч.
– Да брось ты его, мудака! – рявкнул Коля. – Не подохнет! Валяй за мной! Твоя судьба сегодня решается.
Тут уж и я не утерпел, спихнул клиента с недобритой щекой напарнику и вышел к Коле. И, стоя на красном мягком ковре под стопудовой хрустальной люстрой, он сказал мне такое, от чего у меня волосы моментально встали дыбом. Сообщил он мне потрясающую новость на ухо и таким громовым шепотом, что не только швейцары у входа, но, я уверен, и пассажиры в троллейбусах на улице, слышали каждое слово со всеми знаками препинания.
В двух словах могу подытожить сказанное. В этот морозный день двадцать четыре московских еврея совершили неслыханную дерзость: под носом у Кремля, на Манежной площади, захватили Приемную Президиума Верховного Совета СССР – высшего органа советской власти, и, расположившись там, предъявили правительству ультиматум: не уйдут по своей воле до тех пор, покуда не будет дано высочайшее разрешение всем евреям, кто этого пожелает, уехать в Израиль.
Это было неслыханно. Это было невероятно!
Коля все узнал из заграничной радиопередачи и уже побывал на Манежной площади – там все оцеплено милицией и КГБ в форме и в штатском, публику не подпускают. Даже иностранных корреспондентов гонят в шею. Тогда он забежал ко мне – поделиться новостью, благо я работаю рядом.
Как вы понимаете, работать в этот день я уже не мог. Не разумом, а всей утробой понимал, что в этот день решается и моя судьба. Хотя тогда еще о выезде в Израиль не помышлял. Я пошел к своему начальству и, сославшись на острые боли в животе, отпросился, будто бы для визита к врачу, а сам вместе с Колей сыпанул на Манежную площадь.
Вы думаете, только мы с Колей оказались такими умными? Слушать заграничное радио на русском языке категорически воспрещается под угрозой административного и даже судебного преследования. Это в СССР знает каждый. И тем не менее, вся Россия, у кого мозги хоть немножко работают, укрываясь от чужих глаз и ушей, липнет к своим транзисторам и портит себе нервную систему в неравной борьбе с советскими заглушающими станциями.
Сотни москвичей и, кстати сказать, в основном, неевреев, прогуливались с одинаковым безразличным видом вокруг Манежной площади, и их сгорающие от любопытства глаза выдавали своим мерцанием аккуратных слушателей «Би-Би-Си» и «Голоса Израиля». Мы с Колей присоединились к ним, потому что ближе подойти было невозможно. Типы в штатском, не церемонясь, выпроваживали каждого, кто делал лишний шаг, и еще проверяли документы и делали какие-то выписки себе в книжечку.
Мы с Колей не лезли на рожон, а наблюдали издали, стараясь угадать, что творится за зеркальными окнами Приемной Президиума, хотя там были наглухо опущены шторы и морозный иней покрыл все стекло. Эти двадцать четыре еврея, обложенные сейчас, как волки охотниками, рисовались нам сказочными богатырями.
– Аркаша, вдумайся, – хрипел мне на ухо вконец очумевший Коля Мухин, – такого сроду не бывало за всю историю советской власти. Такое присниться не могло! Пойти в открытую против такой махины, которую весь мир боится. И кто? Двадцать четыре человека! И каких? Одни евреи! Нет, в голове не укладывается.
Он переводил дух и снова заводил:
– Их, конечно, сотрут в порошок. Скоро поволокут вон в те фургоны. Гляди, сколько «воронов» пригнали. Но дело, Аркаша, не в этом! Сам факт! Понял? Эти двадцать четыре всей России мозги прочистят. Мол, не так страшен черт, как его малюют. Ох, и дадут они пример советскому народу, ох, и пустят трещину по фасаду – век не залепить никаким цементом. Это, Аркаша, исторический день. Помяни мое слово, слово члена КПСС с 1947 года. Пойдем сообразим погреться.
Было холодно и ветрено. По Красной площади мело сухим снегом, и стук сапог часовых, сменявших почетный караул у черного Мавзолея Ленина, отдавался в сердце и даже в желудке. Становилось зябко и тошновато, словно голый стоишь и беззащитный. А уж что должны были чувствовать те двадцать четыре шальных, у меня в голове не укладывалось.
Мы бегали с Колей за угол и для согреву принимали по сто грамм. И не хмелели. И снова возвращались на свой наблюдательный пункт, откуда видна вся Манежная площадь с кучами милиционеров и кагэбистов и страшными крытыми автомобилями с большими радиоантеннами.
Чего долго рассказывать? Это был сумасшедший день. Мы мерзли час за часом, и водка уже не помогала, а никаких перемен не наступало. Власти ничего не предпринимали, должно быть, совещались весь день, как поступить.
Коля Мухин расценил это как победу забастовщиков, как начало никем не предвиденной капитуляции властей.
– Знаешь, Аркаша, – глубокомысленно заключил Коля Мухин. – Тут одно из двух. Как говорят в народе, или хрен дубовый, или дуб хреновый. Пошли, чего-нибудь примем.
К вечеру Коля все-таки хорошо набрался. Я слегка обморозил ноги. Но зато мы дождались. Дождались результата и своими глазами видели тех самых героев, перед которыми отступило советское правительство.
В девять вечера забастовка кончилась. Сам президент Подгорный дал слово, что евреев начнут выпускать в Израиль и даже создадут специальную государственную комиссию, – которая будет рассматривать каждую просьбу. А забастовщиков не только не тронули, но бережно, чуть не под белы рученьки, проводили домой. Почти сотня одинаково одетых в штатское «мальчиков» окружила эти две дюжины евреев, и никого не подпускала к ним, пока не довела до станции метро.
Нам с Колей удалось поверх казенных шапок разглядеть кое-кого из этих ребят. Я был разочарован. Обычные еврейские лица. Даже несколько женщин. Средняя интеллигенция. Живущая на сухую зарплату. Неважно одетая. Таких в толпе не выделишь.
– Братцы! – крикнул им Коля через оцепление. – Так держать!
Я не успел оглянуться, как его скрутили «мальчики» в штатском и сунули в «черный ворон». Коля вернулся лишь на следующий день из вытрезвителя, схлопотав денежный штраф и уведомление в партийную организацию – обсудить недостойное поведение коммуниста Мухина Н. И.
Поэтому, когда в Колпачном переулке через денек-другой действительно заработала комиссия по выезду в Израиль, Коля не пошел со мной посмотреть, что там творится, а замаливал грехи перед Клавой, взяв на себя уборку комнаты и мест общего пользования. Я пошел один.
То, что я там увидел, превзошло все мои ожидания. Я то полагал, что в этот день явятся лишь те двадцать четыре, и их примет комиссия, и даже, чем черт не шутит, отпустит с Богом в Израиль. Мне ведь хотелось, собственно говоря, их поближе рассмотреть, только и всего. Ради этого я и пошел.
В Колпачном переулке бушевала толпа евреев, осатанелая как перед ответственным футбольным матчем у ворот стадиона имени Ленина в Лужниках. Дамы в каракулевых шубах, мужчины с бобровыми воротниками. Бриллианты в ушах, дорогие перстни на пальцах. Откуда их столько набралось? Узнав по заграничному радио, что советская власть уступила, эти евреи выскребли из тайников пожелтевшие вызовы от израильской родни, которые прежде от детей своих хоронили, и, расхрабрившись, бросились на штурм ОВИРа, чтобы первыми предстать перед комиссией и без всяких страхов и усилий вырвать визу, пока наверху не передумали. Они бурлили и клокотали у подъезда, толкаясь локтями, потные и взъерошенные, словно в очереди за сахаром в голодные годы, и как ни старался я разглядеть в этом водовороте хоть одно лицо из тех двадцати четырех, что я запомнил на Манежной площади, это мне не удавалось.
А сверху, с лестничной площадки, милиционеры выкликали в комиссию по фамилиям именно их, забастовщиков, но каракулевые дамы с воплями «Куда лезешь?», «Ты кто такой?» никого не пропускали вперед. Те, кто проложил дорогу евреям, чуть не были затоптаны своими соплеменниками, учуявшими, что отныне нечего бояться и путь открыт. Я сам видел одного из них, узнал его по бородке, измятого, с вырванными на пальто пуговицами. Толпа выдавила его в сторону, и он стоял, растерянный и, ей-богу, испуганный, привалившись спиной к стене, и никак не мог взять дыхания.
Смех и грех. Не зря говорится, от великого до смешного – один шаг. Немного погодя я там же наблюдал сцену, которую ни один писатель-юморист не сочинит, сколько бы ни напрягал мозги.
Маленького роста еврей, пониже меня, привел за руку свою высокую, на две головы выше жену, которая вдобавок ко всему была еще и беременна на последнем месяце, так что была втрое шире его. Держа ее за руку, как поводырь слона, маленький еврей, как и все вокруг, не в меру расхрабрившись, остановил проходившего с папкой документов начальника и громко, совершенно не желая сказать смешное, провозгласил на всю толпу:
– Если я сейчас же не получу визу в Израиль, то устрою на Красной площади самосожжение моей жены.
Так и сказал. Я запомнил дословно: «Устрою самосожжение моей жены».
Даже начальник ОВИРа, высокого звания офицер КГБ, не очень склонный к юмору, сумел оценить сказанное. Он не рассмеялся, а заржал, схватившись за живот и уронив папку с документами, отчего бумаги рассеялись по полу. Евреи же, которым в этот бурный день чувство юмора напрочь отказало, дружно бросились подбирать бумаги и услужливо, с заискивающими улыбками, подносили их начальнику, а он все еще хохотал и, как конь, мотал головой.
Кроме начальника, во всей толпе смеялся еще один человек. Это был я. Я смеялся не так громко, как он, но тоже от души. Потому что я обожаю смешные вещи, лаже если случаются они в самом неподходящем месте.
Над Атлантическим океаном. Высота 30600 футов.
Дальше все покатилось, как – ну, видали в кино? – снежная лавина. Будто всем евреям поголовно воткнули шило в задницу.
Подумать только, то в одном, то в другом городе потерявшие всякий страх евреи, заявляются в здания, которые раньше стороной обегали – в Президиум Верховного Совета, в МВД, в Обком партии – рассаживаются по скамьям, а если нет скамей, так прямо на полу, и объявляют сбитым с толку милиционерам, что не уйдут, пока не получат положительный ответ на свои требования. Не просьбы, а требования! Учтите. Это в Советском-то Союзе, где еще совсем недавно любой бы лучше язык откусил, чем выговорить такое.
А особо ретивые рвались в Москву. Чтобы не где-нибудь, а только в столице, на виду у иностранцев, а значит, – и у всей мировой прессы, сунуть кукиш советской власти под нос.
Поездами, самолетами, в автобусах сотни евреев, побросав работу и свои семьи, перлись в Москву из Риги и Вильно, из Львова и Черновиц, из Киева и Одессы, из Кутаиси и Тбилиси. Забастовка за забастовкой. Голодные, полуголодные и совсем уж не голодные забастовки – с обильным приемом привезенной из дому снеди.
Советская власть растерялась. Приемную Президиума Верховного Совета СССР на Манежной площади, возле Кремля, которую в особенности облюбовали евреи для забастовок, с перепугу закрыли на ремонт. И тогда возмутители спокойствия перекочевали на Центральный Телеграф, по соседству.
Власти отступали, как говорят военные, без заранее подготовленных позиций. Иногда огрызаясь. Но беззубо, вяло. Выхватят из толпы двоих-троих, упрячут за решетку, а сотням выдают визы и даже с облегчением выпроваживают за станцию Чоп.
Иногда, словно на нервной почве, милиция совершит налет на поезда, идущие в Москву, ворвется в самолеты, готовые подняться в воздух, и каждого пассажира, чей профиль вызвал бы понос у Геббельса, хватанет за шкирку и вышвырнет наружу. А вслед летят чемоданы и узлы. Часто хватали невинных евреев, ехавших в Москву по служебным делам, выталкивали армян за подозрительное сходство с евреями.
А сотни и сотни обалдевших евреев с визами в зубах и детьми под мышкой покидали СССР. И другие сотни, увидев, что от смелости не умирают, рвались в Москву, выпучив глаза, чтоб занять на Центральном Телеграфе место уехавших и тоже объявить забастовку. Пока советская власть не опомнилась, не натянула поводья, не вонзила шпоры в бока. А как эти шпоры вонзаются и как при этом трещат косточки, было памятно каждому, если только он окончательно не лишился ума на радостях.
На Центральном Телеграфе толпилось больше забастовщиков, чем нормальной публики, что нарушало работу этого учреждения, и милиция время от времени совершала профилактические облавы, очищая помещение от лиц с еврейской наружностью. Под жуткие вопли и стенания евреев всего мира, а также прогрессивной общественности, как это называется в газетах. На бедную советскую власть сыпалось не меньше проклятий, чем в 1917 году. Погромщики! Наследники Гитлера! Геноцид! Где права человека? Улю-лю-лю! Ату его!
Становилось смешно. А если народ смеется, то, как известно, для властей это уже совсем не смешно. Послушайте, и вы сами посмеетесь.
Это история об одном грузине, не грузинском еврее, а чистокровном грузине, кавказском человеке, чуть-чуть не угодившем по ошибке в Израиль. Для удобства рассказа назовем его, скажем, Вахтанг. Договорились? Значит, поехали.
Жил Вахтанг, горя не знал. Возил зимой с Кавказа в Москву цветы. Обыкновенные цветы. Продавал на Центральном рынке. Барыши получал такие, что даже Рокфеллеру не снились. На Кавказе, где и зимой лето, цена одному цветку от силы – копейка, в Москве самое меньшее – рубль. Прибыль – стократная. Рейс самолетом Тбилиси-Москва и обратно – шестьдесят рублей. Вахтанг упакует, спрессует в два чемодана сорок тысяч единиц цветов. Это сорок тысяч рублей. Состояние. Расходы – билет в два конца, да сотня-другая на девиц и рестораны. Ну, еще пару сот милиции да инспектору, чтобы не лезли не в свое дело. Все остальное – прибыль. Можно, скажу я вам, с ума сойти. Академику, лауреату Ленинской премии, который годами сушит свои мозги, пытаясь что-нибудь изобрести, не хватит фантазии вообразить такие деньги, сделанные в один день.
Для такого Вахтанга советская власть – малина, сущий клад. Его никакими калачами за границу не выманишь. Тем более, в Израиль. Хотя, как утверждают знатоки, могила крупнейшего поэта Грузии, гордости грузинского народа – Шота Руставели, находится в одном из монастырей Иерусалима, и даже спекулянту цветами, должно быть, не грех поклониться праху своего национального гения.
Привез Вахтанг в Москву два чемодана с прессованными цветами, на Центральном рынке оживил их, распушил, водичкой сбрызнул и продал по рубчику штука. Набил один чемодан деньгами доверху – тоже спрессовать пришлось, чтоб влезли. Второй – пустой. Сдал чемодан в камеру хранения и сам по традиции в ресторан, а потом к девицам. Сразу три блондинки – натуральные, без краски. Комсомольского возраста. Поистощился на них Вахтанг. Не денежно, а сексуально. Видно, годы уже не те. Ослаб. Пока отсыпался да приходил в себя, прозевал свой рейс. Пришлось билет менять. А чтоб жена не умерла от страха, решив, что его, наконец, зацапала милиция, пошел на Центральный телеграф дать ей успокоительную депешу.
Входит, смотрит вокруг и глазам не верит. Одни грузины сидят на скамейках. Вернее, грузинские евреи. А чем такие евреи отличаются от грузин, только они сами и понимают. На мой взгляд, ничем. Те же лица, те же усики, тот же кавказский акцент. И даже шапки, знаменитые тбилисские кепки-блины, размером с аэродром, потому что, если не самолет, то вертолет уж точно может совершить на них посадку, не боясь промахнуться, – и те у них на головах одни и те же.
Вахтанг, конечно, сразу отличил, что перед ним евреи. Дома, в Грузии, он их не очень жаловал, но здесь, в холодной, морозной Москве, грузинский еврей был для него земляком, а следовательно, самым желанным собеседником и собутыльником.
Был ранний час, и грузинские евреи на всех скамьях Центрального телеграфа приступили к завтраку. К солидной кавказской трапезе. Развязали узлы с пахучей снедью, заготовленной заботливыми женами в Кутаиси, откупорили бутылки с домашним вином. Запахи по телеграфу пошли такие, что белобрысые телеграфистки за стеклянными окошечками дружно пустили обильную слюну, перепортив немалое количество телеграфных бланков.
Ни с одним из этих евреев Вахтанг не был лично знаком, но опознанный по шапке и усикам был радушно приглашен разделить скромное угощение. Вахтанг пил и ел, наслаждался беседой на родном языке и забыл даже, зачем сюда пришел. Забыл он также спросить грузинских евреев, по какому случаю они в таком большом числе расположились на Центральном телеграфе.
Острые запахи кавказских специй довели до обморока одну московскую телеграфистку, которая на свою жалкую получку завтракала лишь стаканом кефира. Это дало милиции официальный повод вмешаться и очистить помещение от грузинских евреев. Подъехали автобусы фургоны без окошек, всю кавказскую братию до единого, включая и Вахтанга, погрузили и увезли в участок.
Бедный Вахтанг никак не мог понять, за что задержан. Неужели за цветы? Ему и в голову не могло прийти, что он, сам того не ведая, оказался участником забастовки грузинских евреев, именно таким путем добивавшихся визы в Израиль. Об этой забастовке потом много писали в заграничной прессе. В отдельных газетах ее называли даже голодной забастовкой.
А писали о ней много потому, что оказалась она наиболее успешной. Разгневанное московское начальство всем задержанным в тот день на телеграфе предложило уматывать в Израиль без лишних формальностей, дав три дня на сборы.
Не еврей, а чистокровный грузин, Вахтанг тоже попал в этот список, и как ему удалось из этого дела выпутаться, я, честно говоря, не знаю. Может быть, за большую взятку он смог сохранить советское гражданство и право жительства, то есть прописку на родном Кавказе. А может быть, кукует в Израиле и как о чудном сне вспоминает свой цветочный рай в Советском Союзе и проклинает русское начальство и грузинских евреев, что подвели под монастырь его, безобидного, аполитичного человека, торговавшего всего-навсего цветами.
Но вся история рассказывается не для того, чтобы оплакивать бедного Вахтанга. Как-нибудь выкрутится. Я хочу вам снова поведать о Коле Мухине. Как он чуть не влип. И причиной был я. Как всегда, без всякого умысла, сунувший свой нос, куда не надо. Должен вам честно сказать, что кто свяжется с таким шлимазлом, как я, удовольствия получит очень мало, а неприятностей – вагон.
Начнем с Коли. Как вы знаете, он не дурак выпить. А выпив, любит руками волю давать. Это он называет: погулять. Кончается это гулянье чаще всего в вытрезвителе. Там Колю знают. Он там свой человек, завсегдатай. Усмирят, окатят холодным душем, уложат в чистую постельку, и назавтра он, уже свежий как огурчик, дома. Пьет огуречный рассол и молча сносит нотации своей Клавы. До поры до времени. До очередного гулянья. И тогда отливаются кошке мышкины слезки. Коля так изукрасит ей физиономию, столько навесит фонарей – больше, чем при иллюминации на улице Горького в День Победы.
Что касается вытрезвителя, то с ним расчет всегда один и тот же. Двадцать пять рубчиков за обслуживание – присылают исполнительный лист по месту работы в бухгалтерию. Копию – в партийную организацию для обсуждения недостойного поведения члена КПСС Николая Ивановича Мухина.
Колю обсуждают на партийном собрании работников жилищно-жилищно-эксплуатационной конторы, то есть, ЖЭКа. Журят, взывают к партийной совести, ссылаются на наши успехи в космосе и на происки врагов за рубежом. Коля слушает внимательно и каждый раз клянется, что это в последний раз. Ему ставят на вид с занесением в личное дело. А когда в личном деле не осталось свободного места в графе «взыскания», стали ставить на вид без занесения в личное дело. И обсуждали его поведение не по каждой повестке из вытрезвителя, а когда соберется штук шесть-семь, тогда и скликали собрание, чтобы пропесочить Колю по совокупности проступков. Нянчатся с Колей по нескольким причинам. Первое, он русский, следовательно, национальный кадр. Второе, рабочий, а рабочих в партии и так мала, нужно беречь каждую единицу. К тому же, он в прошлом заслуженный боевой офицер и инвалид Отечественной войны. Он-то и в партию вступал перед боем и в заявлении писал: хочу умереть коммунистом. Коля не умер, остался жив, хотя и инвалидом. И соответственно до конца своих дней коммунистом. Разве можно такого исключать из партии? Бред.
Чтобы начать эту историю, я должен сразу сообщить: Коля Мухин по пьяному делу в очередной раз попал в вытрезвитель. А причем тут я, Аркадий Рубинчик, ни разу не выпивший больше своей нормы?
Тут-то и начинаются происшествия, одно другого нелепее. Как вы догадываетесь, меня нельзя причислить к мужественным евреям, и ни к каким забастовщикам и демонстрантам я и на версту не приближался. Хоть уже хотел ехать в Израиль и подал документы в ОВИР. Есть авангард и есть обоз. Так я был в обозе. Авангард бился и нес потери, а я ждал своей очереди тише воды, ниже травы.
Ждал уже довольно долго, а результата никакого. Люди пачками летят в Израиль, обо мне же будто забыли. Стал я нервничать. Это и подвело меня.
Встречает меня у ОВИРа, где я обычно околачивался, ожидая, что вот-вот вызовут получать визу, один чудак из тех, что все знают, и шепчет на ухо: мол, не там торчишь, жми скорее к Генеральному Прокурору, он сейчас принимает по этому вопросу, и туда очень много народу пошло. Я сдуру и подался.
Тут я должен сделать отступление. У каждого нормального советского человека, куда бы он ни шел, в кармане всегда лежит авоська. Сетка. Плетеная из суровых ниток хозяйственная сумка, которая в пустом виде ничего не весит и никакого места не занимает. Поэтому ее очень удобно таскать в кармане. Авоська – советское изобретение, и изобретение гениальное. Я даже не знаю, как бы мы жили без авоськи. По какому бы делу ни шел, на работу, или с работы, глядь – выбросили колбасу, ты – в очередь, и с полной авоськой – домой. Или на другом углу – болгарские помидоры, ты со своей авоськой тут как тут. Или на французских цыплят наткнулся, авоська при тебе, значит, не явишься домой пустым.
Если прикинуться дурачком и специально пойти по Москве охотиться за каким-нибудь продуктом, то останешься без ног и чаще всего ничего не принесешь. В СССР всегда дефицит с продуктами. Это, как говорят остряки, временные трудности, ставшие постоянным фактором. Если что и появится на прилавке, то поди угадай заранее, в каком магазине, а пока угадаешь, товар и кончился.
Авоська – палочка-выручалочка, лучший друг и помощник советского человека. Всегда имей ее при себе, как солдат винтовку, и что-нибудь непременно домой притащишь.
В тот раз, когда я послушал этого болвана и поперся к прокуратуре, в кармане у меня, натурально, лежала комочком авоська. И, должен вам сказать, это очень потом отразилось на моей судьбе. Казалось бы, мелочь, авоська, а какой поворот фортуны!
По улице Горького, из Елисеевского магазина, народ тащит огурцы. Свежие огурцы в Москве зимой – это явление. Длинные такие, импортные, как оказалось, из Египта. Ближний Восток – как бы привет с исторической родины! Авоська в кармане, я, конечно, в магазин. Кто последний – я за вами.
Очередь была смешная, человек полста, не больше. Набрал я полную авоську этих здоровенных, как поленья, огурцов. Не только для себя. Для соседей тоже. Скажем, для Клавы, Колиной. Я же приличный человек, у меня есть чувство локтя. И Клава, если где что дают, про меня тоже не забывает.
Несу авоську, ее аж распирает от египетских огурцов. Встречный народ меня задерживает:
– Где дают?
Я только рукой показываю, некогда мне. И так задержался, могу опоздать в прокуратуру.
Подхожу, и сразу что-то мне показалось подозрительным. Много милиционеров ходит за оградой. На то и прокуратура, думаю, чтоб милиция вокруг паслась. Но вот почему так много во дворе автобусов без окошек? Черные вороны. Для перевозки арестантов.
Я уж хотел было от ворот – поворот, а милиционер меня за руку:
– Вы по какому делу, гражданин?
Я затрепыхался: да ничего, мол, просто так, товарищей своих разыскиваю.
А он в мою еврейскую физиономию глядит и очень ласково отвечает:
– Пройдемте, уважаемый. Я вас к вашим товарищам провожу.
И поволок за ограду к автобусам. Одну мою руку он держит, в другой у меня авоська с огурцами.
– Пахомов! – кричит другому милиционеру. – Принимай еще одного сиониста. Кажись, последний. Можно ехать.
Впихнули меня в автобус, а там – одни евреи, друг на дружке как сельди. Захлопнули железную дверь, и мы поехали. Через всю матушку-Москву. До Волоколамского шоссе. В знаменитый вытрезвитель.
Вытряхнули нас во внутреннем дворике, построили по двое и повели в помещение. В дверях – заминка. Столкнулись с другими, с настоящими алкоголиками, православными, которых выводили. Там-то меня и увидел Коля Мухин.
– Аркаша! Какими судьбами? – кричит.
И ко мне, в нашу колонну.
Тут нас стали торопить, чтоб не задерживались, и Коля Мухин со всеми евреями попал в большой зал, где нас рассадили по скамьям.
А за столом, крытым зеленым сукном, сидит не милиция, а КГБ. От капитана и выше. Все – влипли! Сухими из воды не уйти. Будут шить политическое дело.
Положил я авоську с огурцами на колени и совсем поник. Даже не видел, что Коля Мухин вытащил один огурец, откусил и захрустел на весь зал.
За него первого и взялись.
– Эй, ты! – крикнули из-за стола с зеленым сукном. – Который огурец жрет! Встать! Подойти к столу!
Коля Мухин огрызок огурца положил на скамью возле меня и пошел к столу, слегка покачиваясь.
– Фамилия?
– Мухин, – отвечает Коля, – Николай Иванович.






