Зависть (сборник) Олеша Юрий
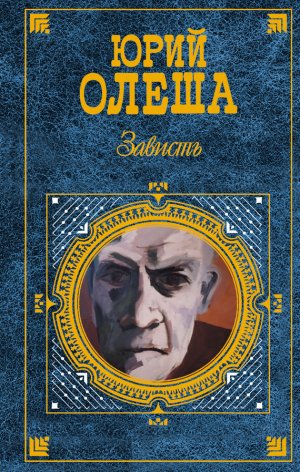
VIII
Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый, ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.
Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.
– Здорово? – вопрошал он, обращаясь ко всем сразу. – Нет, вы посмотрите… Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните…
Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.
– Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесите, – пусть он посмотрит и звонит мне.
Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.
– Да, да, – ревел он, – да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины. Большая победа… Нет, не полтинник, чудак вы… Полтинник! Хо-хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица?
Он уехал.
Смеющееся лицо – румяный горшок – качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. «Колбаса! – звучит во многих кабинетах. – Именно та… я же говорил вам… Анекдот!..» Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:
– Несут ее вам! Соломон, вы увидите! Лопнете…
– Еще не принесли? Хо-хо, Соломон…
Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.
Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, и все расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.
Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала: обладатель руки прислушивался к ощущениям.
– Ах, – вздохнул он, проглотив. – Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса – вы знаете, это даже невероятно.
Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.
– Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.
Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубка, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать.
– Что мне делать? – спросил я. – Колбаса останется у вас?
– Он просит принести ее домой к нему, на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее.
Я не вытерпел:
– Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?
– Купить такой колбасы нельзя, – молвил Шапиро. – Она еще не поступила в продажу. Это проба с фабрики.
– Она протухнет.
Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку ища карман, произносил медлительно, чуть улыбаясь и опустив веки, – как старые евреи, – поучал:
– Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день. Иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце, – она будет пахнуть, как роза.
Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масленой, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет.
С первых дней моего знакомства с Бабичевым уже слышал я разговоры о знаменитой колбасе. Где-то шли опыты по изготовлению какого-то особенного сорта – питательного, чистого и дешевого. Постоянно Бабичев справлялся в разных местах; переходя на заботливые нотки, расспрашивал и давал советы; то томный, то сладко-взволнованный, отходил от телефона. Наконец порода была выведена. Из таинственных инкубаторов вылезла, покачиваясь грузным качанием хобота, толстая, плотно набитая кишка.
Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она на гостей. В счастливой растерянности он оглядел всех и тотчас же положил кусок и отстранил его с таким выражением приподнятых ладоней, точно хотел сказать: «Нет, нет. Не надо. Я сразу отказываюсь. Чтобы потом не терзаться. Не может быть, чтобы такие удачи случались в простой человеческой жизни. Тут подвох судьбы. Заберите. Я недостоин».
Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении. Я стою на мосту.
Дворец труда по левую руку, сзади – Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. С высоты то, что я вижу вместо катера, похоже по форме на гигантскую, разрезанную впродоль миндалину. Миндалина скрывается под мостом. Тогда только я вспоминаю трубу катера и то, что поблизости трубы какие-то двое ели из котелка борщ. Белый клуб дыма, прозрачный и исчезающий, летит по направлению ко мне. Долететь не успевает, переходит в другие измерения и достигает меня только последним своим следом, свивающимся в еле видный, астральный обруч.
Я хотел бросить колбасу в реку.
Замечательный человек, Андрей Бабичев, член общества политкаторжан, правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта… Неужели это праздник? Неужели это слава?
Он сиял сегодня. Да, печать славы лежала на нем. Почему же я не чувствую влюбленности, ликования, поклонения при виде этой славы? Меня разбирает злоба. Он – правитель, коммунист, он строит новый мир. А слава в этом новом мире вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышел новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы, что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история… Значит, природа славы изменилась? Везде или только здесь, в строящемся мире? Но я ведь чувствую, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий… Я не слепец, у меня голова на плечах. Меня не надо учить, объяснять мне… Я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы! Я хочу сиять так, как сиял сегодня Бабичев. Но новый сорт колбасы меня не заставит сиять.
Я мотаюсь по улицам со свертком. Кусок паршивой колбасы управляет моими движениями, моей волей. Я не хочу!
Несколько раз я готов был швырнуть сверток через перила. Но стоило мне представить себе, как, освобождаясь на лету от обертки, падает и с эффектностью торпеды исчезает в волнах злосчастный кусок колбасы, – как мгновенно другое представление бросало меня в дрожь. Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не смотрит на меня – и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону, взгляда его нет: только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему неинтересно смотреть на меня, нет времени, нет охоты, но я понимаю, что он видит меня насквозь.
Вечером пришел Соломон Шапиро, пришли еще два, и Бабичев устроил угощение. Старый еврей принес бутылку водки, и они пили, закусывая знаменитой колбасой. Я отказался от участия в трапезе. С балкона я наблюдал их.
Живопись увековечила многие пиры. Пируют полководцы, дожи и просто жирные чревоугодники. Эпохи запечатлены. Веют перья, ниспадают ткани, лоснятся щеки.
Новый Тьеполо! Спеши сюда! Вот для тебя пирующие персонажи… Они сидят под яркой стосвечовой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо, пиши «Пир у хозяйственника»!
Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову, они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяжках… На вилке держит он кружок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего, и он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он?
– Сосисок у нас не умеют делать! – говорил гигант в синих подтяжках. – Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы еврей, вы ничего не понимаете в сосисках, – вам нравится кошерное худосочное мясо… У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добьюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски.
IX
Мы собрались на аэродроме.
Я говорю: «мы»! Уж я-то был с боку припека, случайно прихваченный человечек. Никто не обращался ко мне, никого не интересовали мои впечатления. Я мог бы со спокойной совестью оставаться дома.
Должен был состояться отлет советского аэроплана новой конструкции. Пригласили Бабичева. Гости вышли за барьер. Бабичев главенствовал и в этом избранном обществе. Стоило ему вступить с кем-нибудь в разговор, как возле него смыкался круг. Все слушали его с почтительным вниманием. Он красовался в своем сером костюме, грандиозный, выше всех плечами, аркой плечей. На животе у него на ремнях висел черный бинокль. Слушая собеседника, он закладывал руки в карманы и тихо качался на широко расставленных ногах с пятки на носок и с носка на пятку. Он часто почесывает нос. Почесав, он смотрит на пальцы, сложенные щепоткой и близко поднесенные к глазам. Слушатели, как школьники, непроизвольно повторяют его движения и игру его лица. Они тоже почесывают нос, сами себе удивляясь.
Взбешенный, я отошел от них. Я сидел в буфете и, ласкаемый полевым ветерком, пил пиво. Я тянул пиво, наблюдая, как ветерок лепит нежные орнаменты из концов скатерти моего столика.
На аэродроме соединились многие чудеса: тут на поле цвели ромашки, очень близко, у барьера, – обыкновенные дующие желтой пылью ромашки, тут низко, по линии горизонта, катились круглые, похожие на пушечный дым облака; тут же ярчайшим суриком алели деревянные стрелы, указывающие разные направления; тут же на высоте качался, сокращаясь и раздуваясь, шелковый хобот – определитель ветра; и тут же по траве, по зеленой траве старинных битв, оленей, романтики, ползали летательные машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью.
Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно… Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убился. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью!
Грянул марш. Приехал наркомвоен. Быстро, опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним. Оркестр играл щеголевато. Наркомвоен щеголевато шагал, весь в ритме оркестра.
Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал «нельзя» и положил руку на верхнее ребро калитки.
– Как это? – спросил я.
Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события. Пилот-конструктор, в куртке румяной кожи, стоял во фронт перед наркомвоеном. Ремень туго перетягивал коренастую спину наркомвоена. Оба держали под козырек. Все лишилось движения. Только оркестр был весь в движении. Бабичев стоял, выпятив живот.
– Пропустите меня, товарищ! – повторил я, тронув военного за рукав, и в ответ услышал:
– Я вас удалю с аэродрома.
– Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым!
Нужно было показать пригласительный билет. Я не имел его: Бабичев просто захватил меня с собой. Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что делали эти люди, – здесь ли, на поле, или где-либо в других местах.
– Товарищ, я же не простой гражданин, – заволновался я (лучшей фразы для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать). Что я вам? Обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда. (Рукой я махнул на группу людей, встречавших наркомвоена.)
– Вы не оттуда, – улыбнулся военный.
– Спросите товарища Бабичева!
В рупор, сделанный из ладоней, я закричал; поднялся на носки:
– Андрей Петрович!
Как раз умолк оркестр. Подземным гулом убегал последний удар барабана.
– Товарищ Бабичев!
Он услышал. Наркомвоен повернулся тоже. Все повернулись. Пилот поднес руку к шлему, картинно защищаясь от солнца.
Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером; толстопузый, в укоротившихся брючках человек – как я посмел отвлечь их? И когда наступила тишина, когда они, еще не определив, кто зовет одного из них, застыли в выжидательных позах, – я не нашел в себе силы позвать еще раз.
Но он знал, он видел, он слышал, что это я его зову. Секунда – и все кончилось. Участники группы приняли прежние позы. Я готов был заплакать.
Тогда снова я поднялся на носки и сквозь тот же рупор, оглушая военного, послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль:
– Колбасник!
И еще раз:
– Колбасник!
И еще много раз:
– Колбасник! Колбасник! Колбасник!
Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то, во всяком случае, самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две тупо, ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось, что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой.
X
Я покинул аэродром.
Но праздник, шумевший там, манил меня. Я остановился на зеленом валу и стоял, прислонившись к дереву, задутый пылью. Меня, как святого, окружал кустарник. Я обламывал кисловатые нежные веточки, обсасывал их. Я стоял, подняв бледное добродушное лицо, и смотрел в небо.
С аэродрома вылетела машина. Со страшным мурлыканьем она покатилась надо мной, желтая на солнце, косо, как вывеска, почти раздирая листву моего дерева. Выше, выше, – я следил за нею, топчась на валу: она уносилась, то вспыхивала она, то чернела. Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов: ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени…
Торжество отлета новой советской машины прошло без меня. Война объявлена. Я оскорбил Бабичева.
Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шоферы уже проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофер Альперс видит меня, делает мне знаки. Я поворачиваюсь спиной. Мои башмаки запутались в зеленой лапше травы.
Я должен поговорить с ним. Он должен понять. Я должен объяснить ему, что это он виноват, – что не я, но именно он виноват! Он выйдет не один. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз. Отсюда он поедет в правление. Я его опережу.
В правлении сказали: он сейчас на стройке.
«Четвертак»? Значит, к «Четвертаку»!
Меня понесла нелегкая; какое-то слово, которое нужно было сказать ему, как будто уже вырвалось из моих губ, и я догонял его, спеша, боясь не догнать, потерять и забыть.
Постройка явилась мне желтеющим, висящим в воздухе миражем. Вот он, «Четвертак»! Она была за домами, далеко, – отдельные части лесов слились в одно; легчайшим ульем реяла она вдали…
Я приближаюсь. Грохот и пыль. Я глохну и заболеваю катарактой. Я пошел по деревянному настилу. Воробей слетел с пенька, слегка гнулись доски, смеша детскими воспоминаниями о катании на перевесах, – я шел, улыбаясь тому, как оседают опилки и как седеют в опилках плечи.
Где его искать?
Грузовик поперек пути. Он никак не может въехать. Он возится, приподнимается и спадает, как жук, влезающий с горизонтальной плоскости на отвесную.
Ходы запутаны, точно иду я в ухе.
– Товарищ Бабичев?
Указывают: туда. Где-то выбивают днища.
– Куда?
– Туда.
Иду по балке над бездной. Балансирую. Нечто вроде трюма зияет внизу.
Необъятно, черно и прохладно. Все вместе напоминает верфь. Я всем мешаю.
– Куда?
– Туда.
Он неуловим.
Он мелькнул один раз: прошло его туловище над каким-то деревянным бортом. Исчезло. И вот опять он появляется наверху, далеко, – между нами огромная пустота, все то, что вскоре будет одним из дворов здания.
Он задержался. С ним еще несколько – фуражки, фартуки. Все равно, отзову его, чтобы сказать одно слово: «простите».
Мне указали кратчайший путь на ту сторону. Осталась только лестница. Я слышу уже голоса. Осталось одолеть только несколько ступенек…
Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху.
В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру – не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу на монумент.
– Что это было?
Я покатился по лестнице.
Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке, с лязгом и воем описавшей полукруг. Мало ли что: техническое приспособление, кран. Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространства, в квадраты, я и увидел его ноздри.
Я сел на ступеньке.
– Где он? – спросил я.
Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом.
– Это не я виноват, – сказал я. – Это он виноват.
XI
Я решил не возвращаться к нему.
Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дверях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок. Неужели снова она вступит в мою жизнь?
Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук.
Проснулись птицы. Раздались маленькие звуки: маленькие – промеж себя – голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завозились голуби.
Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса.
(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось.)
В этот день я написал Андрею Бабичеву письмо.
Я ел во Дворце труда, на Солянке, зразы «нельсон», пил пиво и писал:
«Андрей Петрович!
Вы меня пригрели. Вы пустили меня к себе под бок. Я спал на удивительном вашем диване. Вы знаете, как паршиво жил я до этого. Наступила благословенная ночь. Вы пожалели меня, подобрали пьяного.
Вы окружили меня полотняными простынями. Гладкость и холодок ткани как будто и были рассчитаны на то, чтобы смирить мою горячечность, унять беспокойство.
В моей жизни даже появились костяные пуговицы пододеяльника, и в них – только найди нужную точку – плавало радужное кольцо спектра. Я сразу признал их. Они вернулись из давным-давно забытого, самого дальнего, детского уголка памяти.
Я получил постель.
Само это слово было для меня таким же поэтически отдаленным, как слово „серсо“.
Вы мне дали постель.
С высот благополучия спустили вы на меня облако постели, ореол, прильнувший ко мне волшебным жаром, окутавший воспоминаниями, негорькими сожалениями и надеждами. Я стал надеяться на то, что можно еще многое вернуть из предназначенного для моей молодости.
Вы меня облагодетельствовали, Андрей Петрович!
Подумать: меня приблизил к себе прославленный человек! Замечательный деятель поселил меня в своем доме. Я хочу выразить вам свои чувства.
Собственно, чувство-то всего одно: ненависть.
Я вас ненавижу, товарищ Бабичев.
Это письмо пишется, чтобы сбить вам спеси.
С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня.
Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс, – выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать.
Кто дал ему право давить меня?
Чем я хуже него?
Он умнее?
Богаче душой?
Тоньше организован?
Сильнее? Значительнее?
Больше не только по положению, но и по существу?
Почему я должен признать его превосходство?
Такие вопросы я себе поставил. Каждый день наблюдений давал мне частицу ответа. Прошел месяц. Ответ я знаю. И уже не боюсь вас. Вы просто тупой сановник. И больше ничего. Не значимостью личности подавили вы меня. О нет! Теперь я уже явственно понимаю вас, рассматриваю, посадив на ладонь. Мой страх перед вами прошел, как некое ребячество. Я свалил вас с себя. Вы – липа.
Одно время меня мучили сомнения. „Быть может, я ничтожество перед ним? – подумал я. – Быть может, он мне, честолюбцу, и впрямь являет пример большого человека?“
Но, оказалось, вы просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И, как все сановники, вы самодур. Только самодурством можно объяснить ураган, поднятый вами вокруг куска посредственной колбасы, или то, что вы привезли с улицы к себе неизвестного молодого человека. И, может быть, из того же самодурства приблизили вы к себе Володю Макарова, о котором я знаю только одно, что он футболист. Вы – барин. Вам нужны шуты и нахлебники. Не сомневаюсь, что тот Володя Макаров сбежал от вас, не вытерпев издевательств. Как и меня, вы, должно быть, систематически превращали его в дурака.
Вы заявили, что живет он при вас, как сын, что он спас вам жизнь, вы размечтались даже, вспомнив о нем. Я помню. Но это все ложь. Вам неловко признать в себе барские наклонности. Но я видел родинку у вас на пояснице.
Сперва, когда вы сказали, что диван принадлежит тому и что по возвращении того мне придется выкинуться к чертовой матери, – я оскорбился. Но понял через минуту, что и к нему и ко мне вы холодны и безразличны. Вы – барин, мы – приживальщики.
Но, смею вас уверить, ни он, ни я – мы не возвратимся к вам более. Вы не уважаете людей. Он вернется лишь в том случае, если он глупее меня.
Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек.
Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы – хороший? Значит ли это, что я – ничто, а вы – большое нечто?
Вы меня нашли на улице…
Как тупо вы повели себя!
„На улице, – решили вы, – ну ладно, серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик, ладно“. Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы – сановник, товарищ Бабичев!
Кем я показался вам? Погибающим люмпен-пролетарием? Вы решили меня поддержать? Спасибо вам. Я силен – слышите ли вы? – я силен настолько, чтобы погибать и подниматься и снова погибать.
Мне интересно, как поступите вы, прочитав мое письмо. Быть может, вы постараетесь, чтобы меня выслали, или, быть может, посадите в сумасшедший дом? Вы все можете, вы – большой человек, член правительства. Вы же сказали о своем брате, что его надо расстрелять. Вы же сказали: посадим на Канатчикову.
Ваш брат, производящий необычайное впечатление, загадочен для меня, непонятен. Тут тайна, тут ничего я не знаю. Имя „Офелия“ странно волнует меня. А вы, мне кажется, боитесь этого имени.
Кое-какие догадки я строю все же. Я предвижу кое-что. Я помешаю вам. Да, я почти уверен, что это так. Но я не позволю вам. Вы хотите завладеть дочкою вашего брата. Один раз только я видел ее. Да, это я сказал ей о ветви, полной цветов и листьев. У вас нет воображения. Вы высмеяли меня. Я слышал телефонный разговор. Вы так же очернили меня в глазах девушки, как очернили его, отца. Вам невыгодно допустить, чтобы девушка, которую вы хотите покорить, сделать дурой при себе, как нас пытались сделать дураками, – чтобы девушка эта имела душу нежную, взволнованную. Вы хотите использовать ее, как использовываете (нарочно применяю это ваше слово) „головы и бараньи ножки при помощи остроумно применяемых электрических спиральных сверл“ (из вашей брошюры).
Но нет, я не позволю вам. Еще бы: какой лакомый кусочек! Вы обжора и чревоугодник. Разве вы остановитесь перед чем-нибудь ради физиологии своей? Что помешает вам развратить девушку? То, что она племянница ваша? Вы же смеетесь над семьей, над родом. Вам хочется приручить ее.
И потому с таким бешенством вы громите вашего брата. А каждый скажет, едва взглянув на него: это замечательный человек. Я думаю, еще не зная его: он гениален, в чем – не знаю… Вы травите его. Я слышал, как стучали вы кулаком по перилам. Вы заставили дочку покинуть отца.
Но меня вы не затравите.
Я становлюсь на защиту брата вашего и его дочки. Послушайте, вы, тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев, послушайте, – да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее. А какие же слова готовите вы для нее? Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонятное – либо смешно, либо страшно. Сейчас вы смеетесь, но я заставлю вас вскоре ужасаться. Не думайте, не только образно, – вполне реально я умею мыслить. Что же! О ней, о Вале, я могу сказать и обычными словами, – и вот, пожалуйста, я вам приведу сейчас ряд понятных для вас определений, умышленно, чтобы разжечь вас, чтобы раздразнить тем, чего вы не получите, уважаемый колбасник!
Да, она стояла передо мной, – да, сперва по-своему скажу: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней – тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо: по цвету – от загара, и по форме – скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены…
А теперь – по-вашему. Описание той, которой вы хотите полакомиться. Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами – очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом.
Вы не получите ее.
Она будет моей женой. О ней я мечтал всю жизнь.
Повоюем! Сразимся! Вы старше меня на тринадцать лет. Они сзади вас и впереди меня. Еще одно-другое достижение в колбасном деле, еще одна-другая удешевленная столовая – вот пределы вашей деятельности.
О, мне другое снится!
Не вы – я получу Валю. Мы прогремим в Европе – там, где любят славу.
Я получу Валю – как приз, – за все: за унижения, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь.
Я рассказывал вам о стряпухе. Помните: о том, как она моется в коридоре. Так вот, я увижу другое: комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды…
Ради того, чтобы исполнилась эта мечта, я сделаю все! Вы не используете Валю.
До свиданья, товарищ Бабичев!
Как мог я целый месяц играть такую унизительную роль? Я к вам не вернусь больше. Ждите: быть может, вернется первый дурак ваш. Кланяйтесь ему от меня. Какое счастье, что больше я не вернусь к вам!
Всякий раз, когда мое самолюбие отчего-либо будет страдать, то знаю, что тотчас же, по ассоциации идей, вспомнится мне какой-нибудь из вечеров, проведенных вблизи вашего письменного стола. Какие тягостные видения!
Вечер. Вы за столом. Самоупоение излучается из вас. „Я работаю, – трещат эти лучи, – слышишь ли ты, Кавалеров, я работаю, не мешай… тсс… обыватель“.
А утром из разных уст несется хвала:
– Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность – Андрей Петрович Бабичев!
Но вот в то время как подхалимы пели вам гимны, в то время как самодовольство пыжило вас, – жил рядом с вами человек, с которым никто не считался и у которого никто не спрашивал мнения; жил человек, следивший за каждым вашим движением, изучавший вас, наблюдавший вас – не снизу, не раболепно, а по-человечески, спокойно, – и пришедший к заключению, что вы высокопоставленный чиновник – и только, заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям.
Дурака валять нечего.
Вот все, что я хотел вам высказать.
Шута вы хотели сделать из меня, – я стал вашим врагом. „Против кого ты воюешь, негодяй?“ – крикнули вы вашему брату. Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки, – не знаю. А я воюю против вас: против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет ему благополучно. Я воюю за брата вашего, за девушку, которая обманута вами, за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя Офелия, за все, что подавляете вы, замечательный человек. Кланяйтесь Соломону Шапиро…»
XII
Меня впустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с печеньем, похожим на еврейские буквы.
Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в два часа дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности.
Я вышел на балкон.
На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимой с балкона церкви. Эта церковь славится звонарем. Зеваки задирали головы. Им была видна работа знаменитого звонаря.
Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. Двадцать колоколов раздирали его. Как ямщик, он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в серединной точке, в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины, – таинственный музыкант, неразличимый, черный, может быть, безобразный, как Квазимодо.
(Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так: мужичок распоряжается посудой, тарелочками. А звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона.)
Я слушал с балкона.
– Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли!
Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе.
- Том Вирлирли,
- Том с котомкой,
- Том Вирлирли молодой!
Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том – удар большого колокола, большого котла. Вирлирли – мелкие тарелочки.
Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома.
Юноша, озирающий город. Никому не известный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Вирлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний.
Котомка за спиной юноши.
Он сделает все.
Он – это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний.
Пройдут дни – и скоро (не много раз перескочит солнечный зайчик с косяка в другую комнату) мальчики, сами мечтающие о том, чтоб так же, с котомкой за спиной, пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать:
- Том Вирлирли,
- Том с котомкой,
- Том Вирлирли молодой!
Так в романтическую, явно западноевропейского характера, грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки.
Я оставлю письмо на столе, соберу пожитки (в котомку?) и уйду. Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластину, по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью.






