Потерянный дом, или Разговоры с милордом Житинский Александр
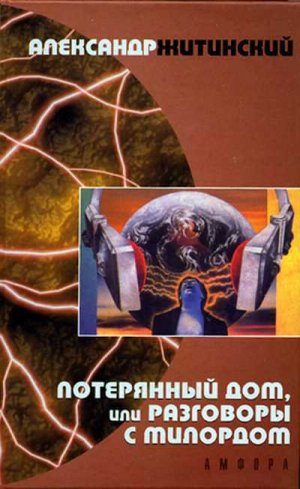
Пивная Кнолле исчезла в Гражданскую войну. Склад был организован несколько позже. И вы представить себе не можете, но эти несколько лет безвременья (в смысле пива) доказали стойкую приверженность посетителей Кнолле к этому месту, доказали их преданность Безымянной, то есть в конечном итоге доказали, что место для пивной было выбрано не просто так, а было в этом нечто мистически безошибочное.
Народ приходил сюда по-прежнему, располагался у заколоченных досками дверей пивной и распивал что придется.
Потому-то, когда встал ворос об организации книжного склада в бывшем помещении пивной Кнолле, сама собою родилась мысль облегчить бедственное положение любителей пива, поставив рядом с дверями книжного склада пивной ларь – убогое деревянное строение, подле которого всегда стояли пивные бочки; их увозили, привозили; добровольцы из толпы помогали продавщице тете Зое выбивать деревянные затычки массивным конусом, скользящим по длинной блестящей трубке с краником на конце; на донца бочек ставились кружки, раскладывалась вобла (тогда была вобла), бывало, и кое-что покрепче, чем пиво, и завязывалась беседа.
Тетя Зоя возникла вместе с ларьком…
– Она заменила Кнолле?
– Да, милорд, и еще как заменила! Чем был для народа этот чужак немец? Немцем! А тетя Зоя стала матерью-хранительницей квартала. Когда ставили ларек, ей было лет двадцать, не больше, она была Зоинькой, Зайчиком, Зайчонком, сестричкой, дочкой, красавицей – кто как не называл! Но постепенно, и довольно скоро, она стала тетей Зоей: она располнела, не утратив сначала привлекательности, а потом и утратив; обзавелась семьей – завсегдатаи знали мужа, сына, подробности жизни; затем потеряла семью в блокаду, когда и ларек сам пустили на дрова; постарела тетя Зоя, поседела, но по-прежнему оставалась всеобщей тетей, доброй и строгой. Алкоголиков она не любила (завзятых, конечно), поддерживала вокруг ларька железную дисциплину – не могло быть и речи о пьяной драке у ларька тети Зои; она сразу покидала свое место, выходила на улицу, подбоченившись, и вопрошала буйствующих: «Что, мужики? Места другого не нашли?» – и инцидент рассасывался.
Она наливала и без денег, когда их не было, и я не помню случая, чтобы деньги не вернули. Авторитет тети Зои был безграничен. Последние годы она сдала (ей было уже за семьдесят), кружки не так ловко мелькали в ее руках, она долго рылась в мелочи, отсчитывая сдачу, но упаси бог пришлецу со стороны прикрикнуть, поторопить – его изгоняли из очереди тут же!
На чем же основывался тетин Зоин авторитет? На честности!
Знаете, милорд, у нас есть такой плакат (его еще можно увидеть в провинциальных пивных): «Требуйте долива пива при отстое пены до черты!»
– Повторите, не понял.
– «Требуйте. Долива. Пива. При отстое. Пены. До черты».
– Ни черта не понимаю!
– Формулировка, конечно, скверная, но у нас ее все понимают. Дело в том, что на пивной кружке есть рисочка, отметка, обозначающая полулитровую порцию пива (у нас метрическая система, милорд). А вы сами знаете, что пиво имеет обыкновение давать обильную пену. Некоторые продавцы и продавщицы пива бессовестно пользуются этим физическим законом, наливая пиво бешеной струей, в результате чего, если дать ему отстояться, уровень жидкости в кружке далеко не дойдет до рисочки. А это деньги, милорд.
– Такие мелочи?
– Вот именно! В этом и состоит указание плаката: дайте пиву отстояться, а потом потребуйте его долива до черты! Но плакатом пренебрегают. Как можно дать пиву отстояться? Отстояться можно в очереди, но когда пиво уже налито, оно не задерживается в кружке ни секунды.
Честность тети Зои можно было проверять мензуркой.
И вот благодаря своей честности и отстою пены до черты тетя Зоя к концу трудовой жизни не скопила денег, не купила дачу, не обзавелась коврами, хрусталем и драгоценностями, а продолжала жить в коммунальной квартире, здесь же, на Безымянной, в полном одиночестве, скромности и терпении. Более полувека торговать пивом! Из пены можно было бы соорудить наш кооперативный дом. Я не шучу. Потому, вероятно, и произошло из ряда вон выходящее событие.
Случилось так, что однажды весной, точнее, вечером в пятницу, в апреле месяце, тетя Зоя заработалась допоздна. То ли не вовремя пришла цистерна с пивом, то ли собесовские дела отвлекли тетю Зою, но она открыла свой ларек лишь в шесть часов вечера и торговала до темноты (а в апреле темнеет у нас уже поздно). Многие ее постоянные клиенты разбрелись по соседним ларькам, а может быть, купили бутылочное, но факт остается фактом: в тот весенний холодный вечер почти никого из коренных обитателей Безымянной в очереди у ларька не было, а она состояла из незнакомых тете Зое людей.
Тетя Зоя сидела на высоком табурете в своем новеньком бело-голубом ларьке с двумя округлыми белыми баками, а стеклянные трубки, служащие для определения уровня пива, показывали, что его может хватить на всю ночь, если, конечно, доброта тети Зои распространится так далеко. Очередь была значительная. (Я говорю о длине, а не о составе.) Здесь были в основном молодые люди, свернувшие на тихую Безымянную с шумного Большого проспекта, расположенного неподалеку, в поисках чудесного вечернего ларька, слух о котором распространился мгновенно. А так как тетя Зоя устала за день, то работала она не в пример медленнее даже своего дневного обыкновения. Однако молодежь не оценила героизма тети Зои. В очереди раздавался глухой ропот, шуточки по поводу нерасторопности тети Зои и даже оскорбительные предположения, что она, мол, пьяна.
Тетя Зоя в жизни не пила ничего крепче кваса!
Случилось и так (не столько по прихоти автора, сколько по воле судьбы), что в очереди томился Евгений Викторович Демилле. Конечно, он не допускал никаких выпадов против тети Зои, хотя и был в приподнятом стаканом вина расположении духа. Евгений Викторович попал на Безымянную не поймешь как – шел без определенного маршрута, дабы скоротать время, оставшееся у него до встречи с одной особой, которой он сам же назначил вчера свидание, познакомившись в компании у своего приятеля. Свидание было довольно поздним, потому что особа работала в тот день во вторую смену, но перенести его не пришло в голову Евгению Викторовичу, ибо он был человеком целеустремленным, любящим ковать железо, пока оно горячо.
Занявший за Демилле подвыпивший старичок маленького роста в длинном и широком пальто попросил закурить, и Евгений Викторович, угощая его сигаретой, не удержался:
– Уж больно долго…
– Тетя Зоя… она… – попытался ответить старичок, но продолжить как-то не смог.
Между тем ропот возрос. Молодой человек в распахнутой дубленке подошел из конца очереди к окошечку и прокричал тете Зое:
– Шевелись, мать! Так и замерзнуть можно!
– Да не видишь – пьяная…
– Карга старая. Нализалась!
– Старая ж…!
Извините, милорд, но именно такие раздались в очереди голоса, на что тетя Зоя не обратила внимания, а может быть, не расслышала. Зато старичок в длинном пальто, пошатываясь, покинул очередь и подошел к молодому человеку, заварившему кашу.
Он встал перед ним, и черты его старческого лица исказились. Он силился что-то сказать, но не мог. Губы его шевелились, а вернее, дрожали, и с губ капнула слюна. Молодой человек насмешливо посмотрел сверху на пьяного старичка и спросил:
– Ну чего тебе, дед?
– Тетя Зоя… Она… – выговорил старичок.
– В задницу твою тетю Зою!
Тогда старичок взмахнул рукавом пальто, где руки и видно-то не было – такая она была тоненькая и немощная, – и ударил парня рукавом по лицу. То есть он хотел ударить по лицу, но не совсем достал, и рукав шлепнул парня по плечу – удар смазался. Молодой человек же, не теряя ни мгновения, обеими руками повернул деда спиною к себе и дал ему здоровенного пинка ногою по нижней части пальто. Старичок взвился в воздух и отлетел. Тетя Зоя, заслышав шум, отставила кружку и наклонилась к стеклу, чтобы лучше разглядеть происходящее.
– Чего там у вас, сынки? – спросила она.
– Работать нужно! – зло прокричал ей тот же парень.
А поверженный старичок, медленно поднявшись с тротуара, снова пошел на парня. На этот раз ему удалось досказать фразу:
– Тетя Зоя… Она… святая!
– Пошел отсюда! – крикнул парень, не на шутку рассвирепев.
И тут из пивного ларька донеслось нарастающее шипение – жжж! шшш! ссс! Оно быстро переходило в свист. Раздался страшной силы взрыв, и под ноги очереди, отпрянувшей от лотка, брызнула белоснежная пена. Она клубилась по асфальту, сметая не успевших отскочить граждан, в то время как пивной ларек оторвался от земли и медленно пополз в воздух. Запахло кругом пивом; оно било из прорванных днищ белых баков двумя параллельными струями. Ларек ускорял свое движение вверх с нарастающим свистом. Еще мгновение (на головы сыпалась пивная пена; многие подставляли рты, глотая ее на лету), и ларек тети Зои вылетел в ночное небо, промелькнул мимо крыш и, оставляя пенный след, ушел в вышину.
Секунд пять в ночном небе были видны две белые точки бьющего из баков пива. Оно лилось рекою по тротуару, стекая в канализационные люки. Тетя Зоя вознеслась на орбиту.
– Ну? – сказал облитый с ног до головы старичок.
Тогда очередь в нашлепках кружевной пены, мокрая, трясущаяся молодая очередь стала разбегаться кто куда. Вмиг на Безымянной не осталось никого, кроме старичка и Евгения Викторовича.
Потрясенный Ев… Однако пора переходить к основному тексту.
Глава 1. На крыльях любви
…гений Викторович возвращался домой поздно ночью на такси.
– Он все еще был потрясенный?
– Да, потрясенный и возбужденный.
Евгений Викторович находился в нервическом состоянии человека, у которого отказали тормоза, – и не только вознесение ларька с тетей Зоей было тому причиной. Этот факт можно было бы рассматривать как некое знамение, и Демилле догадывался, что не все тут просто, хотя о какой уж простоте говорить! Ему, наверное, не следовало ходить на свидание, тем более что он тоже был облит пивом, которое, высохнув, образовало липкую корку на его плаще, но дело даже не в этом. Всякий разумный человек на месте Евгения Викторовича потихоньку отправился бы домой, помалкивая в тряпочку о полетах пивных ларьков, и постарался бы привести себя в порядок. Однако Евгений Викторович на свидание с особой пришел, особу повел в укромное место (а именно в мастерскую своего приятеля-художника, где уже была припасена бутылка сухого вина и легкая закуска); там же, пользуясь историей с пивным ларьком для заговаривания зубов и мозгов молодой особы (впрочем, не ручаюсь, что у нее были мозги), Евгений Викторович постепенно и ненавязчиво разоблачил ее (только не в смысле «вывел на чистую воду»), перенес на продавленный старинный диван и…
– Милорд, в нашем языке нет приличного слова для обозначения того, чем занимались Евгений Викторович с особой на диване. Скажу только, что пружина, выпиравшая из дивана, несколько испортила удовольствие девице.
– Она была девица?
– Ну что вы, милорд! Так принято называть молодых особ, не вкладывая в это слово какого-либо дополнительного смысла.
Девица очень смеялась фантазиям Евгения Викторовича. А он, войдя в роль и видя, что ему все равно не верят, прибавил от себя несколько живописных и не совсем реалистических деталей. Так, он утверждал, что старичок, назвавший тетю Зою «святой», вознесся тоже, чтобы там, на орбите, вдоволь напиться пива. Евгений Викторович, вызывая неудержимый хохот особы, подсчитывал запасы горючего в пивном ларьке и утверждал, что тот вполне способен развить вторую космическую скорость. Насчет скорости Евгений Викторович был прав, но про старичка наврал: не вознесся старичок никуда, это чистый вымысел, а преспокойно заснул тут же, у ступенек, ведущих в бывшую пивную Кнолле.
И пока старичок спал, Евгений Викторович закончил дела с девицей, после чего ему по обыкновению сделалось грустно и скучно. Эта грусть, эта тоска неизменно посещали Евгения Викторовича после подобных приключений. Странно даже, но он шел на каждое новое свидание с тайной надеждой на то, что и после того не исчезнет состояние азарта и стремления к цели. Однако оно исчезало. А лишь только оно исчезало, Евгений Викторович начинал маяться, совесть его пробуждалась и обрушивала на него град упреков, отчего герой выпрыгивал из постели (если она была), вскакивал с тахты, поднимался с дивана, с отвращением разыскивая и натягивая на себя разбросанные вокруг части туалета, а на предмет своих вожделений смотрел чуть ли не с ненавистью.
Согласитесь, женщины плохо это переносят. Вот и наша девица мгновенно обиделась, а так как была глупышкой, то не преминула и показать это. Она распустила губки, на глаза ее навернулась слеза… «Ты больше меня не любишь?» – прошептала она. (Евгений Викторович искал под диваном носок, тот куда-то запропал.) Девица отвернулась к стене и прекратила общение.
Евгений Викторович засовестился еще больше. Надо сказать, что положительно ответить на вопрос, поставленный его временной возлюбленной (любовницей, партнершей – это как вам угодно, милорд), он никогда не мог, даже в том случае, когда действительно любил, а в этой мастерской… пружина выпирает… пыль… на столе разлитая и засохшая акварельная краска… раздавленный окурок… Да вы что?! Смеетесь?! О какой любви может идти речь в подобной обстановке?!
Потому он мысленно обругал девицу дурой и принялся искать второй носок. Девица со злостью подпрыгнула на диване и тоже стала поспешно одеваться, причем настолько порывисто, что от кофточки отлетела пуговица. Евгений Викторович смиренно подал ее девице. Та выругалась непечатно (чего уж тут стесняться!) и крикнула: «Ты бы хоть отвернулся!»
– Вот вам и любовь, милорд!
– Что вы говорите? В это трудно поверить.
– Я сам не верю, но это факт.
Впрочем, если вы думаете, что Евгений Викторович и его партнерша (любовница, возлюбленная) тут же разошлись, чтобы никогда больше не видеть друг друга, то глубоко ошибаетесь. Потом они пили кофе и еще немного вина, и ели сыр, и целовались уже несколько устало, так что Евгений Викторович почувствовал себя обязанным что-то предпринимать и уже хотел начать все сначала (то есть не хотел), однако девица мягко воспротивилась… Словом, все кончилось хорошо.
– Удивительно!
Короче говоря, они вышли из мастерской ночью, поймали такси с зеленым огоньком – их в тот час много было на пустынных улицах; они охотились за пассажирами так же, как днем пассажиры охотились на них, и Евгений Викторович отвез особу домой (к мужу, как ни странно!), а сам поехал к своей жене.
– Скажите, а этот муж… он…
– О чем вы говорите, милорд! Муж был убежден, что жена явилась с ночного дежурства на электронно-вычислительной машине (очень долго объяснять, что это за машины и зачем они нам), а то, что от нее по приезде слегка пахло вином, так не секрет (тем более для мужа), что на службе, да еще в такое позднее время, всегда найдется повод, чтобы выпить.
– Но он мог проверить, в конце концов!
– А зачем? Лишнее волнение… Мы никогда не проверяем своих жен, милорд. Подозрительность оскорбляет.
Вот вы меня все время перебиваете, простите, а мне важно рассказать, что же случилось, когда Евгений Викторович приехал домой. Но сначала о непредвиденной задержке.
У нас в городе очень много мостов, которые по ночам разводятся. Время разводки мостов точно известно, оно вывешено на специальной синей табличке при въезде на него, однако о разводке забывают, и она всегда оказывается некстати. Евгению Викторовичу нужно было попасть из центра в один из новых районов города, в северной его части, для чего следовало миновать Дворцовый мост. И вот он оказался разведенным.
Какое это необыкновенное зрелище, милорд! Дворцовый мост разводится посредине, так что створки разводящейся части встают на дыбы и оказываются высотою с десятиэтажный дом. Мост будто кричит разверстым ртом, но звук так низок, что его не воспринимает ухо. Это инфразвук.
– Что?
– В общем, его не слышно.
Такси остановилось в стаде других машин, ожидающих, когда мост сведут, и Евгений Викторович вышел из машины, чтобы поближе посмотреть на него. Демилле остро чувствовал всякие деформации пространства, это было профессиональное.
У парапета дежурил молоденький сержант милиции; он расхаживал туда-сюда, опустив уши шапки-ушанки и озабоченно поглядывая на урчащие автомобили, не выключавшие своих моторов, чтобы те не замерзли.
– Скоро сведут? – поинтересовался Демилле раздраженным почему-то тоном, словно разводка моста была прихотью сержанта.
– Полчаса еще, – миролюбиво ответствовал сержант и добавил, вскидывая руку: – Во-он последний караван.
Евгений Викторович взглянул в направлении, указанном сержантом, и действительно увидел вдали, где-то против крейсера «Аврора», огни каравана барж, видимые сквозь пролеты Кировского моста. Баржи неторопливо ползли по Неве, отражаясь в ней зелеными и красными искорками.
Демилле неудержимо потянуло к упиравшимся в небо огромным створкам, а в голове вдруг зароились варианты преодоления водной преграды: именно, возникла картина медленно сводящегося моста и прыжка с одного края на другой через пропасть… В общем, что-то такое пьяно-романтическое.
Он ступил на мост, но был остановлен милиционером:
– Нельзя туда. Не положено.
– Почему? – стараясь быть ироничным, спросил Евгений Викторович. – Неужели вы думаете, что я смогу причинить мосту вред? Он ведь вон какой прочный! – и Демилле для убедительности притопнул ногой, на что мост, разумеется, никак не отозвался.
– Шли бы себе в машину! – с досадой сказал сержант. – Выпьют и начинают выступать.
Демилле ступил обратно, но в машину не пошел. Что-то раздражало его, сидела внутри какая-то заноза, царапающая душу, а почему – Евгений Викторович не понимал. Вряд ли это были царапины совести, поскольку ночные его приходы домой последнее время были не в диковинку; Демилле уже убедил себя превыше всего ставить собственную свободу, то есть ставил ее над совестью, хотя и не без труда. Но сегодня ощущались тоска и тревога, прямо-таки собачьи тоска и тревога, как у подброшенного под чужие двери щенка.
Караван барж между тем, миновав Кировский мост, вышел на широкий простор Невы у Петропавловки и, выгибая огни в плавную дугу, потянулся к Дворцовому мосту.
Евгений Викторович поднял воротник, засунул руки в карманы плаща, но тут же их выдернул – карманы были липкими от засохшего пива – и, задрав голову вверх, принялся всматриваться в звезды. Холодные их иголки, продутые небесными ветрами, кололи глаза; слезы наворачивались, дрожа на ресницах, набухали… и вдруг сквозь колеблющиеся тяжелые капли Евгений Викторович увидел в небе маленький светящийся прямоугольник, который тихо передвигался меж звезд.
Он смахнул слезы с ресниц, протер глаза кулаками – как в детстве – радужные круги, искры, – и выплыл желтый четырехугольник, который двигался справа налево в ночном небе, чуть ниже тускло сиявшего ангела на шпиле Петропавловки, но далеко-далеко за ним.
Если бы светящийся объект был меньше и не имел столь явной прямоугольной формы, Евгений Викторович предположил бы, что наблюдает искусственный спутник (совершенно нет времени объяснять, милорд, вы уж простите!), однако более всего это было похоже на иллюминатор космического корабля, двигавшегося, напоминаю, бесшумно и плавно.
Конечно, Евгению Викторовичу тут же пришла мысль о летающих тарелках.
– Что? Что такое?
– А теперь, милорд, я охотно объясню, что это такое, потому что если отношение к искусственным спутникам никак не связано с человеческим характером, в данном случае – с характером Демилле, ибо есть просто-напросто определенная техническая данность, примета времени (как в ваши времена гильотина, милорд), то отношение к летающим тарелкам есть вопрос веры, и, как всякий вопрос веры, он связан с личностью.
Итак, летающими тарелками, или НЛО, что означает «неопознанный летающий объект», стали в наше время называть некие предметы или явления, наблюдаемые в небе, причем такие, которым не находится сразу разумного объяснения. Возникает непреодолимое желание видеть в них летающие корабли наших братьев по разуму, пришельцев из иных миров, якобы интересующихся нашей жизнью и облетающих с этой целью пространства планеты. Говорят, что и в ваше время, милорд, были такие «тарелки», разве что вы их меньше замечали. Должно быть, дела, недостаток знаний… Быть может, больше здравого смысла? Но мы заметили, мы ведем пристальные наблюдения, научные познания наши столь обширны, что позволяют пускаться в головокружительные экскурсы к иным мирам. Мы хотим общаться с нашими братьями!
Заметьте, общаться друг с другом нам уже не хочется. Надоело. Нам подай инопланетянина, гуманоида, который, конечно же, будет тоньше и умнее этой грубой женщины под названием «свекровь», или того развязного продавца в грязном халате, которому мы не смеем сказать в лицо все, что думаем о нем, ибо от него зависим, или тех двух-трех наших начальников и десятка сослуживцев, с которыми мы каждый день бок о бок идем вперед к великой цели… Господи! Возьми нас на другую планету, где уже всё построили, всё преодолели… Скафандры, ядри их душу…
– Ну зачем же выражаться?
– Так хочется чуда, так соблазнительно снова стать ребенком, опекаемым высшей, разумной, гуманной цивилизацией. И мы верим в это, милорд. Увы!
Верил и Евгений Викторович. То есть не то чтобы верил безоговорочно, но хотел верить, верил половинчато, сомневался. С одной стороны, будучи по профессии архитектором, следовательно, человеком точного знания, он понимал, что существуют или должны существовать вполне научные объяснения НЛО, а разговоры о гуманоидах – досужая обывательская болтовня. Но с другой стороны, будучи архитектором и по призванию, то есть принадлежа отчасти к искусству, он обладал художественным воображением и желанием выйти за пределы зримого опыта, воспарить к заоблачным сферам, где – чем черт не шутит! – могут быть такие вещи, «что и не снились нашим мудрецам».
Он бы поверил и вполне, если бы сам хоть однажды наблюдал нечто подобное. Но, как назло, ни миража, ни иллюзии, ни загадочного отражения или блика ни разу не встретилось на пути Евгению Викторовичу, посему он более склонялся к скучному, но непогрешимому материализму.
И тут, узрев в небе светящийся предмет, Демилле, подогреваемый остатками вина в организме, внезапно вскрикнул и потерял дар речи. Он лишь тыкал кулаком в небо, чем обратил на себя внимание сержанта.
– Чего? Чего вы? – недовольно начал милиционер, обращаясь к Демилле, а потом поворачиваясь и вглядываясь туда, куда указывал подъятый кулак. – Чего случилось?
– Смотри! Смотри! – шептал Демилле, а милиционер, обеспокоившись, со старанием шарил взглядом по небесам, как вдруг…
Прямоугольник погас, будто там, на космическом корабле, повернули выключатель, и в это мгновение острая игла боли пронзила сердце Демилле, он схватился за левый бок, охнул и оперся на парапет. Непонятная нежность и жалость сделали его тело податливым, безвольным и легким, словно оборвалось что-то в душе. Однако это продолжалось лишь секунду. Демилле по обыкновению перенес жалость на себя, подумал с отчаянием: «Так и умрешь где-нибудь ночью на улице, и никто…» – в общем, известное дело. Он сгорбился и уже не смотрел в небо, а взглянул внутрь себя, где тоже была ветреная холодная ночь и ни одна звезда не горела.
Сержант между тем, безуспешно обозрев небесные сферы, не на шутку рассердился. Он вообразил, что подвыпивший незнакомец разыгрывает его, смеется, гуляка проклятый, а ночь холодна, и смена не скоро, и затыкают им по молодости самые собачьи посты… короче говоря, сержант тоже себя пожалел и прикрикнул на Евгения Викторовича:
– Ступайте в машину! Слышите! Не то сейчас наряд вызову, отправлю куда надо!
Демилле покорно отлепился от парапета и поковылял к машине. Сперва он ткнулся не в ту, и его обругали, затем увидел, что его обеспокоенный водитель призывно машет рукой, и побрел к своему такси, бережно неся внутри жалость и размягченность.
– Нагулялся? – полупрезрительно спросил таксист, а Евгений Викторович взглянул на счетчик и убедился, что тот нащелкал семь рублей двенадцать копеек, а следовательно, до дому едва хватит, поскольку в кармане оставалась последняя десятка с мелочью.
Вздыбившийся мост медленно осел, сержант открыл движение, и стая таксомоторов ринулась на Стрелку Васильевского острова, с наслаждением шурша покрышками по занявшему свое привычное место асфальту.
Демилле устроился на заднем сиденье и сжался в комочек, лелея свою грусть. Он любил эту грусть – она его возвышала, делала значительнее, имела даже оттенок благородства, а сам краем уха ловил доносящиеся из динамика радиотелефона ночные переговоры водителей.
– Такси было с радиотелефоном?
– Вот именно, милорд! Как вы славно включаетесь в наш век! В сущности, меж нами нет той пропасти, о которой любят говорить… ну, такси… ну, радиотелефон… подумаешь! Это все условия игры, которые легко принять, в то время как суть человеческая мало изменилась, что и позволяет нам отлично понимать друг друга.
Итак, машина была с радиотелефоном, что указывало на принадлежность ее к разряду «выполняющих заказы», но в то позднее время заказчиков не нашлось, посему таксист и подобрал Демилле с дамочкой на улице.
Радиотелефон хрипел и трещал. Откуда-то издалека, словно из космоса, пробивались голоса водителей, выкликали диспетчера, перешучивались. Под эти фантастические ночные разговоры в эфире Евгений Викторович задремал, откинувшись головою на сиденье, и сквозь дрему отмечал, как проносятся мимо улицы и дома: промчались по проспекту Добролюбова, мигнула подсвеченная изнутри льдина плавучего ресторана «Парус», и такси вырвалось на Большой проспект Петроградской стороны, пустынный и прямой.
И лишь только сон скрыл от Демилле виды ночного города – и цепочки огней, и тревожные мигающие желтые пятна светофоров – и начал заменять их совсем иными видениями, как раздался скрип тормозов, такси прыгнуло в сторону, точно всполошенный заяц, а перед капотом метнулась серая легкая тень.
Водитель, стиснув зубы, выскочил из машины, догнал серую человеческую фигурку – то была старушка в пуховом платке, она часто и мелко крестилась – и остановил ее за плечо.
– Ты что, бабка!.. – закричал водитель, и непечатные слова сами собой посыпались у него изо рта. – На кладбище торопишься? Днем бежать надо! Кладбища ночью закрыты! – уже выпустив пар, закончил он.
Старушка не слышала. Или слышала, но не понимала. Она продолжала мелко осенять себя крестом, точно на нее напала трясучка. Губы ее шевелились и повторяли:
– Господи, свят-свят! Спаси и помилуй!.. Спаси и помилуй, свят-свят!
– Чего стряслось-то? – обескураженно спросил водитель, поняв, что не скрип тормозов и близкая смерть под колесами вызвали у бабки испуг.
– За грехи наши… светопреставление… свят-свят, – твердила старушка.
Водитель махнул рукой, и старуха провалилась в ночь, как летучая мышь.
Надо сказать, что Демилле тоже выскочил из машины, когда увидел страшные глаза водителя и понял, что тот готов убить несчастную старушку. Он приблизился к месту происшествия и с облегчением заметил, что пыл водителя угас, старушка невменяема и бормочет бог весть что. Еще секунда – и она скрылась в подворотне. Острый кончик развевающегося за нею пухового платка лизнул кирпичный угол и навеки исчез из жизни Евгения Викторовича.
– Прибабахнутая… – задумчиво сказал водитель и направился к покинутой машине.
Если бы он знал, милорд, насколько точное вылетело у него слово! Ведь старушка именно была «прибабахнутая», но вот как, почему и чем она была «прибабахнута» – об этом не знали ни водитель, ни Евгений Викторович, хотя, по удивительному стечению обстоятельств, к последнему факт имел прямое отношение.
Когда вновь заработал мотор, а вместе с ним и динамик радиотелефона, водитель и Демилле услышали, что в эфире творится нечто невообразимое. Два или три голоса, захлебываясь, о чем-то рассказывали, но о чем – понять было невозможно, потому как диспетчер, позабыв о хладнокровии, кричала со слезой: «Прекратите засорять эфир!» – и этим вносила дополнительную сумятицу. Демилле удалось установить, что какого-то водителя, Мишку Литвинчука, чуть не раздавило.
– Где? Как? При каких обстоятельствах?
– Да не больно знать хотелось, милорд! Что-то там такое произошло в ночном городе, сдвинулось или осело, а может, почудилось…
Водитель выключил радиотелефон, и Евгений Викторович снова погрузился в дремоту.
Проехали Кировский, взлетели на Каменноостровский мост (навстречу пронеслась колонна милицейских машин с синими мигалками), дугою промчались по Каменному, миновали мост Ушакова и Черную речку, оставили позади кинотеатр с красными буквами «Максим» и вырвались наконец на проспект Энгельса, уносящийся вдаль – в Озерки, Шувалово, Парголово, где на бывших болотистых лугах стоят ныне сотни и тысячи похожих друг на друга многоэтажных строений. Демилле сонной рукою сжимал в кармане липкие ключи от дома; водитель вновь включил радиотелефон и повторял в микрофон: «„Двадцать седьмой“ – Гражданка…» – пока не щелкнуло в динамике и далекий девичий голос сказал: «Поставила “двадцать семь” на Гражданку».
Они свернули вправо и поехали по временной, в ухабах, дороге – так было ближе, – затем свернули еще, и отсюда совсем недалеко уже было до улицы Кооперации. Она и возникла вскоре: въезд на нее был отмечен двумя точечными шестнадцатиэтажными домами, далее по левую сторону стояли двенадцатиэтажные и также точечные дома, а по правую – два детских сада, абсолютно одинаковые, за которыми и был девятиэтажный дом Евгения Викторовича, выделявшийся оригинальной кирпичной кладкой «в шашечку».
– Куда дальше? – спросил водитель, когда такси миновало первый из детских садов.
Демилле встрепенулся и взглянул на счетчик. Там значились цифры 10.46. Он сунул руку в карман плаща, опять испытав легкое отвращение, и достал слипшуюся от пива мелочь. Беглый взгляд на нее определил, что, слава богу, хватит! Только тут он посмотрел за стекло и сказал:
– Здесь, за вторым садиком, следующий дом.
– Где? – спросил шофер. (Они уже ехали мимо этого второго садика.)
– Ну вот же… – сказал Евгений Викторович и осекся.
Никакого следующего дома за садиком не наблюдалось. Там, где всегда, то есть уже десять лет, возвышался красивый, «в шашечку», дом, была пустота, сквозь которую хорошо были видны пространства нового района, и вывеска «Универсам» в глубине квартала, и небо с теми же звездами.
– Стой! – в волнении крикнул Евгений Викторович.
Он выскочил из машины, причем водитель тут же распахнул свою дверцу и вышел тоже, опасаясь, по всей видимости, соскока. Демилле сделал несколько шагов по асфальтовой дорожке и вдруг остановился, опустив руки, да так и замер, вглядываясь перед собою.
– Эй! Ты чего? – позвал водитель, а так как пассажир не отзывался, то он направился к нему и, только подойдя, понял, чем был потрясен Демилле…
Отступ первый «О лоскутных одеялах» и несколько страниц пролога
– Ну и чем же? Чем?
– Ах, милорд, и это говорите мне вы! Вспомните, прошу вас, какими фокусами вы занимались в своем «Тристраме»?
– Мне казалось – так забавнее…
– Еще бы! Оборвать повествование на самом интересном месте, чтобы ни с того ни с сего, с бухты-барахты («Вы не скажете, где расположена эта бухта?» – «Барахта? В вашем романе, милорд!») начать долгий и бесцельный разговор о каких-нибудь узлах, тогда как в этот самый момент рождается ребенок… мало того – герой романа!.. Как это называется?
– Послушайте, молодой человек! Вам не кажется?..
– Простите, Учитель. Смиреннейше припадаю к вашим стопам. Вырвавшиеся у меня слова – не более чем авторская амбиция. Знаете, пишешь, пишешь, да вдруг и почувствуешь себя Господом Богом, Творцом, так сказать… Но ничего, это ненадолго. Всегда есть кому поставить тебя на место.
– Это правда, – печально вздохнул Учитель.
Поэтому, раз я решил следовать вашим традициям, ничего не будет удивительного в том, что повествование мое приобретет сходство с лоскутным одеялом. В лоскутных одеялах есть своя прелесть: их создает сама жизнь. Настоящее лоскутное одеяло шьется из остатков, накопившихся в доме за долгие годы: старые платья, шляпы, накидки, портьеры – все годится; простыни, пальто, чехлы – что там еще? – мама! мама! я нашел беличью шкурку! – давай ее сюда!
Да здравствует лоскутное одеяло!
Это совсем не то, что расчетливо накопить денег, расчетливо пойти в магазин и там расчетливо купить десять сортов материи, чтобы сшить лоскутное одеяло. Скучное будет одеяло! Ненастоящее… Жизненные впечатления наши – суть лоскуты (Евгений Викторович в настоящий момент получает внушительный лоскут страха и отчаяния, а мы в это время занимаемся легкой и приятной болтовней), они накапливаются, как Бог положит на душу, неравномерно, случайно, хаотично. Однако, намереваясь сшить из них лоскутное одеяло романа, мы будем тщательно заботиться о том, какие лоскутки с какими соседствуют – по фактуре, по цвету… Иной раз до зарезу необходим лоскуток, которого у тебя нет, – парча какая-нибудь, – и вот бегаешь по городу в поисках приключений, ищешь парчу…
– Чего не сделаешь ради лоскутного одеяла!
– Оно только с виду хаотично – с близкого расстояния, я имею в виду. Не толпитесь рядом – вы ничего не увидите! Отойдите лет на пятьдесят… может быть, на сто… и посмотрите оттуда (все равно с какой стороны). Так только можно судить о композиции одеяла, о новизне орнаментальных сюжетов, о цветовой гамме. Однако о теплоте уже судить нельзя! Вот в чем закавыка!
Греет оно или не греет? Этот вопрос можно разрешить лишь при самом непосредственном соприкосновении с одеялом, лишь вблизи… да что там вблизи – лишь закутавшись в него. А тогда красота общего, прелесть фантазии, ритм лоскутков непоправимо теряются.
– Что же вы предлагаете?
Я предлагаю следующее. В лоскутное одеяло нужно сперва завернуться и провести так холодную ночь – лучше на Северном полюсе… можно на Южном… в Норильске, Магадане, Ленинграде, на худой конец. Если одеяло не поможет спастись от холода – его безоговорочно следует выбросить, как бы красиво оно ни было. Если же удастся благополучно пережить ночь, то тогда нужно разложить его на белом снегу неподалеку от Полярного круга и взлететь как можно выше, к северному сиянию, чтобы оттуда взглянуть на наше одеяло.
– Его видно?
– Надеюсь. Смотрите, во-он там… Яркое пятнышко на снегу.
Лишь оттуда, с высоты, можно оценить эстетические качества одеяла, при том, что практическую его ценность (греет!) мы только что оценили.
– У меня уже мозги набекрень. О чем вы говорите?
– О нашем романе, мистер Стерн! О его композиции и свойствах, способных согреть душу читающему.
– Ха-ха-ха… Ха-ха-ха…
– Смейтесь, смейтесь! Смеется тот, кто смеется последним!
– Милый мой ученик! Вы подобны щенку, охраняющему колышек, к которому он привязан. Вы слышите, щенок тявкает?.. Не много ли шума по поводу колышка? Да, его вбили в землю. Место довольно интересное. Шенди-холл неподалеку… Но надо же что-то выстроить рядом с колышком, не правда ли?
– Чем же я, по-вашему, занимаюсь?
– Тявкаете.
– Неправда, Учитель. Мне горько слышать это именно от вас… Впрочем, если вы хотите не болтовни, а сути, если вам наскучили мои вопросы и аллегории, то я выполню свое обещание и покажу те несколько страничек, которые я написал пару лет назад, когда в голову мне впервые пришла идея этого романа. Они вполне серьезны и не имеют к вам ни малейшего отношения.
– Ну вот… Уже обиделись! Вам не хватает чувства юмора.
– Знаете, милорд, раньше я думал так: чего-чего, а чувства юмора у меня с избытком, на десятерых. Лишь недавно я стал в этом сомневаться. Иногда не хватает юмора. Смотришь на что-нибудь такое забавное… Например, на драку двух женщин в очереди за селедкой… улыбнуться хочешь… ан нет! не улыбается! Проклятая слеза пробивается из глаз и падает на щеку, выжигая на ней горячий след стыда… старость, наверное…
– Ну полно, полно!
Я начал этот роман, как уже упоминал, давно, но написал лишь несколько страниц, назвав их «Прологом». Потом я еще раз начал роман и написал всего полторы страницы, никак их не озаглавив. («Пролог» возник сразу же после происшествия с нашим домом, о котором сейчас с ужасом догадывается Демилле и после которого я уже не мог быть его соседом – я сменил квартиру, ибо не в моих привычках описывать то, чем живешь в настоящее время, – нужно отодвинуться). Второе начало я, пожалуй, выброшу (оно неинтересно), а первое представлю – не столько на ваш суд, сколько для дальнейшего развития сюжета, о котором я все-таки забочусь, милорд! Не то что вы!
– Я готов.
– Я тоже. Итак:
Пролог. Над городом
Мальчик проснулся ночью от того, что увидел во сне Землю, плавно отходящую от него и теряющую с ним связь. Только что перед этим он видел себя с матерью на большой площади, в центре которой стояла каменная колонна, увенчанная крылатой фигуркой с крестом, а по бокам расходились веером нарядные незнакомые здания. Мальчик был здесь впервые, на этой круглой площади, расчерченной штриховыми линиями непонятого назначения, но ему казалось, что он просто забыл ее и сейчас нужно попытаться вспомнить, когда его сюда приводили. Он взглянул на мать. Она торопливо шла сбоку на фоне зеленоватого здания, озираясь по сторонам, потому что машины разъезжали по площади в самых замысловатых направлениях и нужно было постоянно остерегаться. На площади лежал старый грязный снег. Он был собран в небольшие холмики и гряды, а чистые места поблескивали на солнце ледяной корочкой.
День был хмурый и ветреный. Золоченый шпиль, по направлению к которому они с матерью шли, тускло светился, а наверху рассекал пробегающие облака крохотный резной кораблик. Все было почти знакомо, так всегда бывает во сне, и ничего страшного не предвиделось, хотя лицо матери не нравилось мальчику. Оно дергалось через каждые несколько шагов, будто кто-то связал морщинки у глаз в узелок и потягивал за этот узелок, когда ему хотелось.
Вдруг над площадью потемнело. Ветер принес откуда-то газетный лист и погнал его перед ними, то раскрывая, то складывая. Мальчик взглянул вверх и увидел в облаках нечто постороннее – какие-то темные полосы, размытые, нечеткие, но, несомненно, составлявшие единый рисунок, потому что двигались они все разом. Еще через секунду он сообразил, что рисунок похож на человеческое ухо, вернее, на часть его, так как все ухо не поместилось бы на небе. Он даже различил несколько черных волосков, торчащих из ушной раковины, но тут ухо исчезло, и на его месте появились изогнутые черные линии толщиной в заводскую трубу, которые расходились в стороны, оставляя в центре пустое место. В этом пустом месте образовались цветные круги, тоже неясные и блеклые, и тут мальчик узнал человеческий глаз, вглядывающийся сверху в площадь с несомненным интересом и удивлением. Мальчик прижался ближе к матери, поскольку испугался глаза во все небо, но неотрывно продолжал смотреть вверх. Они как раз проходили мимо каменной колонны, и мать, мельком взглянув на мальчика, отрывисто бросила:
– Закрой рот! Простудишься.
В это время глаз удалился, провалившись в облаках, зато прямо из зенита над макушкой крылатой фигурки с крестом на площадь стремительно надвинулись три огромных бледных пальца, сложенных в щепотку. Мальчик увидел блестящие ногти, коротко остриженные, и сеточку линий на пальцах – большом, указательном и среднем. Каждый палец был раза в четыре толще каменной колонны, к которой они тянулись. Пальцы осторожно ухватились за кончик колонны, за крест над крылатой фигуркой, и произвели легкое вращательное движение, как если бы площадь была волчком, а каменная колонна его осью.
И сразу же площадь качнулась, наклонилась и стала раскручиваться, уходя из-под ног, здания по краям ее побежали, сменяя одно другое, и золоченый шпиль с корабликом вспорол облака. Мальчик не успел ухватиться за руку матери, протянутую ему. Он оторвался от мостовой и полетел вверх, оставляя сбоку шестерку бронзовых коней с колесницей и с недоумением ощущая, что порвалась ниточка. Что за ниточка – он не мог бы сказать, но эти слова мелькнули: «Ниточка порвалась, лопнула…» И в ту же секунду мальчик проснулся.
Несколько мгновений он неподвижно лежал в кровати, успокаиваясь, пока не почувствовал, что ниточка не восстановилась. Все в комнате было на месте – платяной шкаф, секретер, аквариум на подоконнике, – и все было видно, несмотря на темноту, но ощущение зыбкости осталось.
Из-под двери пробивалась полоска света. Видно, мать еще сидела в кухне, дожидалась прихода отца.
Мальчик осторожно отогнул край одеяла и спустил ноги на пол. Нет, ничего не изменилось. Пол будто уходил из-под него, и он надавил на колени руками, чтобы почувствовать его прочность. На секретере громко тикал будильник. Мальчик встал и сделал несколько шагов к окну. Он взглянул в окно сквозь аквариум и увидел сонных рыб, плавающих в звездах. Мальчик встал на цыпочки, чтобы взглянуть поглубже вниз, и уперся лбом в холодное стекло аквариума. Рыбы испуганно метнулись от него.
Там, внизу, искаженные водой, водорослями и тенями рыб, плыли вереницы огней. Мальчик затаил дыхание, наблюдая за ними. Вокруг было только небо в звездах, а там, далеко внизу, перемещались огоньки, будто шла под звездами неостановимая процессия.
Стараясь не шуметь, мальчик подтащил к окну стул и взобрался на него. Теперь он мог смотреть вниз поверх аквариума. Картина несколько прояснилась. Он различил проплывающие внизу дома, разведенные мосты, улицы с фонарями, а на улицах разглядел одинокие маленькие автомашины, которые ползали, как букашки. Мальчик однажды в своей жизни летал на самолете, но сейчас испытывал совсем другое ощущение. Бесшумный и мягкий полет привел его в оцепенение, и он, опершись обеими руками на край аквариума, завороженно следил за картиной ночного города.
Город, родина моя! Здесь я родился и умру, среди составленных в ряды домов, под одинокими фонарями набережных. Его чугунные мосты отзовутся на слабый шелест моих шагов, его улицы сохранят адреса друзей, когда их самих уже не будет, а стекла витрин, отразивших мою жизнь, равнодушно взглянут на новых прохожих, вымытые прилежными весенними мойщиками. Здесь в норах каменных зданий живут великолепные и жалкие существа – моя забота, люди, – завоевывающие в житейской борьбе квадратные метры жилплощади, люди рожающие и любящие, люди ненавидящие и смеющиеся, люди как люди, что там говорить!
Все они сейчас спят, когда мальчик у окна смотрит сверху на город.
Они спят на Петроградской стороне, на всяких Бармалеевых, Разночинных, Подковыровых улицах, и на Васильевском острове вдоль бесчисленных линий. Одни из них лежат в постелях параллельно линиям, другие перпендикулярно. Немногие лежат под углом. Люди ориентированы городом, его параллельными и перпендикулярными стенами, и редко кто может позволить себе вольность спать так, как захочется, обратив голову к своей звезде».
– Вот так я писал, милорд. Несколько высокопарно, но без витиеватости…
– Гм…
– Скоро, очень скоро мы побеседуем о причинах и следствиях упомянутых уже странностей, а сейчас я спешу вернуться на улицу Кооперации, чтобы взглянуть на обстановку с третьей стороны – глазами кооператора Валентина Борисовича Завадовского и его собаки, фокстерьера Чапки.
Глава 2. Не выгуливайте собак ночью!
Кооператор Завадовский жил в первом подъезде нашего дома, на пятом этаже, занимая с женой двухкомнатную квартиру № 34. Дети четы Завадовских давно встали на ноги, и теперь с ними жила собачка – фоксик Чапка, сучка восьми лет, беловато-серой масти.
Валентин Борисович и Клара Семеновна были цирковыми артистами на пенсии. Когда-то они выступали с номером «Необыкновенный велокросс» и разъезжали по арене на велосипедах, имевших по одному колесу и седлу на длинной железной палке, руля же не имевших, а последние двенадцать лет жили в свое удовольствие, занимаясь мелким приработком по обслуживанию собак. Клара Семеновна умела стричь пуделей, а Валентин Борисович бесподобно готовил собачьи супы, так что в квартире Завадовских постепенно образовалось нечто вроде пункта питания окрестных собак, который временами трансформировался в собачью парикмахерскую. Разумеется, собаки обслуживались не бесплатно, но и не слишком дорого; во всяком случае, кооператоры из нашего дома и трех точечных, что стояли напротив, были рады отчислять из своей зарплаты кое-какие суммы в пользу Завадовских, лишь бы любимые (и весьма породистые!) их собачки имели вкусные супы и были красиво пострижены.
Подрабатывали супруги и торговлей щенками-фоксиками, которых ежегодно приносила неутомимая сучка Чапка, но это уж сущая мелочь… пятьдесят рублей за щенка… у Чапки родословная!.. пять медалей! А попробуйте уберечь собачку от криминальной случки с какой-нибудь бродячей дворняжкой! Попробуйте найти ей достойного партнера, интеллигентного, с хорошей родословной, смазливенького (раньше Завадовские водили Чапку к профессору Кремневу, но вот уже два года водят к зубному технику Фишман – это дальше, но у фокса Фишман лапки будто в черненьких варежках и медалей на одну больше)… Словом, никакие деньги не достаются зря, и я не хочу бросить и тени подозрения на достойных супругов.
Соседи по лестничной площадке, конечно, были не в восторге, но… Какие соседи и когда были в восторге от своих ближних, живущих за стенкой?
– Да, если они живущие. Только на кладбище соседи не ссорятся между собою.
– Как знать, милорд!
– Я вам точно говорю.
Валентин Борисович был ростом мал, худ и похож на мальчика с длинным повисшим носом, а Клара Семеновна, напротив, походила на тыкву, разве что складочки располагались не по вертикали, а горизонтально. Характер у нее был громкий и общительный, тогда как у ее супруга – тихий и робкий. На этом несоответствии строилась не только семейная жизнь Завадовских, но и комизм циркового номера, когда они крутили педали каждый своего колеса, но в последние годы комизма никакого не получалось, и маленький сухонький Завадовский все чаще был выметаем из квартиры мощным дыханием супруги, чтобы без устали колбасить по магазинам, по знакомым-клиентам или в поисках шампуня для собак.
Чапку тоже всегда выгуливал Валентин Борисович, причем в порядке вещей были ночные выгулы, когда он, проснувшись среди ночи от храпа Клары Семеновны и будучи не в силах заснуть вновь, цокал зубом, отвернувшись от своей половины, и сразу же слышал легкое и звонкое клацанье когтей Чапки, спешившей по паркету на зов хозяина. Завадовский поднимался с двуспального ложа – немыслимо мягкой и почему-то египетской перины, – набрасывал прямо на пижаму пальто, засовывал ноги в меховые полусапожки и трусил с Чапкой по лестнице вниз, стараясь двигаться бесшумно.
Лифт работал и ночью, но в поздние часы Валентин Борисович лифтом не пользовался никогда, опасаясь шумом его моторов обеспокоить соседей.
Вот и в описываемую нами ночь, часа в три или около того, когда все дома на улице Кооперации погружены были во мрак, Валентин Борисович, как всегда, в пальто, накинутом на бежевую в полосках теплую пижаму, без шарфа, но в шляпе, вышел, сопровождаемый Чапкой, из подъезда и глотнул ночной весенний воздух.






