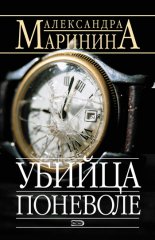Философия в будуаре, или Безнравственные наставники Сад Маркиз

РАСПУТНИКАМ
Сладострастники и сладострастницы всех возрастов и мастей, вам одним предназначен сей труд: впитайте его принципы – они, несомненно, распалят вас. Не верьте холодным скучным моралистам, усердно запугивающим вас страстями, – только с помощью чувств природа подталкивает человека к уготовленному ему пути. Доверьтесь восхитительному голосу страстей – и он непременно приведет вас к счастью.
Чувственные женщины, перед вами пример сластолюбицы Сент-Анж, неразрывно связавшей свою жизнь с божественными законами наслаждения; отриньте же, подобно ей, все, что им противоречит.
Юные девушки, истомившиеся в нелепых мучительных оковах добродетели и в не менее отвратительных цепях религиозных, – подражайте пылкой Эжени: с такой же стремительностью разрушайте, топчите ногами все пустые наставления, вдалбливаемые вам в голову ограниченными вашими родителями.
А для вас, любезные мои развратники, кто с молодых ногтей не признает иных препон, кроме собственных желаний, и иных законов, кроме причудливых своих капризов, – для вас образцом пусть служит циник Дольмансе. Желаете продвинуться в познаниях столь же далеко, как он, – прогуляйтесь вслед за ним по бесчисленным благоуханным аллеям сладострастия. Усвойте главные заповеди его школы: лишь расширяя сферу своих склонностей и фантазий и лишь жертвуя всем на свете наслаждению, злосчастное создание, известное под именем «человек», заброшенное, помимо воли, в безрадостный наш мир, взращивает розочки на терновнике жизни.
ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Привет, братец. А где же господин Дольмансе?
ШЕВАЛЬЕ. Он придет ровно в четыре. Обедать сядем не раньше семи, так что времени поболтать у нас, как видишь, предостаточно.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Представь, братец, мне, право, даже чуточку неловко за сегодняшнее мое любопытство и за непристойные мои замыслы. Сказать по правде, ты ко мне излишне снисходителен, мой друг, зря ты во всем мне потакаешь, от этого лишь портится мой нрав. Чем рассудочней мне хочется стать, тем возбужденней и блудливей проклятая моя голова. В двадцать шесть лет пора бы сделаться благочестивой, а я еще ненасытней, чем прежде… Хочется натворить такое, что никому и на ум не придет… Мое пристрастие к женщинам, казалось, должно способствовать определенной сдержанности… я полагала, что достаточно сосредоточить влечение на представительницах своего пола – и оно не распространится более на вас, мужчин. Напрасные мечты, мой друг! Мысли об удовольствиях, коих я пыталась себя лишить, еще сильнее разожгли мою фантазию. И я поняла: для тех, кто, подобно мне, рожден для разврата, бесполезно изобретать какие бы то ни было препоны – безудержный поток страстей тотчас сметет их на своем пути. Итак, дорогой мой, я принадлежу к тварям особого рода – амфибиям; с радостью позабавлюсь всем, чем угодно, мне нравится объединять различные жанры и стихии. Однако признайся, братец, не находишь ли ты несколько экстравагантным мое стремление к знакомству с этим чудаком Дольмансе – ведь он, как ты уверял, за всю свою жизнь ни разу не брал женщину обычным способом, ты еще говорил, что он содомит по убеждению, боготворит свой собственный пол и уступает домогательствам противоположного лишь при условии предоставления женщинами тех излюбленных прелестей, которыми он привык пользоваться при общении с мужчинами? Причуда моя, собственно, состоит в следующем: послужить Ганимедом сему новоявленному Юпитеру, испытать на себе его взыскательность, его непотребства, ощутить себя жертвой его извращенных фантазий. До сей поры, как ты знаешь, дорогой, подобным образом я отдавалась только тебе – из снисходительности – или кому-то из моих лакеев – им я платила за то, чтобы они обходились со мной именно так, и подчинялись они только ради денег. Сегодня же мною движет не снисходительность и не каприз – хочется войти во вкус… Различие между прежними и нынешними побудительными причинами, влекущими меня к своеобычной этой мании, огромно, и я жажду познать его нюансы. Опиши поподробнее твоего Дольмансе, желаю иметь о нем ясное представление еще до встречи. А то я видела его лишь мельком, и в каком-то постороннем доме.
ШЕВАЛЬЕ. Охотно, сестрица. Дольмансе исполнилось тридцать шесть лет. Он высокого роста, очень красивое лицо, необычайно живые и умные глаза. Правда, в чертах его порой проскальзывает едва заметная суровость и злоба. У него великолепные зубы. В фигуре и походке присутствует некоторая изнеженность – следствие привычки часто выступать в роли женщины. Он отличается безупречным изяществом, у него чарующий голос, уйма талантов, а главное – философский склад ума.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. В Бога, надеюсь, он не верует?
ШЕВАЛЬЕ. Да что ты! Отъявленный безбожник, чуждый всякой морали… Трудно найти пример более законченной и совершенной испорченности, никогда не встречал личности сквернее и подлее.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, как все это меня возбуждает! Такой мужчина точно сведет меня с ума. А теперь о его вкусах, братец.
ШЕВАЛЬЕ. Они тебе известны. Услады Содома одинаково дороги ему как в активной, так и в пассивной формах. Удовольствие он испытывает только с мужчинами. Подчас он допускает до себя женщин, но лишь в том случае, если они проявят сговорчивость и поменяются с ним полом. Я рассказал ему о тебе и о твоих намерениях. Он не возражает, но в свою очередь напоминает об условиях сделки. Еще раз повторяю, сестрица, он ответит решительным отказом на любую твою попытку склонить его к чему-либо иному: «То, что я согласен совершить с вашей сестрой, – заявил он, – особая вольность, непристойная шалость, коей допустимо осквернять себя крайне редко и со множеством предосторожностей».
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Осквернять себя!.. Предосторожности!.. Безумно люблю слушать, как изъясняются эти любезники! Мы, женщины, тоже умеем находить сильные слова, выражая глубокое свое отвращение ко всему, что не соответствует требованиям принятого у нас культа… Ну-ка признавайся, миленький, тебя-то он уже употребил? Уверена: мужчину такого склада не мог не привлечь двадцатилетний юноша с восхитительной фигурой!
ШЕВАЛЬЕ. Не скрою: мы с ним не раз совершали сумасбродства, но ты же у меня умница и не станешь за это порицать. В сущности, я предпочитаю женщин, а странным сим забавам предаюсь, лишь уступая натиску мужчины, достойного любви. В таких случаях я не в силах в чем-либо отказать. Я далек от глупой спеси юных ветрогонов, полагающих, что на подобного рода предложения следует отвечать ударами трости. Разве мы властны в своих пристрастиях? Людям, наделенным вкусами излишне своеобразными, стоит посочувствовать, однако унижать их не следует никогда, ведь причуды эти заложены в них самой природой. И виновны они в том, что пришли в этот мир с подобными склонностями, ничуть не более тех, что рождены кривоногими, а не прекрасно сложенными. Разве тот, кто выказывает желание насладиться вашим телом, произносит нечто для вас неприятное? Отнюдь. Скорее, делает вам комплимент. Зачем же отвечать на комплимент оскорблениями или бранью? Так поступают лишь совершенные болваны. Человек благоразумный наверняка присоединится к моему мнению. Правда, мир наш, к несчастью, наводнен пустоголовыми идиотами, которые уверены, что, полагая их пригодными для утех, вы тем самым проявляете к ним неуважение. Они испорчены женщинами, ревниво охраняющими от посягательств свои права, такие мужчины воображают себя донкихотами – они борются за сохранение заурядных своих привилегий, грубо обходясь с теми, кто не признает всеохватности женского владычества.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, дружок, дай я тебя расцелую! Ты не был бы моим братом, если бы думал иначе. Но умоляю, не пропускай подробностей ни о самом Дольмансе, ни о ваших утехах.
ШЕВАЛЬЕ. Через одного из моих друзей господину Дольмансе стало известно о внушительном члене, коим я, как тебе известно, оснащен. Он уговорил маркиза де V. пригласить меня на ужин. На месте мне пришлось предъявить свое достояние… Поначалу мне казалось, что интерес присутствующих вызван простым любопытством. Однако прекраснейший зад, развернутый в мою сторону, и мольбы воспользоваться им для наслаждения явно свидетельствовали о том, что проверка моих данных устроена с целью удовлетворения пристрастия особенного. Я предупредил Дольмансе о возможных трудностях подобного предприятия. Ничто не испугало его: «Мне не страшен даже таран, – сказал он мне, – а вам, в сравнении с другими, даже не достанется слава самого грозного орудия, пробившего эту жопу!» Маркиз находился рядом. Он приободрял нас, теребя, щупая, целуя все, что мы оба извлекли из своих штанов. Я являюсь во всей красе… и приступаю к некоторым подготовительным мерам: «Никаких смазок! – приказывает мне маркиз. – Иначе вы лишите Дольмансе половины ощущений, которых он от вас ожидает. Он жаждет, чтобы его рассекли… разодрали на части». – «Он будет удовлетворен!» – отвечаю я, слепо погружаясь в пучину… Ты наверное думаешь, сестренка, что мне это стоило неимоверного труда? Ничуть. Мощный мой кол провалился с необычайной легкостью, я коснулся самой глубины его нутра – а этому малому все нипочем. Я обращался с Дольмансе весьма дружелюбно. Он бурно вкушал наслаждение, подергиваясь и произнося ласковые речи, радость его тотчас передалась мне, и я его затопил. Едва я вышел из него, Дольмансе, раскрасневшийся и растрепанный, точно вакханка, повернулся ко мне лицом: «Взгляни, до какого состояния ты меня довел, дорогой шевалье! – воскликнул он, обращая ко мне свой упрямо вздыбившийся член, довольно длинный – никак не меньше шести дюймов в обхвате. – О, любовь моя! Ты уже побыл моим любовником, соблаговоли теперь послужить мне женщиной, и тогда я буду вправе заявить, что вкусил в твоих божественных объятиях милые своему сердцу утехи сполна». Сочтя, что вторую его просьбу мне исполнить ничуть не сложнее, нежели первую, я согласился. Тут прямо на моих глазах снимает с себя штаны маркиз и умоляет меня еще чуточку побыть в роли мужчины с ним, пока я буду женщиной его друга. И я обхожусь с маркизом столь же дружелюбно, как с Дольмансе, тот же, в свою очередь, вернув мне сторицей удары, обрушенные мною на третьего нашего участника, вскоре изливает мне в зад ту самую волшебную жидкость, которой я, почти в то же мгновение, орошаю зад маркиза де V.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ты, братец, должно быть, испытал необычайное блаженство, очутившись между двумя одновременно. Говорят, это просто восхитительно.
ШЕВАЛЬЕ. Совершенно точно, ангел мой, это наилучшая позиция. Но что бы об этом ни говорили, сие есть не более, чем причуда, и я никогда не предпочту ее наслаждению от женщины.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ну что ж, разлюбезный мой, дабы вознаградить твою милую к нам снисходительность, сегодня же предоставлю пылким твоим взорам юную девственницу, прекраснее самого Амура.
ШЕВАЛЬЕ. Как! В ожидании Дольмансе… ты приглашаешь сюда женщину?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Речь идет о воспитании. С этой девочкой я познакомилась прошлой осенью, в пансионате, где я находилась, пока мой муж отдыхал на водах. Там мы с ней были у всех на виду – и потому ни на что не решились; однако условились встретиться при первой возможности. И вот, сгорая от неутоленного желания, я завязываю знакомство с ее семьей. Отец оказывается распутником… я без труда соблазняю его. Добиваюсь согласия на приезд красотки, она уже в пути, я жду ее; мы проведем вместе два дня… два упоительных дня. Большую часть этого времени я употреблю на обучение юной особы. Дольмансе и я вложим в ее хорошенькую головку принципы самого разнузданного разврата, мы зажжем ее нашим огнем, привьем ей нашу философию, внушим наши желания. Мне не терпится соединить теорию с практикой, наглядно продемонстрировав каждое рассуждение, а посему тебе, братец, предназначено сорвать мирты Цитеры, а Дольмансе – розы Содома. Себе же я уготавливаю двойное наслаждение – вволю потешиться запретными утехами самой и пристрастить к ним милую простушку, завлеченную в наши сети, давая ей уроки распутства. Ну как тебе мой план, шевалье, не делает ли он честь моему воображению?
ШЕВАЛЬЕ. Замысел твой – плод богатой фантазии, сестрица, он божествен, обещаю добросовестно исполнить ту приятную роль, которая мне отведена. Ах, выдумщица, представляю, как ты насладишься, воспитывая эту малютку! Какая для тебя отрада – развращать ее, вытравлять из неопытного ее сердечка семена добродетели и веры, привитые прежними наставницами! На мой взгляд, это, пожалуй, даже слишком извращенно.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, я ни перед чем не остановлюсь, растлевая ее, повергну в прах ложные принципы морали, которыми ее дурманили прежде. Мне хочется за два урока превратить ее в такую же мерзавку, как я сама… в такую же безбожницу… распутницу. Подготовь Дольмансе, введи его в курс дела, едва он появится. Пусть яд его безнравственности проникнет в ее юную душу, сливаясь с отравой, которую впрысну я, – и тогда мы вырвем с корнем все ростки добродетели, успевшие дать всходы до нашего вмешательства.
ШЕВАЛЬЕ. Более подходящего растлителя тебе не сыскать: богохульства, издевки и непристойности извергаются из губ Дольмансе столь же неудержимо, сколь в былые времена елейные мистические речи стекали с уст знаменитого архиепископа из Камбре. Дольмансе – искушеннейший обольститель, человек на редкость испорченный и опасный… Ах, дорогая подружка, едва твоя ученица будет вручена попечению такого наставника – падение ее не заставит себя долго ждать!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Обучение определенно не затянется – я разглядела в ней такие способности…
ШЕВАЛЬЕ. Но сестрица, а как насчет родительского гнева? Вдруг девчушка, вернувшись домой, проболтается?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Бояться нечего: отца я соблазнила… он в моей власти. Такого признания тебе достаточно? Скажу больше – отдалась я ему лишь при условии, что он на все закроет глаза. Об истинных моих намерениях он осведомлен не до конца, и, надеюсь, никогда не посмеет в них вникать… Словом, я держу его в руках.
ШЕВАЛЬЕ. Твои средства ужасны!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. А иначе они не были бы верными.
ШЕВАЛЬЕ. Ладно. Расскажи теперь об этой юной особе.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Девочку зовут Эжени. Она – дочь одного из богатейших столичных откупщиков Мистиваля. Отцу около тридцати шести лет, матери – года тридцать два, самой малютке – пятнадцать. Мистиваль крайне распутен, супруга его крайне набожна. Что до Эжени – любые попытки описать ее тщетны – она выше всяких похвал. Думаю, довольно будет моего утверждения: ни ты, ни я еще не встречали создания более прелестного.
ШЕВАЛЬЕ. Не желаешь живописать – сделай хотя бы набросок. Должен же я представлять, с кем имею дело, и сотворить образ идола, которому надлежит приносить жертвы.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Итак, слушай, друг мой. У нее каштановые волосы – такой густоты, что рукой не обхватишь – длиной до низа попки. Лицо ослепительной белизны, носик с чуть заметной горбинкой, глаза чернее ночи, огненные и пронзительные!.. Неотразимый взгляд… Не представляешь, на какие безрассудства готова я ради этих глаз… Их увенчивают очаровательные брови… и обрамляют не менее изумительные веки!.. Маленький рот, роскошные губки, сама свежесть!.. С какой грациозностью держится на плечах ее прекрасная головка, какой благородный изгиб шеи… Эжени кажется взрослой и выглядит на семнадцать лет. Тоненькая изящная талия, обольстительная грудь… Ах, эта пара сисечек!.. Едва заполняют ладонь, но такие упругие… гладенькие… белоснежные!.. Раз двадцать теряла я голову, покрывая их поцелуями! Ты бы видел, как эта девочка оживлялась от моих ласк… какое душевное смятение сквозило в огромных ее глазах!.. Об остальном, друг мой, могу пока лишь догадываться. Но судя по тому, что мне уже знакомо, божества достойнее не найдется и на Олимпе… Вот я уже слышу ее шаги… оставь нас. Пройдешь через сад, чтобы не столкнуться с ней, вернешься в точно назначенный час.
ШЕВАЛЬЕ. На свидание я не опоздаю – залогом моей точности послужит изображенная тобой картина… О, небо! Уйти… покинуть тебя сейчас, взгляни, в каком я состоянии!.. Прощай… но сначала поцелуй… один поцелуйчик, сестричка, хоть немного успокой меня. (Она целует брата, касаясь его члена сквозь штаны, и молодой человек поспешно выходит.)
ВТОРОЙ ДИАЛОГ
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Здравствуй, ненаглядная моя. Ты как будто почувствовала, читая в моем сердце, с каким нетерпением я ждала тебя.
ЭЖЕНИ. О! Милая, дорога казалась мне бесконечной, так мне не терпелось поскорее обнять тебя. За час до отъезда я еще опасалась, что все переменится. Матушка решительно воспротивилась нашей восхитительной затее. Она заявила, что девушке моих лет негоже выезжать одной. Но тут вмешался отец: позавчера он ей всыпал, и довольно грубо, так что теперь одного его сурового взгляда оказалось довольно, чтобы поставить госпожу де Мистиваль на место. В конце концов, она смирилась с тем, что отец разрешает мне ехать, и я тут же примчалась. Мне отпущено два дня. Послезавтра одна из твоих служанок должна привезти меня назад в твоей карете.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Как быстро пролетят эти два дня, мой ангелочек! За столь короткий срок я едва ли успею выразить все, что к тебе испытываю… К тому же есть о чем поговорить. За недолгие часы общения мне надлежит посвятить тебя в самые сокровенные таинства Венеры. Как тут уложиться в два дня!
ЭЖЕНИ. Ах, я останусь, пока всего не узнаю… Я пришла учиться и не выйду отсюда, пока не стану просвещенной.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (целуя ее). О, любовь моя, нам предстоит еще столько сделать и столько сказать друг дружке! Кстати, не желаешь ли ты позавтракать, моя королева? Урок наш может затянуться.
ЭЖЕНИ. Дорогая наперсница, у меня только одно желание – слушать тебя. Я уже позавтракала в одном лье отсюда. И теперь спокойно продержусь до восьми часов вечера.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тогда пройдем в мой будуар, там мы расположимся поуютней. Я уже предупредила слуг. Смею тебя уверить: нас никто не побеспокоит. (Они идут туда, обнявшись.)
ТРЕТИЙ ДИАЛОГ
ЭЖЕНИ (в крайнем изумлении, что видит в комнате мужчину, которого вовсе не ждала). О, Боже! Дорогая подруга, это же предательство!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (удивленная ничуть не меньше). Как это вас занесло сюда, сударь? Насколько мне помнится, вам надлежало прибыть к четырем?
ДОЛЬМАНСЕ. В предвкушении счастья увидеться с вами, сударыня, я несколько опередил события. Я разговаривал с вашим братом о занятиях, которые вы намереваетесь вести с мадемуазель, и он счел мое присутствие необходимым. Зная, где намечено устроить лицей для чтения лекций, он тайно привел меня сюда, полагая, что сие не вызовет вашего неодобрения. Что же до него самого, он уверен: наглядные объяснения с его участием понадобятся лишь после рассуждений теоретических, так что к нам он присоединится попозже.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Сказать по правде, Дольмансе, вот так фортель…
ЭЖЕНИ. Не такая уж я простушка. Ведь все это твоих рук дело, милая подруга… могла бы со мной посоветоваться… Теперь я чувствую себя посрамленной, а это определенно нарушит наши планы.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Поверь, Эжени, идея этой проделки целиком принадлежит моему брату. Твои тревоги напрасны. Дольмансе мне известен, как человек необыкновенно любезный, с особым, философским, складом ума, незаменимым для твоего воспитания. Для осуществления наших замыслов он крайне полезен. В смысле соблюдения тайны, положись на него так же, как на меня. Держись непринужденно с этим господином, милочка, он, как никто, знает свет и наилучшим образом разовьет тебя, выводя на верный путь к счастью и наслаждению – по нему мы и проследуем всей нашей компанией.
ЭЖЕНИ (краснея). О! Я все равно стесняюсь…
ДОЛЬМАНСЕ. Полно, прекрасная Эжени, будьте раскованней… стыдливость – отжившая добродетель, без нее обойтись совсем несложно, тем более, с вашими прелестями.
ЭЖЕНИ. Но приличия…
ДОЛЬМАНСЕ. Еще одно допотопное понятие, совершенно утратившее ценность в наши дни. Правила приличия в корне противоречат законам природы! (Дольмансе хватает Эжени, сжимает ее в своих объятиях и целует.)
ЭЖЕНИ (защищаясь). Прекратите же, сударь!.. Обращение ваше, право, бесцеремонно!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Послушай меня, Эжени, перед этим милым господином нам с тобой не нужно строить из себя недотрог. Я знакома с ним не дольше, чем ты, но видишь, я доверяюсь ему! (Она похотливо целует его в губы.) Делай, как я.
ЭЖЕНИ. О! Теперь и мне захотелось, ты заразила меня своим примером! (Она также доверяется Дольмансе, который страстно целует ее, проникая языком ей в рот.)
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, чаровница!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (целуя ее в свою очередь). И не надейся, маленькая шалунья, что я откажусь от того, что причитается мне! (Тут Дольмансе, обнимая обеих, примерно четверть часа лижет их, они обе тоже лижут друг дружку, а затем отвечают ему тем же.)
ДОЛЬМАНСЕ. Сладостные, пьянящие прелюдии! Дорогие дамы, вы не находите, что здесь невыносимо жарко? Оденемся поудобнее, так будет гораздо легче беседовать.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не возражаю, накинем эти прозрачные симары, прикроем лишь то, что следует утаивать от вожделения.
ЭЖЕНИ. Сказать по правде, дорогая, вы толкаете меня на такое!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (помогая ей раздеться). Презабавные одеяния, не правда ль?
ЭЖЕНИ. Да уж, и к тому же весьма нескромные… О, как ты меня целуешь!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Прелестная грудка!.. Едва распустившийся розан.
ДОЛЬМАНСЕ (разглядывая соски Эжени, но не прикасаясь к ним). Такие бутончики обещают мне другие приманки… куда более ценные.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Более ценные?
ДОЛЬМАНСЕ. О да, клянусь честью! (Произнося это, Дольмансе разворачивает Эжени, пытаясь разглядеть ее сзади.)
ЭЖЕНИ. О нет, не надо, умоляю вас.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Остановитесь, Дольмансе… Я пока запрещаю вам взирать на предмет, имеющий над вами столь неодолимую власть, иначе он поглотит все ваши мысли, и вы утратите способность рассуждать хладнокровно. Мы ждем от вас уроков, так преподайте же их, после этого столь вожделенные вами мирты непременно послужат вам наградой.
ДОЛЬМАНСЕ. Пусть так, но имейте в виду, мадам: для наглядности преподавания нашему прелестному ребенку первых уроков распутства мне потребуется ваше любезное согласие сделаться моей соучастницей.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. С удовольствием!.. Ну вот, взгляните, я уже голая: пользуйтесь мною для ваших умствований сколько угодно!
ДОЛЬМАНСЕ. Ах! Роскошное тело!.. Сама Венера, в соединении с Грациями!
ЭЖЕНИ. О, дорогая подруга, сколько красот! Позволь мне потрогать их руками, позволь поцеловать их. (Исполняет.)
ДОЛЬМАНСЕ. Удивительный талант! Только чуточку умерьте свой пыл, прекрасная Эжени, поскольку сейчас я потребую от вас внимания.
ЭЖЕНИ. Конечно, я готова слушать вас, готова… до чего же она хороша… до чего пышна… свежа!.. Моя подруга изумительна, не правда ль, сударь?
ДОЛЬМАНСЕ. Безусловно, она красива… я бы даже сказал, безупречно красива. Впрочем, по моему мнению, вы ни в чем ей не уступаете… Итак, моя хорошенькая ученица, придется вам выслушать меня – а иначе, в случае непослушания, я воспользуюсь правами, предоставляемыми мне званием вашего учителя.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О да, да, Дольмансе! Она в полном вашем распоряжении. Не будет умницей – отчитайте ее и пожестче.
ДОЛЬМАНСЕ. Думаю, одними внушениями здесь не обойтись.
ЭЖЕНИ. О, небо праведное! Не пугайте меня, сударь… что вы намереваетесь предпринять?
ДОЛЬМАНСЕ (бормоча и целуя Эжени в губы). Сначала легкие телесные наказания… затем хорошая трепка – и прелестная попка с лихвой расплатится за провинности головы. (Через тонкую симару он шлепает Эжени по заду.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Одобряю ваш замысел в целом, однако отвлекаться не стоит. Приступим непосредственно к уроку. Нам отпущено совсем немного времени на утехи с Эжени. Если мы растратим его на подготовительную часть, до основного курса дело так и не дойдет.
ДОЛЬМАНСЕ (касаясь, по мере объяснения, тех или иных участков тела госпожи де Сент-Анж). Итак, начнем. Не стану долго описывать эти полушария из плоти: вы, Эжени, не хуже меня знаете их названия – бюст, груди, сиськи. Им принадлежит важная роль в акте наслаждения; они постоянно перед глазами, любовнику удобно мять и ласкать их. Кое-кто предпочитает устраивать из них алтарь наслаждения, помещая свой член меж двух холмов Венеры, чтобы женщина стискивала и зажимала его. Иные мужчины, после недолгого трения, изловчаются слить туда восхитительный бальзам жизни, чье истечение – суть высшее блаженство распутника… Кстати о члене, рассуждать о нем можно бесконечно. Не пора ли и нам, сударыня, немного пофилософствовать об этом с нашей ученицей?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Думаю, самое время.
ДОЛЬМАНСЕ. Отлично, сударыня. Тогда я улягусь на это канапе, вы расположитесь рядом, завладеете сим предметом и лично продемонстрируете его достоинства нашей юной ученице. (Дольмансе устраивается, а госпожа де Сент-Анж показывает.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Перед твоими глазами, Эжени, скипетр Венеры – это главный участник любовных утех. Чаще всего именуемый «членом». Нет ни одной части тела, куда нельзя было бы его ввести. Покоряясь страстям своего управителя, он нередко пристраивается вот здесь (она касается лобка Эжени), продвигаясь по обычной дорожке… самой проторенной, но не самой приятной. В поисках храма для посвященных истинный распутник обратит свои взоры скорее сюда (она раздвигает свои ягодицы и показывает отверстие между ними): мы не раз будем возвращаться к такому способу наслаждения – ибо нет ничего более восхитительного. Рот, грудь, подмышки также служат алтарями для воскурения фимиама. Независимо от места, избранного нашим героем, после нескольких движений, он извергает вязкую белую жидкость, извержение ее приводит мужчину в исступленный восторг, являющий собой сладчайшее в жизни удовольствие.
ЭЖЕНИ. О, я жажду видеть, как истекает эта жидкость!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Для этого достаточно даже подрагивания моей руки. Смотри, по мере того, как я его встряхиваю, он возбуждается! Такие движения называют мастурбацией, а на языке развратников действие сие обозначается словом онанировать.
ЭЖЕНИ. О, бесценная моя, позволь мне поонанировать этот замечательный член!
ДОЛЬМАНСЕ. Больше не вытерплю! Не станем ей мешать, сударыня: от этой наивности у меня стоит, как бешеный.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Решительно возражаю. Будьте благоразумны, Дольмансе, не вскипайте раньше времени. Истечение семени ослабит активность ваших животных инстинктов, что неизбежно умерит пыл ваших рассуждений.
ЭЖЕНИ (ощупывая детородные яички Дольмансе). О, зачем ты противишься моим желаниям, милая подружка, ты обижаешь меня!.. А это что за шарики, для чего они служат и как называются?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Техническое обозначение – яйца… научный термин – тестикулы. Эти шарики – хранилище плодоносного семени, о котором я только что говорила, благодаря его извержению в матку женщины совершается воспроизводство рода человеческого. Не стоит углубляться в детали, Эжени, куда более важные для медицины, нежели для распутства. Красивой девушке надлежит исключительно совокупляться, но ни в коем случае не рожать. Мы лишь слегка коснемся вопросов, имеющих отношение к скучному механизму размножения, дабы подробнее остановиться на крайне важных для нас областях – сладострастии и разврате, весьма далеких от задач роста народонаселения.
ЭЖЕНИ. Дорогая, мне трудно вообразить, как огромный член, едва помещающийся в моей руке, многократно проникает в такую узенькую дырочку, как у тебя сзади – по моим представлениям, это непременно причинит женщине сильную боль.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Женщина непривычная испытает боль и от проникновения спереди, и от проникновения сзади. Природе угодно вести нас к счастью лишь через страдания. Однако едва боль преодолена – ничто уже не препятствует наслаждению. Удовольствие, испытываемое от введения члена в зад, – безусловно, превосходит любые ощущения от принятия его спереди. От скольких опасностей ограждена при этом женщина! Никакого риска для здоровья, никакой угрозы беременности. Не стану распространяться о преимуществах данного вида наслаждения. Наш многоуважаемый учитель проведет всеобъемлющий анализ, соединяя теорию с практикой, после чего, надеюсь, сумеет убедить тебя, милочка: из всех разновидностей сладострастия предпочтение следует отдать именно этому способу.
ДОЛЬМАНСЕ. Поторопитесь с вашими показами, сударыня, умоляю, я уже не в силах сдерживаться. Вот-вот изольюсь помимо своей воли, грозный мой член, того и гляди, обратится в ничто и станет непригодным для ваших уроков.
ЭЖЕНИ. Как! Неужели он исчезнет, если потеряет семя, о котором ты говорила! О, милая, разреши, я заставлю его потерять это семя, хочу посмотреть, во что он превратится… Наверное, ужасно приятно наблюдать, как оно истекает!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Нет, нет, Дольмансе, еще не время, поднимайтесь; не забывайте – награду за ваши труды я вручу вам лишь после того, как вы ее заслужите.
ДОЛЬМАНСЕ. Хорошо. Все же для лучшего убеждения Эжени в действенности удовольствий, о которых мы ей недавно поведали, не сочтете ли вы уместным немножко помастурбировать ее передо мной?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не просто сочту уместным – более того, исполню это с радостью, ибо столь волнующий эпизод, несомненно, посодействует нашим лекциям. Располагайся на канапе, моя милочка.
ЭЖЕНИ. О Господи! Что за прелестная ниша! А зачем столько зеркал?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тысячекратно повторяя различные позы, зеркала до бесконечности разнообразят удовольствия в глазах тех, кто вкушает их на оттоманке. Благодаря этой искусной уловке ни один уголок тела не утаен от взоров: всё на виду. Вокруг занимающихся любовью возникают группы подражателей их сладостным действиям, от стольких восхитительных картинок восторг любовников достигает невиданного накала.
ЭЖЕНИ. Потрясающее изобретение!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Дольмансе, разденьте-ка нашу жертву…
ДОЛЬМАНСЕ. Это совсем несложно, достаточно сорвать тонкий покров, и нам откроются весьма трогательные прелести. (Раздевает ее догола, первые его взгляды обращены на ее зад). Наконец-то, вот она, эта божественная, драгоценная попка, которой я так безуспешно домогаюсь!.. Черт возьми, какая пышка, свеженькая, изящная, просто блеск!.. Никогда не встречал прекраснее!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, проказник! Первые же похвалы выдают твои вкусы и привычки!
ДОЛЬМАНСЕ. Ничто в мире с этим не сравнится! Есть ли у любви алтарь более сокровенный?.. Эжени… восхитительная Эжени, дай истомить твою попку нежнейшими на свете ласками! (Он ощупывает ее и вдохновенно целует.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Остановитесь, развратник!.. Вы забываетесь, Эжени принадлежит мне одной, а от вас ожидает лишь уроков. Она достанется вам в награду, но только после того, как вы ее обучите. Так что умерьте свой пыл, иначе я рассержусь.
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, плутовка! Да вы просто ревнуете. Ну ладно, подставьте мне взамен вашу собственную попку, я воздам ей не меньше почестей. (Он приподнимает накидку госпожи де Сент-Анж и ласкает ее сзади.) Ах, до чего же она у вас прекрасна, ангел мой!.. Просто восторг! Поставим их рядышком для сравнения: Ганимед на фоне Венеры! (Осыпает и ту, и другую поцелуями.) Хочется продлить этот волнующий спектакль. Потрудитесь обняться с нею, мадам, предоставив восхищенным взорам ценителя сразу два восхитительных предмета его поклонения!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Великолепно!.. Пожалуйста, теперь вы удовлетворены? (Они переплетаются так, что их ягодицы оказываются прямо перед Дольмансе.)
ДОЛЬМАНСЕ. Лучше не бывает: именно то, что я просил. А теперь подвигайте своими прелестными попками, разожгите в них огонь похоти, поднимайте и опускайте их в такт испытываемому вами наслаждению… Да, вот так, восхитительно!..
ЭЖЕНИ. Ах, дорогая, как мне с тобой хорошо!.. А что мы делаем сейчас?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Мы онанируем, моя милая… то есть доставляем себе удовольствие. А теперь давай изменим позу. Смотри: вот мое влагалище… именно этим словом обозначают храм Венеры. Внимательно вглядись в пещерку, которую закрывает моя рука: сейчас я ее приоткрою. Возвышение, ее венчающее, – лобок– обрастает волосами, кода у девушек начинается менструация, обычно лет в четырнадцать-пятнадцать. Вот этот язычок, чуть пониже, называется клитор. Это средоточие всей женской чувственности, и моей собственной в том числе. Когда меня там щекочут, я млею от наслаждения… Попробуй-ка… Ах ты, маленькая бестия! Как лихо у тебя получается!.. Будто всю жизнь только этим и занималась!.. Стой!.. Хватит!.. Больше не надо, говорю тебе, не хочу отдаваться до конца!.. Удержите же меня, Дольмансе!.. Иначе волшебные пальчики этой красотки сведут меня с ума!
ДОЛЬМАНСЕ. Неудивительно! Остудите хоть самую малость разгоряченные ваши мозги: для разнообразия пощекочите ее сами – пусть отдается она, а не вы… Да, именно так!.. И в такой позе. Прелестный ее задик окажется прямо перед моими руками. И я легонечко помастурбирую его пальцем… Расслабьтесь, Эжени, подчините все свои чувства наслаждению. Возведите его в верховное божество вашей жизни. Призвание юной девушки – жертвовать всем на свете во имя наслаждения. Нет для нее ничего священнее удовольствий.
ЭЖЕНИ. Ах, действительно, ничего более восхитительного я не испытывала… Я вне себя… не соображаю, что делаю, говорю… Я хмелею от избытка чувств!
ДОЛЬМАНСЕ. Как раззадорилась наша забавница!.. Ее анус сокращается так, будто сейчас откусит мне палец… Самое время поставить ее раком – она была бы просто неподражаема! (Он поднимается и приставляет свой член к заднему проходу юной девушки.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Еще чуточку терпения. Более всего нас должно занимать воспитание этой малютки!.. До чего же сладко ее наставлять!
ДОЛЬМАНСЕ. Согласен! Итак, Эжени, после более или менее длительной мастурбации семенные железы набухают и в конце концов изливают жидкость, чье истечение приводит женщину в неописуемый восторг. Происходит так называемая разрядка. Когда твоя бесценная подружка позволит, я покажу тебе, насколько мощно и энергично разряжаются мужчины.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Погоди, Эжени, объясню тебе еще один способ погружения женщины в бездну сладострастия. Хорошенько раздвинь бедра… Порадую вас, Дольмансе, – разложу ее так, что в вашем распоряжении окажется зад! Вылизывайте его, а я пока пройдусь языком по влагалищу. Поместим ее между нами и постараемся добиться, чтобы она три-четыре раза подряд лишилась чувств от удовольствия. Твой лобок, Эжени, очарователен. Как мне нравится целовать этот пушок… Теперь хорошо просматривается клитор, еще не вполне сформировавшийся, но уже на редкость чувствительный… Как ты трепещешь!.. Дай-ка я еще раздвину… Ах, ты на самом деле девственна!.. Скажи, что ты чувствуешь, когда наши языки одновременно проникают тебе в оба отверстия. (Исполняется.)
ЭЖЕНИ. Ах, дорогая, так восхитительно, что не поддается описанию! Трудно сказать, который из двух языков сильнее погружает меня в безумство страсти.
ДОЛЬМАНСЕ. В данной позе мой член совсем рядом с вашими руками, мадам. Соблаговолите помастурбировать его, пока я сосу этот божественный зад. Втыкайте поглубже ваш язык, мадам, не ограничивайтесь простым посасыванием клитора. Пусть похотливый ваш язык достанет ей до самой матки: так наилучшим образом ускорится ее извержение.
ЭЖЕНИ (напрягшись). Ах, больше не могу! Не оставляйте меня, друзья мои, я упаду в обморок, я умру!.. (Она достигает разрядки в объятиях двух своих учителей.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ну как, милочка, оценила доставленное тебе удовольствие?
ЭЖЕНИ. Я словно мертвая, разбитая… уничтоженная!.. Но пожалуйста, объясните мне значение двух слов, которые вы употребили – мне не все понятно. Начнем с того, что такое матка?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Это своеобразный сосуд, напоминающий бутылку, чье горлышко обхватывает мужской член, туда стекает сок, вырабатываемый женскими железами, а также мужская сперма – ее извержение мы тебе еще покажем. От слияния двух этих жидкостей возникает зародыш, который постепенно превращается то в мальчиков, то в девочек.
ЭЖЕНИ. А, теперь ясно! Это определение проясняет мне смысл слова сперма, которое я не сразу поняла. А разве для образования зародыша необходим союз двух семян?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Безусловно, хотя доказано, что существованием своим зародыш обязан исключительно мужской сперме; но тем не менее, изверженная сама по себе, без слияния с тем, что выделяют женщины, она не способна что-либо породить; женский же сок служит только для переработки – ничего не создавая, он лишь помогает созиданию, не являясь его причиной. Многие современные натуралисты уверяют, что он вообще бесполезен; из чего наши моралисты, следуя за открытиями естественников, делают вполне закономерный вывод о том, что ребенок, сформированный из крови отца, должен испытывать привязанность лишь к нему одному. Утверждение настолько очевидное, что даже я – женщина – не смею его оспаривать.
ЭЖЕНИ. Истинность твоих высказываний, моя милая, я обнаруживаю в своем сердце. Отца я люблю безумно, а к матери питаю отвращение.
ДОЛЬМАНСЕ. Подобное предпочтение вполне оправданно. Думаю точно так же. До сих пор не могу утешиться после смерти отца. В то время, как потеряв свою мать, просто полыхал от радости… Сердце мое переполнялось омерзением к ней. Без опаски следуй своим душевным движениям, Эжени: они продиктованы природой. Мы сотворены исключительно из отцовской крови и абсолютно ничем не обязаны своей матери. В акте зачатия она просто предоставила свое тело, отец же этого акта добивался. Выходит, отец жаждал нашего рождения, а мать согласилась лишь по принуждению. Столь же по-разному мы должны относиться к каждому из родителей!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тысяча доводов подтверждают твою правоту, Эжени! Если есть на свете мать, действительно заслуживающая ненависти, так это твоя! Сварливая, суеверная… взглянешь на такую святошу – ну прямо воплощенная неприступность. Бьюсь об заклад, эта недотрога ни разу в жизни не оступилась… Ах, дорогая, если бы ты знала, как я ненавижу добродетельных женщин!.. Мы еще вернемся к этому разговору.
ДОЛЬМАНСЕ. Не пора ли обучить Эжени тому, что недавно столь успешно проделали с ней вы? Пусть она помастурбирует вас под моим руководством.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не возражаю, находя сие весьма полезным. И если я правильно вас поняла, на протяжении всего действа, вы бы не прочь обозревать и мою задницу, ведь так, Дольмансе?
ДОЛЬМАНСЕ. Неужели вы усомнились в превеликом моем желании воздать ей самые нежнейшие из почестей?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (подставляя ему свои ягодицы). Ну как, вам удобно?
ДОЛЬМАНСЕ. Изумительно! Наилучшим образом обслужу вас, по примеру того, как вы ублажили сегодня Эжени. А вы, сумасбродочка, располагайте-ка свою головку между ног вашей подруги и своим хорошеньким язычком отблагодарите ее за нежные о вас заботы. В этой позе, владея обеими вашими попками, я всласть потискаю ягодицы Эжени и пососу зад ее прелестной наперсницы. Вот так… хорошо… Как слаженно!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (млея). Провались всё к черту, умираю!.. Дольмансе, до чего отрадно, в преддверии сладчайшего мига, держаться за твой рог изобилия!.. Пусть он затопит меня спермой!.. Щекочите!.. Сосите меня, дьявол вас забери! Ах, истекая соком любви, так упоительно ощущать себя шлюхой!.. Кончено, больше не могу!.. Вдвоем вы измотали меня… Кажется, в моей жизни еще не было такого экстаза.
ЭЖЕНИ. Как радостно осознавать себя его причиной! Только, милая моя, у тебя вырвалось еще одно слово, которое я не вполне понимаю. Что ты подразумеваешь под выражением шлюха? Прости, но ведь я здесь, чтобы учиться.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Так, прелесть моя, называют публичных женщин – вечных страдалиц мужского разврата, безотказно отдающихся либо по зову собственного темперамента, либо ради выгоды. Блаженные, достойные уважения создания, заклейменные молвой и коронованные сладострастием! Они гораздо полезнее обществу, чем недотроги, и у них достает мужества отказаться – в угоду несправедливому общественному мнению – от почтительности, которой оно безжалостно их лишает. Да здравствуют истинно любезные, философски одаренные женщины, с гордостью носящие высокое звание шлюхи! Сама я уже двенадцать лет тружусь, дабы заслужить такой титул, и поверь, дорогая, услышав его в свой адрес, я ничуть не обижаюсь, а скорее – забавляюсь. Обожаю, когда меня так называют в постели. Бранное это словечко необычайно горячит мне голову.
ЭЖЕНИ. О, теперь мне ясно, о чем ты говоришь, милая! Отныне я не рассержусь, если ко мне так обратятся, даже напротив – постараюсь удостоиться подобного титула. Все же поясни, не является ли такой подход к жизни полной противоположностью добродетели, и не оскорбляем ли мы своим поведением ее устои?
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, Эжени, забудь ты о добродетелях! Никакие жертвоприношения во славу этих лжебожеств не стоят одной минуты наслаждения, испытываемой при их осквернении! Добродетель – не более, чем химера, культ ее предполагает вечное принесение себя в жертву и бесчисленные посягательства на любые проявления нашей чувственности. Разве это не противоестественно? Станет ли природа внушать побуждения, идущие ей во вред? Не давай себя дурачить, Эжени, не обольщайся насчет так называемых порядочных женщин. Пойми, и они, подобно нам, предаются страстям, только другим, куда более презренным – честолюбию, гордыне, личной выгоде; еще чаще движет ими врожденная холодность. За что, собственно, уважать этих особ? Руководствуются они исключительно себялюбием. Чем же служение эгоизму лучше и мудрее потворства страстям? Лично я предпочитаю второе. Правильнее доверять голосу страсти – истинному и единственному глашатаю матери-природы, ибо все остальное – детище скудоумия и предрассудков. Капелька спермы, извергнутая вот этим членом, Эжени, для меня ценнее самых возвышенных деяний во славу глубоко презираемой мною добродетели.
(Во время этих рассуждений воцаряется тишина. Женщины, вновь облачившись в симары, полулежат на канапе. Дольмансе сидит рядом, в большом кресле.)
ЭЖЕНИ. Но ведь существуют добродетели и иного рода. Что вы скажете о набожности?
ДОЛЬМАНСЕ. Что значит сия добродетель в глазах безбожника? И кого следует считать набожным? Разберем все по порядку. Итак, Эжени, вы называете религиозностью некий пакт, связывающий человека со своим Творцом и обязывающий его, посредством определенного культа, свидетельствовать признательность за жизнь, дарованную сим высшим создателем.
ЭЖЕНИ. Невозможно дать лучшее определение.
ДОЛЬМАНСЕ. Отлично! Только доказано, что существованием своим человек обязан исключительно непреодолимым планам природы; обнаружено, что человек столь же древен, как и сам земной шар, он – столь же неизбежное порождение земного шара, как дуб, как лев, как минералы, залегающие в недрах, и жизнью своей никому не обязан; засвидетельствовано, что тот самый Бог, которого глупцы рассматривают как единственного автора и изготовителя всего, что мы видим вокруг – не более, чем nec plus ultra человеческого разума, и что призрак этот возник в миг, когда разум, в бессилии что-либо объяснить, прибег к уловке в поисках подмоги; подтверждено, что существование Бога невозможно, поскольку деятельная природа вечным своим движением сама порождает то, что глупцы приписывают ей в качестве чьего-либо подарка; если все же предположить наличие сего инертного существа, то по смехотворности своей оно не знает себе равных – проработав только один день, оно несметное число столетий пребывает в губительном бездействии; если поверить описаниям различных религиозных авторов и представить, что оно все же существует, то тогда создание это следует признать наигнуснейшим, раз оно допускает на земле зло, ибо будучи всесильным, могло бы тому помешать; итак, если все это доказано, а дело обстоит именно так, то неужели вы, Эжени, продолжаете верить, что набожность, связывающая человека с неумным, никчемным, жестоким и презренным Творцом, является настоятельно необходимой добродетелью?
ЭЖЕНИ (госпоже де Сент-Анж). Милая моя наставница, скажи, как по-твоему, вера в существование Бога – действительно химера?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Безусловно, и наипрезреннейшая.
ДОЛЬМАНСЕ. Поверить в такое – значит совершенно лишиться рассудка. Отвратительный этот призрак – плод страха одних и слабости других – бесполезен для земного жизнеустройства; более того – неизменно вредоносен, поскольку помыслы его, коим должно быть праведными, никак не соответствуют заложенной в основу природы неправедности; ему надлежит желать добра – природе же добро угодно лишь в качестве компенсации изначально присущего ей зла; едва оно проявит активность – природа, чей основной закон – беспрерывное действие, неизбежно окажется его соперницей, и им грозит вечное противостояние. Мне могут возразить, что Бог и природа – суть единое целое. Очередной абсурд! Сотворенный предмет нельзя приравнивать к существу созидающему: возможно ли, чтобы часы стали часовщиком? Кое-кто будет уверять: природа – ничто, а Бог – все. Новая нелепица! Вселенной необходимы два начала: созидательная сила и сотворенный индивидуум. Что явилось созидательной силой? Вот единственная проблема, которую предстоит разрешить, единственный вопрос, требующий ответа.
Материя движется с помощью неведомых нам комбинаций, движение – неотъемлемая часть материи, она с помощью своей собственной энергии способна создавать, порождать, сохранять, поддерживать, уравновешивать в безграничных просторах пространства все планеты, поражающие своим величием и равномерно-неизменным ритмом, вызывающим почтительный восторг. Откуда же возникает нужда в поиске некоей сторонней движущей силы, ведь способность к активности заключена в самой природе, которая, по сути, и есть не что иное, как движущаяся материя? Прояснит ли хоть как-нибудь развитие природы ваша бредовая идея о божественном вмешательстве? Ручаюсь, что нет. Предположим, я не вполне правильно оцениваю внутренние возможности материи, то есть испытываю некое затруднение. Чего же добиваетесь вы, навязывая своего Бога? Добавляете мне еще одно затруднение. И что же, в качестве причины того, что я не вполне понимаю, мне должно принять нечто еще более непонятное? Может, догмы христианства помогут разобраться и представить в истинном свете этого грозного Бога? Присмотримся к его портрету…
Каким обрисовывают мне Бога бесчестного этого культа? Непоследовательным варваром: сегодня он создает мир, а назавтра раскаивается в его построении. Рохлей, не способным призвать человека к порядку. Собственное его творение властвует над ним, вволю оскорбляет его, в наказание удостаиваясь каких-то вечных мук! Ну и слабак этот Боженька! Возможно ли, чтобы создатель всего сущего был не в силах приспособить человека на свой лад? Вы возразите мне, что человек, устроенный каким-либо иным образом, не был бы наделен возможностью проявлять положительные качества. Что за вздор! Бог вовсе не нуждается в заслугах человека. Произведение оказалось бы достойным своего Творца, если бы человек был задуман абсолютно добрым и не способным к совершению зла. Оставлять же человеку свободу выбора – значит искушать его. И Бог, в бесконечном Своем предвидении, прекрасно знает, что из этого выйдет. Выходит, Ему доставляет удовольствие сбивать с пути созданное им же самим существо – до чего же безжалостен такой Бог! Просто изверг! Отвратительный мерзавец, заслуживающий отмщения! Не вполне удовлетворенный результатом возвышенного сего труда, Он, во имя обращения человека в свою веру, топит его, сжигает, проклинает. Но человек все равно не меняется. И тогда власть свою утверждает дьявол – существо куда более могущественное, нежели никчемный Бог, он бравирует своей силой перед создавшим его автором и беспрестанными обольщениями развращает стадо, которое предназначил для себя Всевышний. Влияние этого демона на род людской непреодолимо. Что же измышляет в ответ неутомимый Создатель, за которого вы так ратуете? Он обзаводится сыном, единственным сыном – трудно сказать, кто Его на такое надоумил. Видимо, человек: ему свойственно совокупляться, и он возжелал, чтобы Бог его тоже совокупился. Итак, облака отделяют от себя почтенную сию частицу. Вы, наверное, вообразили, что столь возвышенная креатура предстанет взору вселенной в небесных лучах, в окружении ангельского кортежа… Ничуть ни бывало: зачатие посланного на землю Спасителя осуществляется в лоне еврейской шлюхи, родившей его в грязном свинарнике! Происхождение более, чем достойное! Быть может, оправданием тому послужит некая почетная миссия? Итак, проследим за нашим героем. Что он вещает? В чем возвышенность его предназначения? Какие тайны он нам раскроет? Какие предпишет догмы? Какими деяниями прославит свое величие?
Поначалу безвестное детство, некие услуги (несомненно, развратного свойства), оказанные юным проказником жрецам Иерусалимского храма; далее – загадочное исчезновение на пятнадцать лет, в течение которых наш мошенник отравляет свои мозги всевозможными бреднями египетской науки, занесенными им впоследствии в Иудею. Едва появившись там, этот безумец заявляет, что он – сын Божий, равный отцу своему; к этому союзу он приплетает еще один призрак, называя его Святым Духом и утверждая, что все три персоны являют собой единое целое! Чем очевиднее нелепость его мистерии, чем сильнее противоречит она здравому смыслу, тем рьяней наглец этот уверяет, что приятие ее весьма достойно… а развенчание – опасно. Недоумок этот старается внушить, что ради всеобщего спасения, он, будучи Богом, облекся плотью, представ перед нашими взорами, как дитя человеческое, после чего совершает впечатляющие чудеса, убеждая в своей правоте весь мир! На ужине с пьянчугами наш обманщик, по уверениям присутствующих, превращает воду в вино; в пустыне он кормит нескольких голодранцев продуктами, которые заранее припрятали его сторонники; один из его дружков притворяется мертвым – самозванец его воскрешает; затем отправляется на гору и там, перед двумя-тремя приятелями проделывает фокус, доступный самому захудалому фигляру наших дней.
Помимо этого шельмец горячо проклинает тех, кто в него не верует, а всем внимающим ему простакам сулит небеса. Он ничего не пишет, ввиду своей безграмотности; мало говорит, ввиду глупости; делает еще меньше, ввиду своего бессилия. Выступает этот шарлатан довольно редко, но бунтовские его речи вконец раздражают должностных лиц, и те вынуждены приговорить его к распятию; сопровождающих его прохвостов он успевает уверить, что всякий раз, как они призовут его, он спустится на землю, дабы утешить их. Его подвергают мучениям – он не противится. Папаша его – возвышенный Бог, от которого он якобы произошел – не оказывает ему ни малейшей поддержки. И тогда с нашим плутом обращаются, как с последним мерзавцем, чего он, впрочем, вполне заслуживает.
Собираются его приспешники и говорят: «Мы пропали, все надежды наши рухнули, спасемся мы, лишь наделав много шуму. Напоим стражу, охраняющую Иисуса; выкрадем его тело и провозгласим, что он воскрес: средство верное; если в наше плутовство поверят, возникнет и распространится новая религия; она завоюет весь мир… Итак, за работу!». Проделка удалась. Сколько мошенников выдвинулось благодаря этой дерзкой выходке! Наконец, тело похищено. Юродивые, женщины, дети голосят о чуде. Тем не менее в городе, где только что произошло множество чудес, в том самом городе, обагренном кровью Господней, никто не поверил в нового Бога – ни одного обращения в его веру. Более того, случай для современников оказался столь малозначительным, что ни один историк не удостаивает его упоминания. Выгоду из этого обмана удается извлечь только ученикам самозванца, и то не сразу.
Немало воды утечет, пока они сумеют распорядиться плодами бесчестного надувательства, выстроив на нем шаткое здание отвратительной своей доктрины. Людям нравятся перемены. Устав от деспотизма императоров, они нуждаются в очередной революции. К речам наших плутов начнут прислушиваться. И они добьются успеха. Такова история всех заблуждений. Вскоре алтари Венеры и Марса сменятся алтарями Иисуса и Марии; опубликуется жизнеописание самозванца; пошлый этот роман затуманит многие умы; Иисусу припишут сотни поступков, о которых он и не помышлял; несуразные его высказывания станут краеугольным камнем новой морали, обращенной преимущественно к сирым и убогим, так, первейшей добродетелью отныне будет признано милосердие. Учреждаются причудливые ритуалы, именуемые таинствами. Что может быть возмутительнее и подлее, чем погрязший в преступлениях священник, который, с помощью нескольких сокровенных слов, приобретает право призывать Бога к воплощению в кусочке хлеба!
Недостойный этот культ, несомненно, был бы задушен еще в зародыше, если бы с ним боролись, вооружившись презрением – вполне им заслуженным. Но к несчастью, его приверженцев стали преследовать, что с неизбежностью привело к укреплению их позиций. Падения христианства можно добиться лишь высмеиванием. И сегодня не поздно воспользоваться этим оружием, так поступает искусник Вольтер – и никому из писателей не похвастать большим числом прозелитов. Такова, Эжени, история Бога и религии. Теперь, надеюсь, вы правильно оцените эти басни и определите свое отношение к ним.
ЭЖЕНИ. Вы облегчили мне выбор; теперь я презираю религиозные бредни, а Бог, за которого я прежде цеплялась – из-за слабости и неведения – отныне внушает мне отвращение.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Поклянись мне никогда о нем не думать, никогда ему не служить, никогда к нему не взывать и позабыть о нем навек.
ЭЖЕНИ (устремляясь на грудь госпожи де Сент-Анж). Приношу эту клятву в твоих объятьях! Ни секунды не сомневаюсь, что требования твои мне во благо – ты искренне желаешь, чтобы такого рода воспоминания не смущали мой покой.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Именно этими соображениями я и руководствуюсь.
ЭЖЕНИ. Дольмансе, наш разговор о набожности мы, кажется, начали с анализа добродетелей, не так ли? Вернемся к этому предмету. Нелепость религиозной морали очевидна, но скажите, предписывает ли она хоть какие-нибудь добродетели, способствующие нашему счастью?
ДОЛЬМАНСЕ. Хорошо, обсудим. Относится ли к таковым добродетелям целомудрие, чьим олицетворением вы, на сегодняшний день, являетесь, хотя одного взгляда ваших глаз довольно, чтобы бесследно его истребить? Признайтесь, считаете ли вы своим долгом бороться с позывами вашего естества? Готовы ли жертвовать ими ради смехотворной и ненужной девичьей чести? Гордиться тем, что ни разу не поддались даже минутной слабости? Будьте откровенны, дорогая подружка, вы действительно полагаете, что бессмысленное и вредное для здоровья соблюдение нравственной чистоты доставит вам удовольствие, сопоставимое с утехами, которыми одарит вас противостоящий ей порок?
ЭЖЕНИ. О нет, и слышать не желаю ни о какой чистоте! Во мне нет ни малейшего расположения к нравственности, к пороку же, напротив – безудержная тяга. Все же ответьте, Дольмансе, неужели нет на свете чувствительных душ, чье счастье составляет служение милосердию и благотворительности?
ДОЛЬМАНСЕ. Держись подальше от этих добродетелей, Эжени, ибо порождают они одну лишь неблагодарность! Не обольщайся на сей счет, милая крошка: благотворительность – не искреннее движение добродетельной души, а порочное дитя гордыни. Ближних мы утешаем не ради совершения благого дела, а лишь из желания выставить себя в выгодном свете. Благотворитель вознегодует, если об оказанных им милостях не станет широко известно. И вовсе не обязательно, Эжени, что возвышенные деяния – как о том принято судить – непременно приведут к положительным результатам. Сам я склонен расценивать благотворительность, как величайший из обманов. Приучая бедняка к посторонней помощи, она сдерживает его жизненную энергию. Он не старается трудиться, поскольку рассчитывает на подачки, а коль ему в них отказано – становится вором или убийцей. Со всех сторон звучат голоса с требованием покончить с попрошайничеством, но тем не менее, по-прежнему делается все возможное для его приумножения. Хотите, чтобы у вас в комнате не было мух? Нечего привлекать их, рассыпая повсюду сахар. Хотите, чтобы во Франции не было нищих? Не раздавайте милостыню и упраздните дома милосердия. Поймите, лишить человека, рожденного в нищете, губительных этих вспоможений – истинное благо – ибо в этом случае, он не только употребит все свое мужество и все доставшиеся ему от природы способности, дабы вырваться из бедственного положения, но и перестанет докучать вам. Так что безжалостно разрушайте и сносите презренные заведения, скрывающие постыдные плоды нищенского распутства. Зловонные эти клоаки ежедневно изрыгают в общество новое отребье, уповающее исключительно на ваш кошелек. Во имя чего, спрашивается, столь рьяно оберегать подобных субъектов? Опасаетесь, что Франция обезлюдеет? Нашли чего бояться!
Одним из главных недостатков нашего государства является ничем не оправданное перенаселение. Оно ничуть не способствует процветанию державы, поскольку излишние и никчемные людишки подобны паразитирующим веткам, которые живут за счет ствола, в конце концов истощая его. Вспомните историю: стоило какой-нибудь стране допустить перевес числа населения над средствами своего существования – и она тотчас начинала чахнуть. Присмотритесь к Франции – именно это с ней сейчас происходит. Последствия не за горами. Китайцы куда мудрее нас – они научились облегчать бремя перенаселения. Никаких приютов для позорных плодов разврата: от них избавляются, как от отбросов пищеварения. В Китае не знают, что такое дома бедноты. Там все работают и все счастливы. Ничто не сдерживает энергии неимущего, и каждый может повторить вслед за Нероном: «Quid est pauper?».
ЭЖЕНИ (обращаясь к госпоже де Сент-Анж). Дорогая, отец мой рассуждает точно, как господин Дольмансе, и за всю жизнь не сотворил ни одного доброго поступка. Он беспрестанно ругается с моей матерью – ей нравится выбрасывать деньги на такого рода мероприятия. Она даже вступила в «Материнское благотворительное общество» и в «Филантропический союз», трудно назвать ассоциацию, в которой она бы не состояла. Отец принудил ее прекратить все эти глупости, пригрозив, в противном случае, ограничить ее расходы и обречь на крайне скудный пенсион.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Подобные общества – при всей своей нелепости – весьма небезобидны, Эжени. Именно бесплатным школам и домам милосердия мы во многом обязаны теми страшными потрясениями, которые переживаем ныне. Заклинаю тебя, дорогая, никогда не подавай милостыню.
ЭЖЕНИ. Не беспокойся. Отец уже давно отучил меня от этого. Благотворительность слабо занимает меня, ради нее я не воспротивлюсь ни запретам отца, ни движениям моего сердца, ни твоим пожеланиям.
ДОЛЬМАНСЕ. Малой толикой мягкосердечия, доставшегося нам от природы, не стоит делиться ни с кем. И лучше уничтожить его ростки, нежели позволить им распространиться. Что мне до горестей других людей! Мало мне моих собственных – зачем же сокрушаться о чужих? Очаг чувствительности призовем к разжиганию наших удовольствий! Близко к сердцу станем принимать лишь то, что их подогревает, оставаясь абсолютно непреклонными ко всему остальному. Подобное состояние души порождает некоторую ожесточенность, не лишенную особой прелести. Беспрерывно творить зло – нам не под силу. Утрата приятных ощущений, которыми одаривает нас зло, частично уравновешивается незначительным, но острым наслаждением – никогда не совершать добра.
ЭЖЕНИ. Ах, Господи! Как воспламеняют меня ваши уроки! Теперь, наверное, меня и под страхом смерти не заставят совершить хоть какое-нибудь благодеяние!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. А вдруг представится случай учинить что-то дурное – ты им воспользуешься?
ЭЖЕНИ. Замолчи, искусительница. Ответ получишь только после окончания моей учебы. Выслушав все, что вы сказали, Дольмансе, я, кажется, разобралась: не важно, что вершить на земле – зло или добро. Главное – не изменять собственным вкусам и потакать своему темпераменту, ведь так?
ДОЛЬМАНСЕ. Несомненно, Эжени! Слова «порок» и «добродетель» выражают понятия узко локальные. Ни один поступок, сколь бы странным он ни казался, нельзя признать истинно преступным. Не бывает также и поступков однозначно добродетельных. Все обусловлено нашими нравами и климатом, в котором мы обитаем. То, что считается преступлением в данной местности, на расстоянии сотни лье зовется добродетелью. С таким же успехом, добродетели другого полушария именуются преступлениями у нас. Нет на свете зверства, которое не было бы кем-нибудь обожествлено, и нет добродетели, которая не была бы кем-нибудь заклеймена. Из этих незначительных, чисто географических, различий вытекает вывод: нас не должно заботить, как относятся к нам окружающие – с уважением или презрением. Следует быть выше этих пустых и необоснованных оценок, бесстрашно предпочитая людское презрение, если действия, его на нас навлекшие, доставляют нам удовольствие.
ЭЖЕНИ. Все же мне представляется, что существуют поступки действительно пагубные и предосудительные, которые повсюду расцениваются, как преступления и караются в любом уголке земного шара.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ни одного, любовь моя, ни единого, даже если речь заходит о насилии, инцесте, убийстве или отцеубийстве.
ЭЖЕНИ. Как! Где-то такие ужасы не осуждаются?
ДОЛЬМАНСЕ. Находятся страны, где они почитаются, увенчиваются лаврами и рассматриваются, как самые благие из деяний, в то же время в других местах все принятые у нас добродетели – человечность, чистота, благотворительность, целомудрие – расцениваются как крайне противоестественные.
ЭЖЕНИ. Пожалуйста, разъясните мне все это; остановитесь вкратце на каждом из преступлений, прежде всего, меня интересует ваше мнение о распутстве девушек и женском адюльтере.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Постарайся вникнуть в то, что я тебе скажу, Эжени. Уверения о том, что с момента выхода девочки из материнской утробы и до последнего ее вздоха ей следует оставаться жертвой родительской воли – полный бред. В наш век – век борьбы за расширение прав человека – обоснована полная химеричность родительской власти, так что не пристало юным девушкам считать себя рабынями своих семейств. В поисках ответа на интересующий нас вопрос, прислушаемся к голосу природы, и пусть примером нам послужат законы животного мира, весьма к ней приближенного. Разве у животных сохраняются родительские чувства после того, как удовлетворены первые физические потребности их потомства? Разве плод любви самца и самки не свободен и не полноправен? Разве не перестают узнавать своих детенышей творцы их дней, едва те начинают самостоятельно кормиться и передвигаться? И неужто молодым животным знакомо чувство долга перед теми, кто дал им жизнь? Конечно, нет. По какому же праву принуждают к иным обязанностям детей человеческих? И на чем, собственно, зиждутся эти обязанности? На честолюбии и скупости отцов. Итак, ответьте, справедливо ли применять подобные ограничения свободы по отношению к юным особам, едва начавшим самостоятельно мыслить и чувствовать? И в угоду отжившим предрассудкам продолжать держать их в цепях? Нелепо и смешно лицезреть, как пятнадцати – шестнадцатилетняя девушка вынуждена подавлять сжигающие ее желания и ждать, томясь муками, пострашнее адовых, пока родители, отравившие ей юность, соизволят принести в жертву и зрелые ее лета, дабы, руководствуясь лицемерным корыстолюбием, соединить дочь, помимо ее воли, с нелюбимым, а порой, и ненавистным супругом.
О нет, нет, Эжени! Так не будет продолжаться вечно – путы эти непременно исчезнут. По достижении сознательного возраста и получении государственного, а не семейного или монастырского образования, юную девушку следует отпустить из родительского дома. В пятнадцать лет пора становиться хозяйкой своей судьбы. Существует опасность, что девушка предастся пороку? Эка важность! Услуги, которые окажет юная особа, согласная осчастливить всех, кто ее об этом попросит, куда существеннее милостей, которыми она же – в насильственной изоляции от света – одарит своего супруга. Судьба женщины – быть сучкой, волчицей: принадлежит она всякому, кто ее захочет. Закабалять женщину бессмысленными оковами супружеской верности значит грубо оскорблять природное ее предназначение.
Будем надеяться, что глаза, наконец, откроются, и что, обеспечивая свободу всем индивидам, не позабудут об участи несчастных девушек; когда же юным особам надоест жаловаться на забвение – они сами поднимутся над обычаями и предрассудками, смело сбрасывая постыдные оковы, которыми их пытаются поработить – лишь в этом случае, им удастся преодолеть сложившиеся мнения и привычки; люди, вкусившие свободу, станут мудрее, они тотчас ощутят, как несправедливо презирать тех, кто живет в согласии с требованиями природы – и тогда поведение, предосудительное в глазах народа порабощенного, перестанет казаться таковым в глазах народа освобожденного.
Исходи из законности этих принципов, Эжени, разрывай цепи, чего бы это ни стоило; наплюй на пустые угрозы своей глупой мамаши: согласно законам естества, ты не должна испытывать к ней никаких чувств – только ненависть и презрение. Отец твой – распутник; пожелает насладиться тобой – в добрый час, лишь бы он не пытался привязать тебя к себе; заметишь, что норовит закабалить тебя – разбивай это ярмо; множество девушек поступают так со своими отцами. Словом, блуди и еще раз блуди; именно для этого ты рождена на свет; пусть удовольствия твои не знают иных границ, кроме пределов собственных твоих сил и желаний; неважно, где, когда, с кем – любая свободная минута, любое место, любой партнер – всё должно быть поставлено на службу сладострастию; воздержание – недопустимая добродетель: ущемленная в своих правах природа мстит за него множеством бед. Пока сохраняются законы, подобные нынешним, наслаждаться приходится украдкой – к тому нас вынуждает общественное мнение; что ж – под покровом тайны с лихвой доберем то, чего мы лишены, целомудренно держась на людях.
Юной девушке следует подыскать наперсницу – свободную, светскую, и та поможет ей тайно вкушать наслаждения; за неимением таковой, пусть сама пытается соблазнить приставленных к ней бдительных стражей и уговорить их проституировать ее, суля им все деньги, которые они извлекут, приторговывая ею; очень скоро то ли сами стражи, то ли подобранные ими женщины, именуемые своднями, станут исполнять любые желания девушки; ей же надлежит пускать пыль в глаза окружающим: братьям, сестрам, родителям, друзьям; ради сокрытия истинного своего поведения, допустимо – в случае необходимости – отдаваться всем подряд, смело жертвуя своими вкусами и привязанностями; случается, неприятная интрижка, в которую она ввязывается лишь по расчету, выводит на другую, более приятную, глядишь – девушка продвинута. Но для этого нужно раз и навсегда распрощаться с детскими предрассудками; надо обращать в прах все угрозы, увещевания, наставления, презревать и долг, и религию, и добродетель. Надо упорно пресекать любые уловки, направленные на наше закрепощение, словом, надо избавляться от всего, что не нацелено на приобщение к бесстыдству.
Родители любят потчевать нас нелепыми россказнями о несчастьях, якобы подстерегающих на стезе разврата; на колючки можно наткнуться повсюду, но карьера порока позволяет добраться и до роз, расположенных над шипами; на грязных же тропинках добродетели природа вообще не взращивает роз. Единственный подводный камень, которого многие опасаются, вступая на первую из означенных дорог – это общественное мнение; однако любая мало-мальски разумная девица непременно возвысится над жалким этим мнением. От всеобщего почета, Эжени, испытываешь лишь моральное удовлетворение, представляющее ценность только для людей определенного склада; удовольствия же от любодейства нравятся всем, не говоря о том, что привлекательность сего занятия перевешивает неизбежное и незаслуженное презрение, на которое наталкиваются люди, осмелившиеся бросить обществу вызов; многие здравомыслящие женщины даже умудряются бравировать своей репутацией, извлекая из этого дополнительное наслаждение. Так что любодействуй, Эжени, любодействуй, мой дражайший ангел; тело твое в твоей власти; тебе одной принадлежит право полностью им распоряжаться, услаждая кого тебе угодно.
Пользуйся благоприятными ситуациями, лови момент – веселые года наших утех так скоротечны! В удел счастливицам, вволю насладившимся, достанутся прекрасные воспоминания, которые утешат их и скрасят им старость. А что выпадет на долю тех, кто упустил время?.. Душу им надорвут горестные мучительные сожаления, которые, вкупе со старческой немощью, слезами и терниями, отравят последние предсмертные их лета…
Быть может, ты одержима идеей заслужить бессмертие? Что ж, и в этом случае, моя милая, в памяти людей ты останешься лишь в звании блудницы. Лукрецию очень скоро позабыли, в то время, как Феодора и Мессалина – у всех на устах. Как же не предпочесть, Эжени, участь, которая, венчает нас цветами на этом свете и оставляет надежду и на будущее поклонение после смерти! Как же, повторяю, не предпочесть ее иной участи, обрекающей нас на жалкое прозябание в жизни земной и, по сошествии в могилу, не сулящей ничего, кроме презрительного забвения?
ЭЖЕНИ (госпоже де Сент-Анж). Ах! Бесценная моя, обольстительные твои речи воспламеняют мне и сердце, и голову! Я так взволнована, не передать словами… скажи, могла бы ты меня познакомить с какими-нибудь женщинами… (смущаясь), которые проституировали бы меня, если я их об этом попрошу?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. До тех пор, пока ты не наберешься опыта, Эжени, я одна обо всем позабочусь; доверься мне, а уж я приму меры предосторожности и прикрою твои прегрешения; желательно, чтобы первыми твоими мужчинами стали мой брат и наш надежный друг, поучающий тебя; после мы подыщем и других. Не беспокойся, крошка: я научу тебя порхать от услады к усладе, я окуну тебя в океан восторгов, ты будешь переполнена, пресыщена впечатлениями!
ЭЖЕНИ (бросаясь на шею госпоже де Сент-Анж). О, милая, как я тебя обожаю! Возьмись за меня – и не будет у тебя ученицы послушней. Но, если не ошибаюсь, ты только недавно говорила, что девушке, предающейся разврату, впоследствии трудно будет скрыть это от своего супруга?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Это правда, милочка, но не печалься – известны тайные средства, помогающие заштопать любые бреши. Я обязательно ознакомлю тебя с ними. И тогда, будь ты даже пробита вдоль и поперек, как Антуанетта, я берусь вернуть тебе девство, с которым ты пришла в этот мир.
ЭЖЕНИ. Ах, какая ты замечательная! Продолжай свои наставления. Теперь объясни мне, коль об этом зашла речь, как следует себя вести женщине замужней.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Запомни, дорогая, каким бы ни было семейное положение женщины, будь она девица, дама или вдова – не существует для нее иной цели, иной работы и иного желания, кроме занятий любовью с утра и до вечера. Именно для этого она создана природой. Для исполнения главного предназначения женщины от нее требуется: попирать ногами детские предрассудки, проявлять категорическое неповиновение родительским наказам, непоколебимо презирать наставления близких, еще важнее всего перечисленного, решение женщины покончить с первейшими из пут – путами брака.
Ты только представь, Эжени, как юную особу, едва покинувшую отчий дом или пансион, не имеющую ни малейшего жизненного опыта, внезапно вынуждают перейти в объятия мужчины, которого она ни разу не видела прежде, и обязывают у подножия алтаря поклясться этому человеку в послушании и верности, что само по себе бесчестно, поскольку, в глубине души она горячо желает нарушить данное слово. Что в мире страшнее такой участи, Эжени? И вот, она связана обязательствами независимо от того, нравится ей муж или нет, нежен он с ней или груб; долг чести требует соблюдения верности, нарушь она клятву – репутация её запятнана; выходит, женщина либо обесчещена, либо до конца дней тащит на себе ярмо брачной жизни, сколь бы мучительным оно ей ни казалось. Ну уж нет, Эжени! Не для такого финала мы рождены; не пристало нам подчиняться дурацким законам, выдуманным мужчинами. Ты спросишь, а спасет ли нас развод? Никоим образом. Кто поручится за то, что во втором брачном союзе мы обретем счастье, ускользнувшее от нас в первом супружестве? Раз уж мы вынуждены терпеть бессмысленные эти узы – возместим свои утраты втайне, и не тревожься: шалости наши, сколь бы далеко они ни простерлись, не нанесут вреда природе, став лишь искренней данью уважения к ней; следовать законам природы – значит уступать желаниям, которые она в нас вложила; и оскорблением для природы явилось бы именно противление ее замыслам. Мужчины расценивают супружескую измену, как преступление, доходя до того, что карают неверных жен лишением жизни, хотя адюльтер, Эжени, есть не что иное, как погашение долга перед природой, и мы не позволим этим тиранам самовольно лишать нас естественного нашего права. «Разве не отвратительно поступают жены, – вопрошают наши мужья, – подставляя под отеческие заботы и ласки плоды своего распутства?» Таков довод Руссо. Это, пожалуй, единственное сколько-нибудь правдоподобное возражение против адюльтера. Но ведь это проще простого – предаваться разврату, не подвергая себя риску беременности! Ничуть не труднее избавляться от ее последствий, если все же допущена оплошность. Впрочем, к данному предмету мы еще вернемся, так что сейчас коснемся лишь сути. И тогда станет очевидным, насколько несостоятелен аргумент, вначале показавшийся правдоподобным.
Итак, пока я сплю с мужем, пока его семя проливается в глубь моей матки – пусть в этот же период я встречаюсь еще с десятью мужчинами на стороне – никто и ничто ему не докажет, что появившееся на свет дитя ему не принадлежит; ребенок либо от него, либо от кого-нибудь другого, и даже в случае неуверенности, муж (раз он принимал участие в зачатии означенного существа) не вправе колебаться и должен признать его своим. Дитя, способное произойти от мужа, принадлежит мужу, и всякий, кто терзается сомнениями на сей счет, обречен на вечные муки, будь он женат хоть на весталке, ибо нельзя поручиться ни за какую женщину: десять лет являя собой образец добропорядочности, она в одночасье перестает быть таковой. Словом, подозрительный супруг всегда найдет повод для подозрений и никогда не обретет уверенности, что обнимает собственного своего ребенка. А коли так – вполне допустимо, время от времени, подтверждать на деле мужнины догадки: сие ничто не изменит в его поведении и не сделает его ни счастливей, ни несчастней. Предположим, мужа действительно ввели в заблуждение: он холит и лелеет плод распутства своей жены. В чем, собственно, состав преступления? Разве у супругов не общее имущество? А в таком случае, совершаю ли я зло, вводя ребенка в семью, где ему по праву принадлежит часть нашего общего добра? Ребенок будет пользоваться моей долей, ничего при этом не украв у дражайшего супруга; то, что достанется малышу, я рассматриваю, как вступление во владение моим приданым; то есть, оба мы ни в чем не ущемляем интересов мужа. Будь ребенок законным, на каком основании он претендовал бы на часть моего состояния? Не в силу ли того, что произошел он от меня? А значит, на том же основании, с полным правом пользуется материнской долей имущества и ребенок, родившийся от интимной связи. Так или иначе, я предоставляю часть своих богатств тому ребенку, который принадлежит мне.
В чем меня упрекают? Ребенок ничем не обделен. «Но ведь вы изменяете мужу, лицемерие ваше чудовищно». – Ничего подобного, я просто возвращаю долги; он первый меня одурачил, насильно заковав в брачные цепи: вот я и мщу, чего же проще?
«Вы наносите ощутимый ущерб своему супругу, не дорожите его честью». – Отживший предрассудок! Беспутство мое никак не затрагивает мужа; мои прегрешения – мое личное дело. А так называемое бесчестье – понятие столетней давности, в наши дни пора отделываться от этой иллюзии, так что супруг мой обесчещен моим развратом ничуть не больше, чем я – его собственным. Да отдайся я хоть всем мужчинам земли – на муже моем не будет ни царапинки! Следовательно, пресловутый ваш «ущерб» – пустой вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Одно из двух: либо супруг мой грубиян и ревнивец, либо – человек деликатный; в первом случае, лучшее, что я в силах придумать – отомстить за дурное обхождение; во втором – я нисколько не огорчу своего супруга, ибо буду вкушать наслаждения, отчего он, как человек благородный, будет только счастлив: натура деликатная, несомненно, порадуется блаженству, испытываемому любимым существом.
«А если вы любите мужа, неужели вы согласитесь, чтобы и он поступал так же»? – Ах, горе той женщине, которая заберет себе в голову ревновать своего мужа! Если она его любит – пусть довольствуется тем, что он ей дает, не оказывая на него никакого давления; ничего не добившись, она вызовет с его стороны только ненависть. Будь жена благоразумна – ее не удручит распутство мужа. Если он последует ее примеру – в семье воцарится мир и согласие.
Подведем итоги: положим, адюльтер завершается введением в дом детей, не принадлежащих мужу – в любом случае, это дети жены, а значит, они обладают неоспоримыми правами на часть ее приданого; если муж осведомлен, он должен рассматривать их, как детей от первого ее брака; если он ни о чем не догадывается, то не почувствует себя несчастным, ибо нераскрытое зло не способно причинить страдание; если адюльтер не имеет последствий и неизвестен мужу, никакой юрисконсульт не докажет здесь состава преступления; и тогда супружеская неверность оказывается совершенно безразличной для мужа, ничего о ней не ведающего, и чрезвычайно приятной для жены, которая ею наслаждается; если муж обнаруживает супружескую измену, то злом представляется вовсе не адюльтер – только что мы выявили, что он, по сути, таковым не является – а его обнаружение, то есть природа адюльтера в обоих случаях неизменна, и зло заключено лишь в факте его раскрытия обманутым супругом; выходит, вина падает исключительно на самого мужа: жена тут ни при чем.
Сторонников осуществляемых в прежние времена суровых наказаний за супружескую измену можно смело назвать палачами, тиранами и ревнивцами, пекущимися исключительно о себе и несправедливо полагающими, что женщина, осмелившаяся их задеть, тотчас становится преступницей – будто личная обида непременно должна расцениваться как преступление – хотя, по правде говоря, безосновательно провозглашать преступными действия, не наносящие вреда ни природе, ни обществу, а, скорее, наоборот, идущие им на пользу. Ничуть не более предосудителен и легко обнаруживаемый адюльтер, когда, например, супруг – импотент, либо приверженец вкусов, препятствующих размножению. У женщины возникают дополнительные неудобства, поскольку гулящей жене – при муже, не способном на нормальное семяизвержение – нелегко скрыть свое распутство. Но должно ли это ее смущать? Нет, разумеется. Просто следует позаботиться о том, чтобы не забеременеть и вовремя вытравить плод, если меры предосторожности не сработают. Порой пренебрежение мужа обусловлено его противоестественными вкусами – тогда мудрая жена возместит нанесенный ей урон. Сначала удовлетворит мужа, какими бы отвратительными ни казались его капризы; затем даст понять, что подобная любезность заслуживает особого вознаграждения, и, в уплату за свои услуги, потребует полной свободы. Муж либо согласится, либо нет; если согласится, как поступил мой супруг – даешь себе полную волю, удваивая заботы о нем и снисходительность к его причудам; откажется – преспокойно блудишь, сгущая покров тайны. Муж импотент? Проживаешь с ним раздельно, не отказывая себе ни в чем. В общем, блудишь независимо ни от чего, моя милая, ибо мы созданы для блуда – исполним же предначертания нашего естества и удостоим презрения всякий закон человеческий, противоречащий законам природы.
До чего глупа женщина, которую бессмысленные путы брака удерживают от следования своим склонностям, которая страшится всего на свете: беременности, оскорбления мужниной чести или, что еще хуже, пятна на своей репутации! Ведь ты уже убедилась и почувствовала, Эжени, какая она, право, идиотка, раз столь бездарно, в угоду нелепым предрассудкам, разрушает и счастье свое, и наслаждение. Ах, лучше бы эта дура отдавалась направо и налево! Крупица ложной славы, пустые надежды на рай – ничтожная плата за ее жертвы.