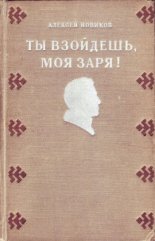Мотылек Шарьер Анри
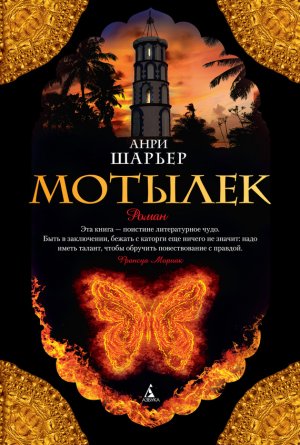
Тетрадь первая
Вниз по сточной канаве
Суд присяжных
Удар потряс. Его сокрушительная сила не давала мне прийти в себя долгих тринадцать лет. Это был не просто удар, а избиение. Били все разом, будто боялись, что не получу все сполна.
На календаре 26 октября 1931 года. Восемь утра. Меня выводят из тюремной камеры Консьержери, – камеры, которую я «обживал» уже почти год. Я тщательно выбрит и безупречно одет. Предстал перед ними, словно с картинки: сшитый по мерке костюм, белоснежная рубашка, бледно-голубой галстук-бабочка в довершение портрета.
Мне исполнилось двадцать пять, но выглядел я на двадцать. Жандармы, явно под впечатлением моего шикарного костюма, вели себя учтиво. С меня даже сняли наручники. И вот все шестеро, я и пять жандармов, сидим на двух скамьях в пустой комнате. За окном мрачное небо. Дверь напротив ведет, должно быть, в зал заседаний, ведь мы находимся во Дворце правосудия департамента Сена в Париже.
Пройдет какое-то время – и мне предъявят обвинение в умышленном убийстве. Мой адвокат, мэтр Рэймон Юбер, вышел ко мне: «Против нас нет веских улик, надеюсь, нас полностью оправдают». Это «нас» заставило меня улыбнуться. Можно было подумать, что мэтр Юбер собирался сесть на скамью подсудимых вместе со мной и если суд признает меня виновным, то и ему придется отбывать свой срок.
Пристав открыл дверь, приглашая всех войти. В окружении четырех жандармов и сержанта сбоку я вступил через широкий проем дверей в огромный зал суда. Присутственное место сплошь отделано красным, кроваво-красным цветом. Очевидно, для усиления удара, чтобы красные искры посыпались из глаз. Ковры красные, шторы на окнах красные, даже судьи в красных мантиях – это им предстоит через минуту-другую разделаться со мной.
– Господа, суд идет!
Из двери справа друг за другом появились шесть человек: председатель суда и пять судей – все, как один, в судейских шапочках. Председатель остановился у своего стула посередине, а его коллеги разобрались по бокам справа и слева. В зале воцарилась тягостная тишина. Все стояли, включая и меня. Суд занял свои места, все остальные тоже.
Председатель, полнолицый, розовощекий, с холодным взглядом человек, прямо смотрел на меня, но ничто не выдавало его чувств. Его звали Бевен. Пока все шло своим чередом, он вел процесс беспристрастно, ясно давая понять всем и каждому, что, как профессиональному юристу, ему не приходится полагаться на справедливость показаний свидетелей и честность полиции. Нет, это не его вина, что он вынужден отвесить мне оплеуху.
Имя прокурора – Прадель. Его боялись все адвокаты. За ним закрепилась дурная слава человека, больше всех отправившего людей на гильотину и в тюрьмы как в самой Франции, так и на заморских ее территориях.
Прадель стоял на защите интересов общества. Он был государственным обвинителем, в нем ничего не было просто от человека. Он представлял Закон, весы правосудия; именно он управлял этими весами, и именно он сделает все возможное, чтобы чаша весов склонилась в его сторону. Сквозь опущенные веки глаза стервятника, ощущающего свое превосходство, сверлили меня насквозь. С высоты кафедры и своего внушительного роста он, словно башня, нависал надо мной. Прокурор не снял красной мантии, но шапочку положил перед собой. Подавшись вперед, он перенес тяжесть тела на мощные мясистые руки. Прадель был женат, на что указывало золотое кольцо. Было и другое – на мизинце – из отшлифованного до блеска подковочного гвоздя.
Он подался еще немного вперед, чтобы уж полностью подавить меня. Весь его вид как бы говорил: «Если ты думаешь, что сможешь выпутаться, молодой петушок, то глубоко заблуждаешься. Мои руки, может, и не похожи на когти, но зато я вырастил когти в сердце, и они готовы растерзать тебя на куски. Почему меня боятся адвокаты? Почему у судей я прослыл роковым прокурором? Да потому, что я никогда не упускаю свою добычу. Меня не касается, виновен ты или нет: я здесь для того, чтобы обратить против тебя все – и твою скандальную, беспутную жизнь на Монмартре, и сфабрикованные полицией свидетельства, и показания самих полицейских. Моя задача – распорядиться всей этой отвратительной грязью, собранной следствием, и вымазать тебя так, чтобы у присяжных не оставалось другого желания, кроме как поскорее оградить от тебя общество». То ли мне это чудилось, то ли я действительно все отчетливо слышал, но этот людоед меня потряс. «Подсудимый, не возникай. И не пытайся защищаться. Будь уверен, я спущу тебя в сточную канаву. Может, ты веришь присяжным? Не будь ребенком. Что они знают, эти двенадцать человек, о твоей жизни? Ничего ровным счетом. Посмотри на них. Вон они сидят напротив. Двенадцать ублюдков, доставленных в Париж из какого-то захолустья; ты хорошо их видишь? Мелкие лавочники, пенсионеры, торговцы. Не стоит описывать их подробно. Неужели ты думаешь, что они поймут твою жизнь на Монмартре? Или что такое двадцать пять лет? Для них Пигаль и Плас-Бланш точно такие же естественные враги общества, как ад и „ночные бабочки“. Нет слов, они гордятся собой. Еще бы – заседают в суде присяжных Сены. Но более всего, поверь мне, они ненавидят свое низкое общественное положение – свою принадлежность к материально стесненному и отчаянно скучному среднему сословию. И вот ты перед ними в полном блеске, да еще молод и красив. Неужели ты не задумывался, хотя бы на миг, что я выставлю тебя перед ними донжуаном, хищником с ночного Монмартра? И они решительнейшим образом настроятся против тебя. Ну ты и разоделся! А ведь следовало бы как раз наоборот – поскромнее, даже очень скромно. Это твоя большая тактическая ошибка. Посмотри, как они завидуют твоему костюму. Ведь они одеваются с вешалки. Они даже и мечтать не могут о том, чтобы пошить костюм у портного».
Десять часов. Все готово для начала суда. Передо мной шесть официальных судей и среди них жестокий главный обвинитель, собравшийся употребить всю силу и профессиональную изощренность Макиавелли, чтобы убедить двенадцать простаков в том, что я прежде всего виновен, а следовательно, заслуживаю единственного приговора – каторжные работы или гильотина.
Я обвиняюсь в убийстве сводника, осведомителя полиции со «дна» Монмартра. Улик не было, но фараоны (им верят всякий раз, когда они находят преступника) твердо стояли на своем. Видя, что доказательств нет, они сослались на «конфиденциальную» информацию, чем устранили всякие сомнения. Козырной картой в руках обвинения был свидетель наподобие граммофонной пластинки, изготовленной и заигранной в полицейском участке по набережной Орфевр, 36. Этого парня звали Полен. Когда я снова и снова стал повторять, что не знаю этого человека, председатель очень спокойно спросил:
– Вы говорите, что свидетель лжет. Хорошо. Но зачем ему лгать?
– Месье председатель, я провел много бессонных ночей со дня ареста, но вовсе не из-за угрызений совести по поводу убийства Коротышки Ролана. Я его не убивал. А потому, что все пытался понять, что движет этим свидетелем, нападающим на меня с такой яростью и дающим в поддержку обвинения все новые и новые факты каждый раз, когда прежние оказываются недостаточно убедительными. Я пришел к заключению, месье председатель, что полиция прихватила его на серьезном преступлении и совершила с ним сделку, – дескать, мы тебе это спустим с рук, а ты уж постарайся очернить Папийона[1].
В то время я и не представлял, что был так близок к истине. Спустя несколько лет Полен, сейчас проходивший в суде свидетелем как честный человек без преступного прошлого, был арестован и осужден за торговлю наркотиками.
Мэтр Юбер пытался меня защищать. Но разве он мог тягаться с прокурором! Мэтр Буфе – единственный, кто с чистосердечным негодованием вступил в борьбу, но ненадолго. Искусство Праделя и здесь оказалось на высоте. Более того, он польстил присяжным, которых так и распирало от гордости: как же, эта внушающая страх личность обращалась к ним как к равным и как к коллегам.
К одиннадцати вечера шахматная партия закончилась. Мои защитники получили мат. А меня без вины признаи виновным.
В лице Праделя, государственного обвинителя, общество пожизненно вычеркивало из своей среды двадцатипятилетнего молодого человека. Без всякого снисхождения, большое спасибо! Председатель суда Бевен угостил меня блюдом по первому разряду.
– Подсудимый, встаньте, – произнес он бесстрастно.
Я встал. В зале суда наступила полная тишина. Люди затаили дыхание, мое сердце забилось быстрее. Некоторые присяжные наблюдали за мной, другие наклонили головы и, казалось, испытывали чувство стыда.
– Подсудимый, поскольку суд присяжных согласился со всеми пунктами обвинения, за исключением преднамеренности, вы приговариваетесь к каторжным работам пожизненно. У вас есть что сказать?
Я не дрогнул, держался естественно, только крепче сжал поручень перегородки, за который ухватился.
– Да, месье председатель! Я хочу сказать одно – я действительно невиновен. Я жертва дела, сфабрикованного полицией.
До слуха донесся шепот из рядов для высокопоставленных особ. Там сидели несколько женщин, одетых со вкусом. Не повышая голоса, я сказал им:
– Заткнитесь, вы, дамы в жемчугах. Вам захотелось грязи, и душещипательной. Фарс окончен. Убийство состряпала ваша хитроумная полиция и ваша система правосудия. Вы должны быть довольны.
– Стража, – сказал председатель, – уведите осужденного.
Перед тем как исчезнуть со сцены, я услышал обращенный ко мне голос:
– Не печалься, милый! Я тебя найду!
Это кричала моя храбрая, великолепная Ненетта. Всю свою любовь она вложила в этот крик. В помещении суда раздались аплодисменты. Хлопали мои друзья из того мира, где я вращался. Они-то прекрасно знали, как расценивать это убийство, и таким вот образом выказывали мне свои чувства и уважение за то, что я ничего не выдал и ни на кого не перекладывал вины.
Как только мы снова оказались в маленькой комнате, в которой находились до суда, жандармы надели на меня наручники, а один из них соединил мое правое запястье со своим левым короткой цепью. Я попросил закурить. Сержант молча протянул мне сигарету и поднес огонь. Я стоял, время от времени поднимая и опуская руку, и жандарм вынужден был повторять мои движения.
И так, пока я не выкурил три четверти сигареты. Никто не проронил ни слова. Опять же я первый посмотрел на сержанта и сказал: «Пошли».
В окружении дюжины жандармов я спустился по лестнице во внутренний двор. «Черный ворон» уже ждал. В фургоне не было перегородок: человек десять расселись друг против друга. Сержант сказал: «Консьержери».
Консьержери
Подъехав к этому последнему замку королевы Марии-Антуанетты, жандармы передали меня старшему тюремному надзирателю. Тот подписал бумагу – расписку в получении. Жандармы удалились, не проронив ни слова, и только сержант на прощание потряс мне руки, заключенные в наручники. Поразительно!
Старший надзиратель обратился ко мне:
– Сколько дали?
– Пожизненно.
– Это правда? – Он посмотрел на жандармов и убедился, что правда. Пятидесятилетний надзиратель, многое повидавший на своем веку и подробно знавший о моем деле, счел уместным заметить:
– Ублюдки! Они, должно быть, все посходили с ума!
Осторожно сняв наручники, он выказал добросердечие к узнику, лично доставив меня в камеру, обитую войлоком. Такие камеры отводились специально для смертников, психбольных, очень опасных преступников и приговоренных к каторге.
– Не унывай, Папийон, – сказал он, закрывая за собой дверь. – Мы пришлем твои вещи и что-нибудь поесть. Держись!
– Спасибо, начальник. Со мной все в порядке, будьте уверены. Они еще подавятся своей долбаной пожизненной каторгой.
Через несколько минут за дверью послышалось царапанье.
– В чем дело? – спросил я.
– Ничего, – ответил голос за дверью. – Прикрепляю табличку.
– Зачем? Что на ней?
– «Пожизненная каторга. Особый надзор».
Сумасшедшие, подумалось мне, неужели они и в самом деле полагают, что этот камнепад, обрушившийся мне на голову, подведет меня к мысли о самоубийстве? Я не робкого десятка и таким останусь всегда. Я еще поборюсь со всеми и против всех. И начну с завтрашнего же дня.
На следующий день за кружкой тюремного кофе я стал размышлять о смысле подачи апелляции. Есть ли резон? Стоило ли рассчитывать на большее везение в новом судебном процессе? А сколько это может продлиться… и без толку? Год? Может быть, полтора? А результат – заменят пожизненный срок на двадцать лет?
Поскольку я настроился на побег, срок уже не имел значения: я вспомнил, как однажды один приговоренный к пожизненной каторге обратился к судье: «А скажите, месье, сколько лет во Франции длится пожизненная каторга?»
Я ходил взад и вперед по камере. Послал утешительную телеграмму жене, другую – сестре, она одна из всех вступилась за брата. Все кончено. Занавес опущен. Мои родные и близкие вынуждены страдать больше, чем я. И в далекой деревне отцу тяжело будет нести выпавший на его долю крест.
Вдруг я чуть не задохнулся от одной мысли: да я же невиновен! И в самом деле невиновен. Но для кого? Да, для кого я невиновен? И сам себе ответил: лучше спрятать язык в задницу, чем разглагольствовать о своей невиновности. Хочешь стать всеобщим посмешищем? Схлопотать пожизненную каторгу за какую-то «шестерку», а потом утверждать, что не ты его отправил на тот свет? Да это же курам на смех! Лучше помалкивай в тряпочку.
Все то время, пока я в ожидании судебного процесса находился в тюрьмах Сант и Консьержери, мне ни разу не приходило в голову, что я могу получить такой приговор, поэтому я понятия не имел и даже не задумывался, что такое быть «спущенным в сточную канаву».
Ладно. Прежде всего надо связаться с теми, кто уже получил такой приговор и не прочь удариться в бега. Они могут составить мне компанию. Выбор пал на Дега, парня из Марселя. Конечно же, я встречу его в парикмахерской. Он ходит туда бриться каждый день. Я тоже попросился. И точно: когда я вошел, он уже стоял, повернувшись носом к стене.
Я видел, как он перепускает другого арестанта, чтобы самому подольше задержаться в очереди. Я тут же встал за ним, оттерев кого-то в сторону. Быстро прошептал:
– Как дела, Дега?
– Порядок, Папи. Пятнадцать лет. А у тебя? Слышал, намотали на полную катушку?
– Да. На всю жизнь.
– Собираешься обжаловать?
– Нет. Надо хорошо жрать да беречь здоровье. Копи силы, Дега. Нам еще пригодятся крепкие мускулы. Ты заряжен?
– Да. Десять «рябчиков»[2] в фунтах стерлингов. А ты?
– Нет.
– Советую: заряжайся, и побыстрее. У тебя адвокат кто, Юбер? Да он же, хрен собачий, никогда не решится пронести в камеру гильзу. Пошли жену изготовить ее у Данта. Да пусть хорошо набьет ее «пыжом». Потом пусть отнесет Доминику Богачу. Даю слово, что гильза до тебя дойдет.
– Тсс… Багор следит за нами.
– Итак, мы решили немножко поболтать? – вмешался надзиратель.
– Так, пустяки, – сказал Дега. – Он говорил, что плохо себя чувствует.
– А что с ним? Присяжные колики? – И толстозадый надзиратель чуть не задохнулся от хохота.
Такая вот наступила жизнь. Меня уже тащило вниз по сточной канаве. Я оказался в том месте, где воют от смеха, где могут отмачивать шуточки по адресу двадцатипятилетнего парня, приговоренного к пожизненному сроку.
Я получил гильзу. Это был прекрасно сработанный и отполированный алюминиевый цилиндр, развинчивавшийся точно посередине. Одна половина наворачивалась на другую. Внутри оказалось пять тысяч шестьсот новеньких франков. Когда он был передан мне, я поцеловал его. Да, поцеловал этот патрон длиной около шести сантиметров и толщиной с большой палец, прежде чем загнать в анальный проход. Сделал глубокий вдох, чтобы точно попасть в прямую кишку. Теперь это мой сейф и мои сбережения. Меня могут раздеть, заставят раздвинуть ягодицы, прикажут кашлять и перегибаться надвое, но никогда не узнают, что у меня внутри. Заряд сел глубоко в толстом кишечнике. Теперь он – часть меня самого. Это моя жизнь, и свобода, и тропинка к мести. Я решительно настроил себя на месть. Я ни о чем не думал кроме мести.
За стенами тюрьмы темно. Я в камере-одиночке. Яркий свет под потолком позволяет надзирателю следить за мной через небольшой дверной глазок. Свет до боли режет глаза. Я накрываю их сложенным в несколько раз носовым платком. Лежу на матраце, на железной кровати без подушки. В голове проносятся ужасные подробности судебного процесса.
В этой части рассказа я буду, возможно, несколько утомителен, но иначе нельзя понять все остальное в этой длинной истории, нельзя досконально объяснить, что поддерживало меня в борьбе. Я должен именно сейчас рассказать о том, что творилось у меня в душе, какие мысли лезли в голову, каким образом разворачивались события в первые дни перед глазами человека, погребенного заживо.
Что буду делать после побега? Имея в распоряжении гильзу, я ни секунды не сомневался в его осуществлении. Прежде всего, и поскорее, надо вернуться в Париж. Первым убью лжесвидетеля Полена. Затем двух фараонов, состряпавших дело. Двумя полицейскими не обойдешься: следует прихлопнуть побольше. Всех к чертовой матери! Или как можно больше. О, появилась толковая идея! Как только вырвусь на свободу – сразу в Париж с чемоданом взрывчатки. Полным чемоданом – сколько влезет. Десять, пятнадцать, двадцать кило. Сколько же надо? Начинаю лихорадочно соображать, сколько потребуется взрывчатки, чтобы побольше прикончить.
Динамит? Нет, лучше шеддит. А почему не нитроглицерин? Верно. Надо посоветоваться со сведущим народом, разбирающимся лучше меня в этих вопросах. Но фараоны пусть не обольщаются: я им принесу столько, сколько надо.
Продолжаю лежать с закрытыми глазами, носовой платок помогает. Ясно вижу чемодан, с первого взгляда такой невинный, а на самом деле напичканный взрывчаткой. И часовой механизм, четко установленный на время, когда сработает детонатор. Внимание: взрыв произойдет в десять утра в зале совещаний криминальной полиции на втором этаже на набережной Орфевр, 36. В этот момент там соберется полтораста полицейских, не меньше, для инструктажа и получения нарядов. Сколько ступенек наверх надо пробежать? Тут нельзя ошибиться.
Следует четко определить время, достаточное, чтобы пронести чемодан с улицы к месту взрыва, – рассчитать все до секунды. А кто понесет чемодан? Придется их обвести вокруг пальца! Я подгоню машину прямо к двери здания криминальной полиции и скомандую двум шалопаям на часах у входа: «Отнесите этот чемодан в зал совещаний. Я скоро прибуду. Передайте комиссару Дюпону, что он от главного инспектора Дюбуа. Я поднимусь вслед за вами».
Но захотят ли они повиноваться? А что, если среди всех этих идиотов именно двое окажутся с мозгами? Не подходит. Надо придумать что-то другое. Снова и снова прокручиваю варианты. Где-то в глубине сознания я убежден, что удастся найти оптимальное решение.
Встал с кровати попить воды. От размышлений разболелась голова. Снова лег, уже не прикрывая глаза. Медленно тянулись минуты. Боже мой, этот проклятый свет! Смочил платок – и снова на глаза. Холодная вода успокаивала. Отяжелевший платок плотнее прикрывал веки. С сегодняшнего дня так и буду делать.
Те долгие размышления, когда я вынашивал план будущей мести, так живо запечатлелись в моей памяти, что, казалось, сама месть органично вплелась в реальную ткань событий и осуществлялась точно по задуманному сценарию. Все ночи напролет, а иногда и днем я носился по Парижу, будто мой побег действительно удался. Уже не было и тени сомнения, что побег может не удаться и я не вернусь в Париж. Разумеется, прежде всего я рассчитаюсь с Поленом, а за ним – с фараонами. А что делать с присяжными? Неужели оставить в покое этих ублюдков? Должно быть, они, эти безмозглые выродки, вернулись домой очень довольные от сознания выполненного долга – Долга с большой буквы «Д»! Поди ж как они важничают перед соседями и своими непричесанными женами, разогревающими для них суп!
Хорошо. Что же делать с присяжными заседателями? Да ничего. Это несчастные, забитые недоумки. Разве они годятся в судьи? Если один из них отставной жандарм или таможенник, так он и действует, соответственно, как жандарм или таможенник. А если молочник, так он и ведет себя как любой темный торгаш в мелочной лавке. Они были заодно с прокурором, а как же иначе? Разве ему трудно сбить их с толку? Они действительно не в ответе. Решено: им я не причиню никакого вреда.
По мере того как я записываю эти мысли, так живо рисовавшиеся мне в те далекие годы и сейчас вновь нахлынувшие с такой ужасающей ясностью, я вспоминаю, какой гнетуще непроницаемой должна быть тишина и каким полным одиночество, чтобы заставить жить воображением молодого человека, очутившегося в тюремной камере. Такая жизнь доводит до сумасшествия. Она раздваивает человека. Она дает ему крылья и заставляет блуждать в мире желаний. Дом, отец, мать, семья, детство – нет такого уголка в цепи лет, куда он не мог бы заглянуть. А еще воздушные замки, с такой невероятной живостью возникающие в его богатом воображении, что он начинает верить, что все это происходит не в мечтах, а наяву.
Тридцать шесть лет пролетело, но до сих пор мне не составляет труда восстановить все, что запечатлелось в моей памяти в тот момент.
Нет. Я и членам суда не причиню никакого вреда, продолжает писать перо. А как насчет главного обвинителя? Любой ценой его нельзя упустить. Во всяком случае, для него и рецепт готов, прямо из Александра Дюма. Точь-в-точь как в романе «Граф Монте-Кристо» о том парне, отправленном в подземелье подыхать с голоду.
Да, прокурор мне за все ответит. Стервятник в красной мантии. Я предам его самой ужасной смерти – он того заслуживает. Да, именно так и сделаю: после Полена и фараонов все свое время посвящу тому, чтобы разделаться с этим ползучим гадом. Сниму виллу. Надо, чтобы там обязательно был глубокий погреб с толстыми стенами и крепкой дверью. Если дверь окажется недостаточно толстой, я сделаю ее звуконепроницаемой с помощью матов и пакли. Заимев виллу, я буду следовать за ним как тень, а затем захвачу. В стене уже готовы кольца – и я тут же сажаю его на цепь. А теперь поглядим, у кого из нас будет повод повеселиться.
Вот он сидит прямо передо мной. Сквозь опущенные веки я вижу его с необычайной четкостью. Да, гляжу на него так же, как он смотрел на меня в суде. Сцена получалась натуральной: я чувствую, как он дышит мне в лицо, ощущаю даже тепло его дыхания. Мы сидим лицом к лицу, почти касаясь друг друга. В ястребиных глазах, ослепленных ярким, идущим сверху светом мощной лампы, затаился страх. Я делаю так, что он весь в фокусе бьющего луча. Крупные капли пота катятся по его красной и опухшей физиономии. Я слышу свои вопросы и слушаю его ответы. Я как будто снова переживаю тот момент.
– Узнаешь меня, сволочь? Я Папийон. Папийон – парень, которого ты с такой легкостью упек до конца дней за решетку. Ты годами корпел над своими книгами, чтобы стать высокообразованным; ночами просиживал над римским правом и прочей чепухой; учил латынь и греческий, себя не жалел, чтобы стать краснобаем. Стоило ли этим заниматься? Куда это тебя привело, жалкий ты выродок? Зачем все это было тебе? Для какой цели? Для новых, достойных человека законов? Для того, чтобы убеждать людей, что мир на земле – самая приятная штука? А может, для разрешения философских проблем, связанных с ужасными заблуждениями человечества на религиозной почве? Уж не для того ли, чтоб авторитетом высшего образования убедить людей стать лучше или хотя бы добрее? Скажи мне, как ты распорядился своими знаниями: во спасение утопающих или во имя их утопления? Ты не помог ни единой душе, тобой руководила только амбиция! Выше! Выше! Еще выше по ступенькам своей вшивой карьеры. Лучший поставщик каторжных поселений, превосходный фуражир палача и гильотины – вот твоя слава. Если бы Дейблер[3] имел чувство благодарности, он доставлял бы тебе каждый раз к Новому году ящик лучшего шампанского. Не из-за тебя ли, грязный сучий сын, он снес лишних пять-шесть голов в этом году? Но все-таки ты мне попался. Хорошо ли тебе на цепи у стены? Я даже помню твою усмешку и торжествующий взгляд, когда зачитывался приговор после твоей обвинительной речи. Словно все было вчера, а ведь прошли годы. Сколько? Десять лет? Двадцать?
Но что со мной? Почему десять лет? Почему двадцать? Возьми себя в руки, Папийон, ты молод, силен, у тебя пять тысяч шестьсот франков в заднем проходе. Два года – да. Два года из пожизненного срока – и не больше. Клянусь.
Хватит, Папийон, ты сходишь с ума. От тишины в камере-одиночке поневоле спятишь. Кончились сигареты. Вчера ты выкурил последнюю. Надо походить. Не все же время смотреть на мир закрытыми глазами, да к тому же через носовой платок. Верно. Я на ногах. Вся камера от двери до стенки неполных четыре метра – пять коротких шагов. Я хожу, заложив руки за спину. И продолжаю прерванный разговор.
Так вот, как было сказано, я хорошо вижу твою торжествующую улыбку и уж постараюсь, чтобы она сменилась жалкой гримасой. Все же тебе сейчас легче, чем было мне. Я не мог кричать, а ты можешь. Кричи, сколько тебе влезет. Кричи громче, если хочешь. Что мне с тобой делать? Помнишь, как у Дюма? Дать тебе сдохнуть с голоду? Нет! Этого мало. А как ты отнесешься, если для начала я выколю тебе глаза? Ты еще торжествуешь, не так ли? Ты полагаешь, что, если я выколю тебе глаза, ты окажешься в выигрыше. Вот как? Ты не будешь видеть меня, а я лишусь удовольствия видеть ужас в твоих глазах. Да, ты прав. Не буду выкалывать. По крайней мере, пока. Оставим на потом. Отрежу тебе язык, хоть и остер он у тебя, как нож, вернее, как бритва. Ты его превратил в проститутку ради блестящей карьеры. Как он нежно лепетал с женой, детишками, девочкой-подружкой! Девочкой? Мальчиком, скорее всего. Очень похоже. Кем тебе еще быть, как не потертой подстилкой? То-то! Начнем с языка, поскольку он наделал вреда ничуть не меньше, чем твоя башка. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты преуспел в том, что убедил судей поддакивать тебе. Ты так выгораживал фараонов, что те и взаправду поверили, будто преданно и неукоснительно следуют своему долгу. Ты проделал все так здорово, что те двенадцать выродков приняли меня за самого опасного человека в Париже. Не окажись у тебя этого лживого, искусного языка, поднаторевшего в искажении истины и передергивании фактов, я бы и теперь сидел себе на террасе «Гран-кафе» на Плас-Бланш и никуда бы не двинулся. Итак, решено: тебе следует вырвать язык немедленно. Но чем?
Хожу, хожу, хожу. Кружится голова, но мы так и остаемся лицом к лицу. Вдруг погас свет, и очень слабый луч зардевшегося дня скользнул в камеру через окно с деревянным переплетом.
Что? Уже утро? Неужто целую ночь провел я наедине со своей местью? Какие прекрасные часы! Как быстро пролетела эта долгая-долгая ночь!
Сидя на кровати, я стал прислушиваться. Ничего. Полная тишина. Только время от времени раздается легкий щелчок за дверью. Это надзиратель в тапочках, чтобы не делать шума, отодвигает небольшую металлическую пластинку и, приникая к глазку, наблюдает за мной. Я его не вижу.
Государственная машина, придуманная Французской республикой, собиралась отработать второй такт. Она шла великолепно: с первого захода напрочь стирала человека, который мог оказаться для нее досадной помехой. Но это еще не все. Человеку непозволительно умереть слишком быстро: самоубийство как средство спасения недопустимо. Он нужен машине. Где бы оказалась тюремная обслуга, не будь осужденных? В дерьме! Поэтому за человеком требуется надзор. Его следует отправить живым в места заключения, где за его счет будет жить еще больший штат государственных служащих. Снова слышу щелчок, вызывающий у меня улыбку.
Не волнуйся, милок, не убегу. Не бойся, не порешу себя. Мне бы только добраться живым до Французской Гвианы. Да поскорей бы! Господи, когда эти набитые дураки отправят меня туда!
Старый надзиратель с его вечным пощелкиванием пластинкой глазка мог бы сойти за крестную из сказки по сравнению с остальными баграми. Уж те ребята были точно не из церковного хора мальчиков. Я слышал, что, когда Наполеона, создавшего каторжные поселения, спросили, кто будет наблюдать за отъявленными негодяями, он ответил: «Еще более отъявленные!» Позднее я убедился, что изобретатель каторжных поселений не наврал.
Клак-клак – квадратное окно (двадцать на двадцать сантиметров посередине двери) открылось. Принесли кофе и пайку хлеба. Пайка – семьсот пятьдесят граммов. После вынесения приговора я лишен права заказывать еду из ресторана. Правда, при наличии денег я мог покупать сигареты и кое-что из еды в небольшом буфете. Так продлится еще несколько дней, а потом и этого не будет. Консьержери – это лишь преддверие настоящей тюрьмы. Я закурил «Лаки страйк» – какое удовольствие! Шесть франков и шестьдесят су за пачку. Купил две. Трачу деньги из своего кошелька, ведь скоро их конфискуют в счет судебных издержек.
Дега прислал в хлебе небольшую записку, из которой следовало, что мне необходимо попасть в дезинфекционную камеру. «В спичечном коробке три вши!» Вынул спички – и вот они, его крепенькие платяные вошки. Сразу понял, что это значило. Показал сударушек надзирателю, чтобы на следующий день меня вместе с моим барахлом и матрацем направили в паровую морилку, где прикончат всех паразитов, кроме нас разумеется. Там я и встретил Дега. Надзирателя в морилке не было. Мы оказались один на один.
– Спасибо, Дега. Благодаря тебе я получил гильзу.
– Беспокоит?
– Нет.
– Каждый раз, когда идешь в сортир, промывай ее хорошенько перед тем, как снова зарядиться.
– Да она совершенно водонепроницаема. Деньжата, гармошкой сложенные, лежат в ней как новенькие. А ведь я ношу ее в себе уже неделю.
– Порядок.
– Что ты намерен делать, Дега?
– Разыграю сумасшедшего. Не хочется отправляться в Гвиану. Прокантуюсь лет восемь-десять во Франции. У меня есть связи. Надеюсь, скостят лет пять.
– Сколько тебе лет?
– Сорок два.
– Тогда ты не в своем уме. Если ты отбарабанишь десять из пятнадцати, ты выйдешь стариком. Боишься каторги?
– Да. Мне не стыдно признаться в этом тебе, Папийон, но я боюсь. Гвиана – гиблое место. Годовая смертность – восемьдесят процентов. Конвой следует за конвоем, а между ними от тысячи восьмисот до двух тысяч покойников. Если не подхватишь проказу, подцепишь желтую лихорадку или дизентерию, которая не лечится. Там еще туберкулез или малярия. А если избежишь всех этих прелестей, то, вполне вероятно, убьют за гильзу или при попытке к бегству. Поверь, Папийон, я не пытаюсь тебя запугать. Но среди моих знакомых есть и такие, кто возвратился во Францию, отбыв небольшой срок – от пяти до семи лет. Я знаю, о чем говорю. Они полные развалины. Девять месяцев в году не вылезают из больниц. Побег с каторги, по их словам, – пустой разговор. Пустая затея.
– Я верю тебе, Дега. Но я верю и в себя. Я там долго не задержусь. Уж поверь мне. Я моряк и знаю море. Если я сказал, что убегу, так оно и будет. А как быть с тобой? Ты способен тянуть десять лет от звонка до звонка? Пусть даже сбросят пятерку, в чем нет полной уверенности, неужели ты рассчитываешь не спятить в одиночке? Представь себе: камера-одиночка, без книг, никуда не выйти – словом, не перемолвиться за сутки. И так каждый день. Да тебе вскоре покажется, что в часе не шестьдесят минут, а все шестьсот. И это еще не все.
– Может быть, но ты молод, а мне сорок два.
– Послушай, Дега, скажи прямо: чего ты больше всего боишься? Других зэков, не так ли?
– По правде говоря, Папи, да. Все знают, что я миллионер. А значит, что им мешает перерезать мне горло? Ведь они будут думать, что у меня при себе пятьдесят или сто тысяч.
– Послушай, давай договоримся! Обещай не терять голову, а я обещаю быть постоянно рядом с тобой. Каждый из нас может поддержать друг друга. Я ловок и силен. С детства приучен драться. Ножом владею, как дьявол. Что касается других зэков – успокойся. Нас будут уважать. Более того, будут бояться. А для побега никого нам не надо. У тебя есть деньги. У меня тоже. Я знаю, как обращаться с компасом, управлять лодкой. Что тебе еще надо?
Он жестко взглянул мне прямо в глаза… Мы обнялись. Уговор состоялся.
Открылась дверь. Прихватив свой узел, Дега отправился в одну сторону, а я – в противоположную. Наши камеры располагались недалеко друг от друга. Время от времени мы виделись то в парикмахерской, то у врача, то в тюремной церкви по воскресеньям.
Дега попался на махинациях, связанных с выпуском фальшивых облигаций Министерства обороны. Некий ловкий фальшивомонетчик поступал с ними крайне необычно: ценные бумаги достоинством в пятьсот франков безукоризненно переделывались в десятитысячные с помощью химических реактивов и новой гравировки. А поскольку бумагой и всем остальным облигации друг от друга ничуть не отличались, то охотно принимались банками и деловыми кругами. Так продолжалось несколько лет, и все это время государственные финансовые органы блуждали, как в темном лесу, пока не прихватили с поличным одного малого по имени Бриуле.
Луи Дега, владелец бара в Марселе, сидел себе спокойно в собственном заведении, где каждую ночь собирался цвет преступного мира – крутые ребята со всех концов земли обделывали там свои темные дела. И бар в Марселе был прекрасным местом для подобных международных встреч. Случилось это в 1929 году, когда Дега стал уже миллионером. Тогда-то и появилась перед ним как-то вечером хорошенькая, одетая по моде молодая особа. Она спросила месье Луи Дега.
– Это я, мадам. Чем могу служить? Пройдите в другую комнату.
– Видите ли, я жена Бриуле. Он в тюрьме в Париже за сбыт фальшивых облигаций. Я виделась с ним в комнате для свиданий в Санте, он дал адрес этого бара и попросил двадцать тысяч франков, чтобы оплатить услуги адвоката.
Тут-то, почуяв, какую опасность может представлять женщина, осведомленная в его причастности к делу, Дега, один из самых известных плутов Франции, и сделал замечание, которого ему не следовало бы делать никогда:
– Послушайте, мадам, я не знаю вашего мужа, а если вы нуждаетесь в деньгах, идите на панель. Вы молоды, хороши собой и заработаете больше, чем надо.
Бедняжка выбежала из бара в слезах, вне себя от гнева и все рассказала мужу. В ярости Бриуле потерял голову и выложил перед следствием все, что ему было известно, прямо обвинив Дега в изготовлении фальшивых облигаций. Команда из наиболее толковых сыщиков страны села Дега на хвост. Через месяц Дега, фальшивомонетчик-гравер и одиннадцать сообщников загремели за решетку. Их взяли сразу в разных местах. Они предстали перед судом присяжных департамента Сена, процесс длился четырнадцать дней. Обвиняемых защищали известные адвокаты. Бриуле не изменил своих показаний. В результате из-за каких-то жалких двадцати тысяч и дурацкой пошлой шутки великий обманщик Франции получил пятнадцать лет каторжных работ. Таким я его и встретил, постаревшим на десять лет и вконец разоренным. С этим человеком я заключил договор – союз на жизнь и на смерть.
Меня навестил мэтр Рэймон Юбер. Он был недоволен собой. Я его не винил.
Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом… Раз, два, три, четыре, пять, кру-гом. Много часов я уже шагаю по камере от двери до окна. Закурил, почувствовал, что достаточно владею собой, появилась уверенность, что преодолею все на своем пути. Дал себе зарок не думать пока о мести. Пусть прокурор посидит на цепи, пропущенной через настенные кольца. Потом придумаем, как с ним поступить.
Внезапный крик, отчаянный, пронзительный, замирающий в страшных мучениях крик проник сквозь дверь моей камеры. Что это? Так мог кричать только человек под пыткой. Но здесь же не здание криминальной полиции. Нет возможности узнать, что произошло. Эти ночные крики выворачивали меня наизнанку. Какой силой должны они обладать, чтобы прорваться через войлочную обивку! Может, это сумасшедший? Так просто сойти с ума в этих камерах, куда ничего до тебя не долетает! Появилась привычка громко разговаривать с самим собой. «Какого черта, – говорю, – ты лезешь не в свои дела. Думай о себе, и только. Да еще о новом напарнике – Дега». Я наклонился, выпрямился и с силой ударил себя в грудь. Больно. Значит, все в порядке – мышцы рук работают превосходно. А как ноги, старина? Ты можешь себя поздравить. Ты уже более шестнадцати часов на ногах и не почувствовал усталости.
Китайцы придумали капать водой на голову. Французы придумали тишину. Лишают тебя всего, чем можно было бы заняться и отвлечься. Ни книг, ни бумаги, ни карандаша. Наглухо закрытое ставнем окно. И только слабый свет тихо льется через небольшие отверстия.
Тот душераздирающий крик меня действительно потряс. Я заметался по камере, как зверь в клетке. Нахлынуло тягостное чувство, что я забыт, оставлен всеми и заживо погребен. Одиночество, полное одиночество. И только крик, проникший в мою камеру, наедине со мной.
Дверь открылась. Появился старый кюре. Вот ты и не один: перед тобой стоит кюре.
– Вечер добрый, сын мой. Прости, что не пришел раньше. Был в отпуске. Ну, как ты здесь?
И добрый старый кюре вошел в камеру и сел на матрац.
– Откуда ты?
– Из Ардеша.
– А родители?
– Мать умерла, когда мне исполнилось одиннадцать. Отец был очень добр ко мне.
– Чем он занимался?
– Был школьным учителем.
– Он жив?
– Да.
– Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени, если он жив?
– Он-то жив – я умер.
– Не говори так. Что ты сделал?
Сказать просто, что я невиновен, – значит ничего не сказать. И я ответил:
– Полиция говорит, что я убил человека. А если они так говорят, то это, должно быть, правда.
– Торговца?
– Нет, сутенера.
– А что это за история? Мне не совсем ясно. Преднамеренное убийство?
– Нет, не преднамеренное.
– Бедный мой мальчик, это невероятно. Что я могу для тебя сделать? Не желаешь ли помолиться со мной?
– Я ничего не смыслю в религии и не умею молиться.
– Это не имеет значения, сын мой. Я за тебя помолюсь. Господь любит всех чад своих, будь они крещеные или нет. Повторяй за мной каждое слово.
В его глазах была такая кроткая нежность, а округлое лицо светилось такой добротой, что мне было стыдно отказываться. И как только он встал на колени, я опустился рядом.
– Отче наш, иже еси на небеси…
Слезы навернулись у меня на глаза. Добрый кюре их заметил. Он снял своим пухлым пальцем крупную каплю, катившуюся по моей щеке, и отправил себе в рот.
– Сын мой, – сказал он, – эти слезы – величайшая награда, посланная мне сегодня через тебя Господом. Благодарю тебя.
Он поднялся с колен и поцеловал меня в лоб.
Мы снова сидели рядом на кровати.
– Давно ли ты плакал?
– Четырнадцать лет назад.
– Почему четырнадцать?
– В тот день умерла моя мать.
Он взял мою руку в свою и сказал:
– Прости тех, кто причинил тебе страдания.
Я вырвал руку и отпрыгнул на середину камеры. Сработал инстинкт.
– Ни за что на свете. Никогда их не прощу. И еще скажу вам, отче: нет дня, ночи, часа, минуты, когда бы я не думал, как с ними разделаться. Со всеми, кто засадил меня сюда. Я убью их, вопрос только как, когда и чем.
– Сын мой, ты веришь в то, что говоришь? Ты молод, слишком молод. С годами ты оставишь мысли о наказании и мести.
С тех пор минуло тридцать четыре года. И сейчас я разделяю его мнение.
– Сын мой, чем я могу тебе помочь? – снова спросил меня кюре.
– Преступлением, отче.
– Каким?
– Пойдите в камеру тридцать семь и скажите Дега, чтобы он связался со своим адвокатом. Пусть добивается перевода в центральную тюрьму в Кане. Я уже это сделал сегодня. Нам надо побыстрей выбираться из Консьержери и попасть в какую-нибудь центральную тюрьму, где формируется этап в Гвиану. Если пропустить первый корабль, то придется ждать следующего еще два года. Ждать в одиночке. Повидавшись с ним, вы вернетесь сюда, отче?
– Чем же мне объяснить возвращение?
– Скажите, что забыли требник. Я буду ждать вас с ответом.
– А почему ты спешишь попасть в такое ужасное место – на каторгу?
Бросив жесткий взгляд на этого великодушного коробейника доброго слова, я понял, что он не выдаст.
– Чтобы поскорее удрать, отче.
– Помоги тебе Господь, мой мальчик. Я уверен, я чувствую, что ты встанешь на путь истины. По глазам вижу, что ты порядочный молодой человек и сердце твое на месте. Я пойду в камеру тридцать семь. Сделаю это для тебя. Жди ответа.
Вскоре он вернулся. Дега дал согласие. Кюре оставил мне свой требник до следующего дня.
Благодаря добряку-кюре, моя камера наполнилась живым светом – вся озарилась его лучами. Если Бог существует, почему Он сделал людей такими разными? Прокурор, полиция, Полен, а затем кюре из Консьержери…
Визит поистине доброго человека подбодрил меня и вселил надежду. Ко всему прочему, он оказался полезен. Наши просьбы быстро прошли инстанции. Через неделю в четыре часа утра нас семерых построили в одну шеренгу в коридоре Консьержери. Багры тоже были тут как тут при полном параде.
– Одежду снять!
Мы медленно разделись. Было холодно. Тело покрылось гусиной кожей.
– Вещи положить. Шаг назад. Кру-гом!
Перед каждым из нас лежала груда арестантского барахла.
– Одеться!
Хорошая тонкая хлопчатобумажная рубашка, всего лишь несколько минут назад облегавшая тело, меняется на грубое некрасивое холщовое изделие. Элегантный костюм – на жесткую блузу и штаны. Нет больше кожаных ботинок – на ногах пара деревянных башмаков-сабо, и если до того момента я обладал какой-то индивидуальностью, то после переодевания произошла полнейшая метаморфоза. Посмотрел на остальных шестерых. Какой кошмар! Не отличить одного от другого: нас всех за какие-то две минуты превратили в каторжников.
– Напра-во! Ша-гом арш!
В сопровождении двадцати стражников нас вывели во двор, по очереди рассовали в «воронок» – каждого в отдельную ячейку в виде узкого шкафа. Погрузили и отправили в Болье. Болье – это тюрьма в Кане.
Тюрьма в Кане
По прибытии нас доставили в кабинет начальника тюрьмы. За столом в стиле ампир, установленном на помосте, который на метр возвышался над полом, восседала исполненная собственной значительности персона.
– Смирно! С вами будет говорить начальник!
– Осужденные, здесь вы на правах пересыльных, пока не придет время отправить вас по местам заключения. Это не обычная тюрьма. Разговоры запрещены круглосуточно. Никаких посещений, никаких писем от кого бы то ни было. Малейшее неповиновение – конец! Отсюда только два пути: на каторгу, при условии безупречного поведения, или на кладбище. Два слова о плохом поведении: малейший проступок – на шестьдесят суток в карцер на хлеб и воду. Не было случая, чтобы кто-то выдержал два раза подряд. Понятно?
Он обратился к Пьерро Придурку, выданному властями Испании:
– Кем был на воле?
– Тореадором, месье начальник.
Ответ привел начальника в ярость, и он заорал:
– Убрать! И всыпать как следует!