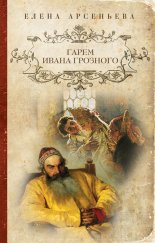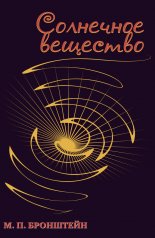Последняя тайна Храма Сассман Пол
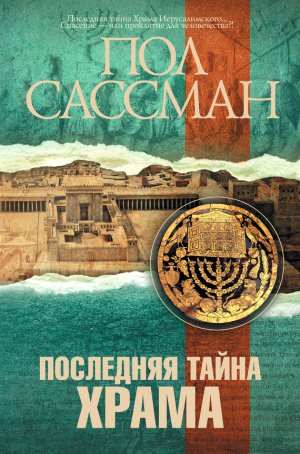
Учитывая деликатность дела, Вы поймете, почему я соблюдаю предельную осторожность и пока не раскрываю все детали. Прошу Вас обдумать мое предложение и, по возможности, сообщить о нем нашему общему другу. Я свяжусь с Вами в самое скорое время.
P.S. Одно маленькое замечание, чтобы разогреть аппетит. Информация, которой я собираюсь поделиться, непосредственно связана с приложенным документом. Если Вы хотя бы вполовину такой профессионал, каким я Вас представляю, Вам потребуется не много времени, чтобы оценить значение моего проекта».
Подписи не было.
Лайла еще дважды прочла странное письмо, затем снова открыла ксерокопию. Документ был, несомненно, очень древним. Пробежав по строкам, исписанным мелкими латинскими буквами, она поняла, что не может даже приблизительно определить язык документа, не говоря уже о смысле. Еще более загадочным было то, что буквы стояли вплотную друг к другу и ни один знак препинания не разделял одно-единственное слово, занимавшее несколько строк:
Zbxnufgmhiuynzupnzmimindoygzikdmonguukxpgpnzpogouzh
dzqohidpcpdngbuuhmzdzikonugdmonumnhodgpdnohmuumy
hhuhpnxoundnzyoxdmzkzmziaomhpguinufzggunzznhdzqohguzhpxl
gupdghhzuonzznhondhdnimofdvuminzufzomvguuxxzguf
dpfdguhdqnnhzloupugoygzodioophdoxopmunzzocoxdpuz
ooghuuonznopoofododozuapoodnuopzhzxnmuidzkdmpoumdnloip
byumzquyhggpnzznhoguzmznonhudolpnddnugxuikzoohnddnugxu
mbounddughuzodazhughhddmznpfugzrzvdximppupofuuz
anumzoomppn
Снизу крупным шрифтом были выведены две заглавные буквы: «GR». Ясности, однако, эти инициалы вносили не более чем бессвязная череда букв над ними.
Лайла еще раз пробежала взглядом по непонятным каракулям и перевернула страницу с сопроводительной запиской. Интервью, на которое намекал ее анонимный почитатель, было опубликовано около года назад. В свое время этот материал вызвал настоящий ажиотаж вокруг ее персоны, так как палестинский террорист номер один впервые приоткрыл завесу секретности и согласился высказаться во всеуслышание. Особо пристальный интерес проявили израильские спецслужбы, для начала изучив вдоль и поперек записи в ее блокноте и файлы портативного компьютера, а затем проведя изнурительный многочасовой допрос. В итоге дотошные следователи выведали у Лайлы не больше того, что уже знали рядовые читатели: интервью проходило в тщательно законспирированном месте и везли ее туда с завязанными глазами. Поэтому первое, что пришло Лайле на ум, когда она просмотрела странное послание, что таинственный документ – очередная «утка» парней из «Шин-Бет»[18], просто несколько более замысловатая, чем те неприкрытые провокации, какие устраивали для нее раньше, вроде той, что случилась пару лет назад.
Тогда прямо на улице к ней подошел незнакомец, прикинувшийся активистом палестинского сопротивления, и предложил такой «план»: он передает ей оружие для сотоварищей в Газе, которое она, пользуясь журналистской неприкосновенностью, переправит через КПП в Эрезе. Лайла не могла сдержать приступ смеха, выслушав этот плохо состряпанный вздор; вволю нахохотавшись, она с издевкой, на иврите, ответила замаскированному провокатору, что после успешно проведенной операции не прочь была бы отужинать с Ами Аялоном[19].
Да, сегодня израильтяне оказались поизобретательней – наверное, захотели реабилитироваться за прошлые провалы. Хотя, быть может, интригующая криптограмма – просто чья-то хулиганская проделка. Кем бы ни был ее автор, Лайла решила не загружать больше голову догадками и не тратить на эту писанину и минуты своего драгоценного времени. В последний раз взглянув на ксерокопию старинного документа, она швырнула его и прикрепленное скрепкой письмо в мусорное ведро и вышла из дома.
Луксор
– Пустой мечтатель, вот ты кто, Халифа! Всегда им был и останешься, черт тебя возьми!
Старший инспектор Абдул ибн-Хассани стукнул тяжелым мясистым кулаком по столу, подошел к окну кабинета и с мрачным видом посмотрел в сторону Луксорского храма. Группа туристов выстроилась вокруг обелиска Рамзеса II, слушая экскурсовода и восхищенно разглядывая величественную вертикаль древнего монумента.
Хассани был грузным широкоплечим мужчиной с толстыми бровями и приплюснутым носом боксера. В полицейском управлении он слыл ворчуном и себялюбцем. Припадки бешенства случались с ним нередко. Подчиненные хорошо знали симптомы, по которым можно было определить, что начальник не в духе, – громкий агрессивный голос, багровая физиономия и маленькая пульсирующая жилка под правым глазом. Повышенное внимание к своей внешности проявлялось у Абдула в подчас нелепых мелочах, таких как чересчур изящно скроенный парик, которым старший инспектор надеялся скрыть разраставшуюся с годами лысину. От сильного удара кулаком по столу парик съехал набок, и Хассани, делая вид, будто подбирает пряди на лбу, аккуратно поправил его, глянув в висевшее на стене зеркало, дабы удостовериться, что все в порядке.
– Чушь! Полнейшая чушь! – распалялся он. – Двадцать лет прошло…
– Пятнадцать.
– Пятнадцать, двадцать – какая, к черту, разница? Слишком много воды утекло, чтобы рыться в прошлом. А ты все роешь и роешь, точно крот какой-то. Вечно, что ли, будешь мертвецами заниматься?
Разъяренный, с искусственным пучком прилизанных волос на макушке, Абдул выглядел как человек, на которого нагадила птица и который все же старается не придавать этому значения и вести себя как ни в чем не бывало. Во время другого разговора Халифа, наверное, с трудом сдерживал бы смех, но сегодня ему было не до неуклюжего парика шефа.
– Простите, шеф…
– Настоящее! – грубо прервал его Хассани, скрестив руки и подойдя к висевшей в рамке фотографии президента Хосни Мубарака – он всегда вставал на это место, когда собирался отчитать провинившегося сотрудника. – Настоящее – вот чем надо заниматься, Халифа. У меня работы по горло. Каждый день, каждый час происходят преступления, на них времени нет, а ты лезешь с делом двадцатилетней давности! Да к тому же закрытым!
Произнеся последнюю фразу, он чуть нахмурил лоб, как будто сомневаясь в истинности своих слов. Секунду спустя неуверенность на его лице вновь сменилась раздражением. Он подошел к сидевшему на низеньком стуле Халифе и ткнул его в грудь толстым указательным пальцем.
– В этом твоя главная проблема, Халифа. Тысячу раз говорил, скажу и еще – ты совершенно не способен сосредоточиться на настоящем. Только и знаешь, что шляться по музеям да читать умные книжки про всяких Тутанхамонов и Энетенебов…
– Эхнатонов, – поправил Халифа.
– Опять ты за свое! – Хассани взвился как ошпаренный. – Мне плевать, как звали этого мертвеца! Если его нет, на кой черт я буду засорять голову? Мне важно, что происходит здесь и сейчас, понял?
Хассани всегда злил интерес Халифы к прошлому. А Халифа не мог до конца понять, за что его шеф так не любит и даже ненавидит историю. Впрочем, он догадывался: полное незнание прошлого собственной страны задевало самолюбие Абдула. Кроме того, на отношении Хассани к своему подчиненному не в последнюю очередь сказывалось, что Халифа был одним из немногих полицейских, не поддававшихся запугиваниям начальства.
– Да, вольно зажили бы бандюги, ничего не скажешь! – орал Хассани, носясь по кабинету. – Думаешь, не рады они были бы, если бы мы все время возились со всякими заплесневелыми бумажками, а всех сутенеров, воришек и… – он замешкался, подыскивая подходящее слово, – и карманников оставили на потом? А, разве не так? Последний шпаненок будет шустрее таких полисменов.
Жилка под глазом старшего инспектора пульсировала как никогда. Халифа достал пачку сигарет и, согнув спину, закурил.
– Не исключено, что следствие допустило ошибку, – сказал он тихо, остановив взгляд на плитке на полу. – Не обязательно, но и не исключено. И то, что ошибка произошла пятнадцать или тридцать лет назад, не освобождает нас от обязанности вытащить всю правду на свет.
– С чего ты это взял? – возмущенно вскричал Хассани. – Где доказательства? Понимаю, такой парень, как ты, никогда не поверит во всякие «теории заговора» и прочую подобную чепуху. Однако мне нужно что-нибудь большее, чем «не исключено»!
– Я же сказал – не исключено.
– То есть тебе кажется!
– Между этими делами есть что-то общее…
– Что-то общее есть и между моей женой и бегемотом, но это не значит, что она весь день сидит в своем собственном дерьме и жрет пальмовые листья!
– Многовато общего для простого совпадения, – не желая сдаваться, твердил Халифа. – Пит Янсен каким-то образом был связан с убийством Ханны Шлегель. Я чувствую! Я знаю!
Он ощутил, как его голос становится громче, и, положа руку на колено, сделал долгую затяжку, чтобы успокоить нервы.
– Ханна Шлегель была убита в Карнаке, и там же жил Янсен, – сказал он как можно спокойнее, чтобы не выдать бушующих у него в душе эмоций.
– Ты смеешься надо мной? В Карнаке живет тысяча человек, и пять тысяч приезжают каждый день посмотреть на древности. Может, нам их теперь всех допросить?
Халифа сделал вид, что не заметил колкости начальника, и продолжил все таким же невозмутимым тоном:
– Символ «анкх» и розочка на набалдашнике трости Янсена соответствуют отпечаткам на лице и черепе Шлегель, на которые в свое время следствие не обратило внимания.
Хассани лишь отмахнулся.
– Есть тысячи, если не десятки тысяч предметов с такими значками. Незначительная деталь, Халифа, слишком незначительная.
Инспектор снова оставил слова шефа без комментариев и продолжил:
– Шлегель была израильтянкой, а Янсен терпеть не мог евреев.
– Аллах с тобой, Халифа! Весь Египет ненавидит чертовых евреев после того, что они сделали с палестинцами. Что ж мы, по-твоему, должны следить за каждым египтянином?
Халифа не отступал.
– По словам охранника Карнакского храма, с места происшествия поспешно скрылся человек с каким-то необычным головным убором. «Точно смешная птичка» – так это описал свидетель. Шляпа с перьями, которая висит на двери подвала дома Янсена, совпадает с описанием охранника.
На сей раз Хассани разразился настоящим приступом хохота.
– Нет, просто умора! Чертов охранник вообще был, если память мне не изменяет, полуслепой. Он руку-то свою еле видел, а чего уж говорить про бегущего за пятьдесят метров человека!.. Липовые у тебя доказательства, парень, все до одного липовые.
Халифа сделал последнюю затяжку и, наклонившись к столу, смял сигарету в пепельнице.
– У меня есть еще одно.
– Ну-ну, давай, позабавь меня! – закричал Хассани, хлопая в ладоши.
Халифа откинулся назад.
– Прежде чем испустить дух, Шлегель успела произнести два слова: «Тот» – так звали египетского бога мудрости и литературы…
– Знаю, знаю! – раздраженно одернул собеседника Хассани.
– …и «цафардеах», что на иврите значит «лягушка».
Хассани прищурился.
– Ну и что?
– У Янсена была одна врожденная особенность – перепончатые пальцы на ступнях. Как у лягушки.
Он говорил быстро, чтобы шеф не успел прервать его очередным язвительным уколом. К его удивлению, Хассани промолчал, подошел к окну, сжав кулаки, как будто держал два невидимых чемодана.
– Я понимаю, что в отдельности эти детали мало что значат, – напирал Халифа, надеясь в конце концов уломать начальника. – Но если рассматривать их в совокупности, для простого совпадения это многовато. А ведь есть еще склад древностей в подвале. Янсену было что скрывать. Им надо серьезно заняться.
Костяшки побелели на кулаках Хассани, так сильно он их сжимал.
– Мы не будем больше тратить на это время, – произнес шеф медленно, и все же от этого низкого, размеренного голоса на душе становилось тяжелее, чем от надрывного крика. – Человека в живых больше нет, а на нет и суда нет. Все ясно?
Халифа посмотрел на него недоверчивым взором.
– А как же Мохаммед Джемаль? Что если за решетку сел невиновный?
– Джемаль умер.
– А его семья? Мы должны…
– Суд признал Джемаля виновным, дьявол тебя забери! – завопил старший инспектор. – Он ограбил старушку и публично в этом сознался.
– Но не в том, что убил ее. Он категорически отрицал свою причастность к убийству.
– Да он же покончил с собой! Что это еще, как не раскаяние?
Хассани подступил на шаг ближе к Халифе.
– Этот парень был виновен. Он, и никто другой. Все это знали – и мы, и он сам.
Его глаза сверкали от бешенства. Но что-то еще было в этом горящем взоре, какая-то песчинка неуверенности и даже отчаяния. Халифа не припомнил, чтобы видел раньше нечто подобное.
– Только не я, – сказал он, закурив сигарету.
– Что?! Повтори!
– Я не считал Джемаля виновным. – Голос Халифы звучал все увереннее. – Ни тогда, ни тем более сейчас. Возможно, Мохаммед Джемаль и ограбил Ханну Шлегель, и все же он точно ее не убивал. Мне стыдно, что в свое время я смалодушничал и промолчал. Более того, мне кажется, в глубине души муки совести терзают и вас, и полковника Мафуза…
Хассани подошел еще ближе к инспектору и с такой силой ударил толстенным кулаком по столу, что стопка бумаг взлетела в воздух, а затем рассыпалась по полу.
– Все, Халифа, терпение мое лопнуло! – вскричал он, трясясь и судорожно подергивая уголками рта. – Сам разбирайся со своими психологическими проблемами, а у меня в участке есть дела поважнее. Последний раз тебе говорю: я не открою дело пятнадцатилетней давности из-за того, что у какого-то взбалмошного идиота, понимаете ли, неспокойно на душе. Ты не привел ровным счетом никаких доказательств, кроме всяких там перышек и лягушек, которые только заставляют задуматься о твоем рассудке. Знаешь, Халифа, у меня всегда были серьезные сомнения в твоей профпригодности. Как говорится, плохому танцору яйца мешают. Пошел бы ты лучше в археологи или чем ты еще там бредишь, а ловить преступников я как-нибудь постараюсь без тебя. Настоящих, не выдуманных преступников.
Разнервничавшись, Хассани резко провел рукой по затылку и нечаянно сдвинул на лоб парик, о котором напрочь забыл в пылу разговора. Яростно вскричав, он сорвал его и швырнул в противоположный конец комнаты, а сам, тяжело дыша, уселся за стол.
– Забудь обо всем этом, Халифа, – сказал он неожиданно утихшим голосом. – Ханну Шлегель убил Мохаммед Джемаль, а Янсен не имел никакого отношения к ее смерти. И пересматривать дело я не позволю.
Хассани отвел глаза от прямого взгляда Халифы.
– А теперь займись-ка хоть раз в жизни нормальной полицейской работой. Одна иностранка из отеля «Зимний дворец» пожаловалась, что у нее-де стащили драгоценности. Вот пойди и разберись, в чем там дело.
Халифа понял, что говорить больше не о чем. Он встал и прошел к двери.
– Ключи, – угрюмо бросил Хассани. – Я не позволю тебе за моей спиной лазить по дому Янсена.
Халифа обернулся, достал из кармана связку ключей и кинул через весь кабинет Хассани, который поймал ее одной рукой.
– Чтобы я больше об этом не слышал. Ты меня хорошо понял? Никогда не слышал.
Следователь промолчал, распахнул дверь и вышел в коридор.
Иерусалим
Сколько бы раз Лайла ни проходила под внушительной, укрепленной с обеих сторон аркой Дамасских ворот, облепленной попрошайками и уличными торговцами, по почерневшим от нечистот плитам Старого города, она не могла забыть, как пятилетней девочкой ее первый раз привели сюда родители.
– Гляди, Лайла! – гордо говорил отец, присев за ее спиной на корточки и поглаживая длинные, доходившие до талии иссиня-черные волосы девочки. – Аль-Кодс, красивейший город мира! Наш город. Гляди на светящиеся на утреннем солнце камни, впитывай запах заатара[20] и свежеиспеченного хлеба, вслушивайся в зов муэдзинов и выкрики продавцов тамар хинди[21]. Запомни все это, Лайла, и храни в своем сердце. Ведь может статься, что израильтяне выдворят нас из нашего города, и Аль-Кодс останется лишь главой в учебниках истории.
Лайла обняла отца за шею.
– Я не позволю им! – закричала она. – Я буду бороться с ними, и ничто меня не испугает.
Отец засмеялся и прижал ее к груди, плоской и твердой, словно мрамор.
– Ух какая ты у меня воинственная! Лайла Непобедимая!
Они пошли вдоль древних стен, пугавших ее в то время своей высотой и массивностью, и сквозь Дамасские ворота попали в пестрый лабиринт улочек и закутков Старого города. В небольшом кафе они с мамой заказали по стакану кока-колы, а отец, потягивая курительную трубку шиши, оживленно беседовал с важными стариками в чалмах. Затем они спустились по дороге аль-Вад к Харам аль-Шариф, останавливаясь на каждом шагу то у пекарни, где отец ребенком ел хлеб, то на площадке, где он гонял в футбол, то возле старого фигового дерева, выросшего будто из самой стены, чьи плоды он когда-то обрывал.
– Есть их нельзя – слишком жесткие и горькие, – объяснял отец Лайле. – Мы кидались ими друг в друга. Однажды один такой угодил мне прямо в нос. Ну и треск был! А кровищи сколько!
Он расхохотался, вспомнив детский задор, и Лайла засмеялась вслед за ним, хотя в душе ей стало страшно при мысли, что отцу причинили боль. Она обожала его, во всем хотела нравиться ему, показать, что она такая же храбрая и настоящая палестинка, как он сам.
От фигового дерева они свернули в паутину узеньких переулков и тупиков, по которой блуждали, пока не очутились в проеме между вытянутыми рядами зданий, соединявшимися на верхних этажах в единый аркообразный пролет. Стоявшие у входа в один из домов израильские солдаты проводили их подозрительными взглядами.
– Гляди, как они смотрят, – тяжело вздохнув, промолвил отец. – Точно мы стащили что-то из собственного дома.
Он взял дочку за руку и подвел к низкому деревянному дверному проему, увенчанному перемычкой с искусно вырезанным орнаментом из плодов и виноградных лоз. Латунная пластинка на стене у входа гласила, что здание отдано мемориальной иешиве имени Алдера Когена. Справа на дверном каменном косяке было выцарапано слово «мезуза».
– Наш дом, – сказал грустно отец, прикоснувшись рукой к двери. – Наш замечательный дом.
Его – и ее – семья бежала из дома во время разразившегося в июне 1967 года конфликта, прихватив лишь несколько самых ценных вещей и найдя приют в лагере беженцев в Акабат Джабре под Иерихоном. Они надеялись, что это лишь временное убежище, но когда после прекращения боевых действий вернулись в Иерусалим, в их доме уже расположились израильтяне и никакие жалобы новому градоначальству помочь не смогли. С тех пор они и вели жизнь беженцев.
– Здесь я родился, – произнес отец, нежно проведя рукой по шершавой поверхности двери и касаясь узорчатой перемычки. – И мой отец. И его отец, и отец его отца… И так четырнадцать поколений моих предков. Триста лет.
– Все будет хорошо, папочка, – сказала Лайла, обнимая его и стараясь передать всю свою силу и любовь в худое крепкое тело отца. – Когда-нибудь он снова будет твоим и мы все вместе заживем в нем. Все будет хорошо!
Он склонился над дочкой и прижал голову к ее длинным волнистым волосам.
– Если бы правда было так, моя милая Лайла! – прошептал он. – Но не у всех историй счастливый конец. И особенно у нашего народа. С годами ты это поймешь.
Подобные воспоминания пробегали у нее в голове, когда она проходила под мрачной аркой ворот и поднималась по склону дороги аль-Вад.
В обычный день эта часть города, пестрая от разноцветных палаток с выставленными на продажу цветами, фруктами, специями, похожа на бурлящий котел: тут и там шныряют, толкаясь и наступая друг другу на ноги, плутоватые продавцы и докучливые покупатели, а мальчишки, задорно свистя, лихо катят доверху груженные мясом и отбросами телеги. Но сегодня здесь было неестественно тихо. Так весть о проникновении «Воинов Давида» в сердце палестинской части Иерусалима отразилась на торговой активности горожан.
Под сморщенным жестяным навесом пустого кафе сидели несколько стариков; слева, в потрескавшемся дверном проходе, устроившись на корточках перед безрадостной грудой известняка, одинокая крестьянка прятала лицо в морщинистых ладонях. Остальные люди на улицах были либо израильскими солдатами, либо полицейскими: наряд пограничников в зеленых беретах примостился на ступеньках кафе.
Лайла развернула свое удостоверение журналиста перед миловидной девушкой, которая, не будь на ней полицейской униформы, вполне сошла бы за фотомодель, и спросила, можно ли пройти к занятому зданию.
– Пикет дальше по дороге, – ответила девушка, недоверчиво разглядывая протянутую пластиковую карточку. – Там и спросите.
Лайла кивнула и двинулась вдоль по дороге, мимо австрийского хосписа и виа Долороза – мимо той самой аллеи, где росло фиговое дерево, которое ей когда-то показал отец. Чем дальше она шла, тем явственнее слышались крики и тем отчетливее ощущалось присутствие военных и полиции. Впереди, в нескольких десятках шагов, толпились молодые люди: одни в черно-белых головных повязках, символизировавших принадлежность к молодежному отделению партии «Фатх», другие – с красно-зелено-черно-белыми палестинскими флагами в руках. Узкий переулок периодически оглашался их гулкими выкриками, и вслед за тем лес сжатых кулаков взметался в воздух. Бесстрастные лица израильских солдат, переброшенных сюда, чтобы не дать волнениям выйти за городские стены, казались каменными на фоне разъяренных физиономий демонстрантов. Пепел и обуглившиеся куски картона на булыжниках напоминали о недавно горевших здесь кострах; израильские камеры наблюдения, словно скелеты животных, свисали из настенных гнезд, стекла в них были выбиты.
Лайла с трудом пыталась пробиться сквозь толпу, которая с каждым шагом становилась все плотнее. Когда она уже отчаялась прорваться, ее окликнул молодой человек. Она вспомнила, что брала у него интервью пару месяцев назад, работая над статьей о молодежном отделении «Фатха». С его помощью Лайла смогла протиснуться к металлическим ограждениям, которые наспех установили израильские солдаты поперек улицы. Среди толпы возмущенных палестинцев затесалось и несколько израильских пацифистов из группы «Мир без промедления». Одна из них, пожилая женщина в трикотажной шляпе, крикнула ей:
– Напиши про этих ублюдков, Лайла! Они так и норовят спровоцировать войну!
– Вот именно, – подхватил стоявший позади нее мужчина. – Они хотят убить нас всех! Оккупанты – прочь! Мы хотим мира! Мира без промедления!
Он нагнулся вперед и погрозил кулаком закованным в бронежилеты и каски пограничникам, скучившимся по ту сторону ограждений. За ними, перед оккупированным домом, тоже в касках и бронежилетах, суетились журналисты и телекорреспонденты. Еще дальше вниз по улице другой блок ограждений сдерживал израильских правых экстремистов, пришедших сюда, чтобы поддержать захватчиков. Один из плакатов, которые держали сторонники оккупантов, гласил «Кахане[22] был прав!», другой требовал прогнать «арабских бандитов» с исконно еврейских земель.
Лайла показала свое удостоверение солдату, и тот, внимательно рассмотрев его и на всякий случай проконсультировавшись с начальством, провел девушку сквозь толпу журналистов. Рядом с ней оказался бородатый мужчина с брюшком, в защитной каске и очках с проволочной оправой.
– Неужто сама Лайла аль-Мадани почтила нас своим присутствием? – бросил он с нескрываемым пренебрежением. Его голос тонул в непрекращающемся шуме толпы. – Я уже заждался.
Онз Шенкер работал политобозревателем «Джерусалем пост». Их знакомство состоялось при малоприятных обстоятельствах: тогда Лайла выплеснула на него стакан воды за то, что он оскорбительно высказался по поводу палестинских женщин. С тех пор при каждой встрече они неизменно обменивались едкими уколами.
– Поправь лучше каску, Шенкер, а не то свалится, – фыркнула в ответ Лайла.
– Завидуешь, что у тебя такой нет? А она пригодится, когда твои арабские дружки начнут метать камни и бутылки.
Как бы в подтверждение его слов со стороны палестинских манифестантов прилетела бутылка и, описав дугообразную траекторию, рухнула на мостовую в какой-то паре метров от них.
– Ну, что я говорил? – выпалил Шенкер. – Но тебе бояться нечего – они же целятся в нормальных журналистов!
Лайла приоткрыла рот, чтобы парировать этот выпад очередной колкостью, однако, решив не тратить попусту время и энергию, продемонстрировала Шенкеру неприличный жест и стала протискиваться сквозь толпу репортеров ближе к месту действия. Здесь царило подлинное безумие: корреспондент Си-эн-эн Джеральд Кессел с микрофоном в руке, пытаясь попасть в поле зрения камеры, отчаянно крутился на узеньком пятачке; слева израильские пограничники теснили палестинских манифестантов в глубь улицы, давя на них металлическими ограждениями. С каждой минутой гул толпы становился все громче и громче. Полиция приготовила канистры со слезоточивым газом, протестующие ответили градом бутылок.
Простояв некоторое время неподвижно и глядя по сторонам, чтобы сосредоточиться и сориентироваться в этом море хаоса, Лайла скинула с плеча фотоаппарат и принялась щелкать, снимая все, что казалось ей сколько-нибудь приметным: наскоро нарисованные аэрозолем меноры по обе стороны входной двери – обязательный атрибут «Воинов Давида»; израильский флаг, распростертый перед зданием; солдат на крышах близлежащих домов, призванных, по всей вероятности, чтобы воспрепятствовать возможной атаке местных жителей. Она собиралась сфотографировать сторонников захвативших дом экстремистов, когда почувствовала, как толпа стала резко сжиматься и тянуть вперед.
Дверь захваченного дома распахнулась. На мгновение все затихли в ожидании, и на пороге возникла приземистая фигура Баруха Хар-Зиона, за которым следовал стриженный «под ежик» телохранитель Ави Штейнер. Сторонники оккупантов встретили их ликующими возгласами и пением «Хатикавы» – национального гимна Израиля. В свою очередь, палестинцы и пацифисты, отогнанные к этому времени настолько далеко, что с трудом могли разобрать происходящее у дома, навалились на ограждения и завели свою песню – «Родина моя, родина моя». Штейнер грубо расталкивал скучившихся журналистов, пытаясь освободить пространство для своего командира. Непрестанно сверкали яркие, словно молния, вспышки фотоаппаратов.
Хар-Зион на мгновение остановил взгляд на Лайле и высокомерно прошел дальше. Он не реагировал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы; лишь легкая нагловатая улыбка, проступившая на краях губ, свидетельствовала о его удовлетворении происходящим. Едва он поднял правую руку, требуя тишины, как вопросы прекратились и десятки рук с диктофонами вытянулись вокруг его головы. Лайла вскинула фотоаппарат на плечо и достала блокнот.
– Древняя иудейская пословица гласит, – произнес хриплым, басистым голосом Хар-Зион, – «Хамечадеш бетув бехол йом тамид ма’асех берешит» – «Бог творит мир каждый день сызнова». Вчера эта земля была в руках наших врагов. Сегодня она по праву вернулась своему законному владельцу – еврейскому народу. Это великий, исторический день, который никогда не позабудут. И поверьте мне, дамы и господа, таких дней будет все больше и больше.
Луксор
Хотя Шлегель была убита добрых пятнадцать лет назад, Халифа помнил все подробности дела с такой ясностью, будто это случилось вчера.
Труп обнаружил местный житель, некто Мохаммед Ибрагим Джемаль, в храме бога Хонсу – мрачном строении в юго-западной части Карнакского храмового комплекса, куда редко забредают простые туристы. Как показало вскрытие, убийца нанес шестидесятилетней незамужней еврейке ряд сильных ударов в область головы и лица, раздробив челюсть и череп в трех разных местах тупоконечным предметом, определить который следствие оказалось не в состоянии. Единственной уликой, указывавшей на приметы неизвестного предмета, были отпечатавшиеся на коже убитой контуры символа «анкх», перемежавшиеся миниатюрными розетками.
Джемаль уверял, что Шлегель, когда он нашел ее, была, несмотря на тяжкие увечья, еще жива. Вся в крови, еле шевеля губами, женщина несколько раз прошептала два слова – «Тот» и «цафардеах», – после чего впала в кому, из которой ей не суждено было выйти. Однако иных свидетелей убийства, способных подтвердить сказанное, следствие не нашло, если не считать старика охранника, утверждавшего, будто он слышал приглушенные крики, доносившиеся из глубины храма, и видел краем глаза, как кто-то, сильно хромавший и с «чем-то странным на голове, точно смешная птичка», поспешно удалился с места, где было совершено преступление. Впрочем, дед был полуслепой да вдобавок ко всему еще и слыл алкашом, и его слова в то время никто всерьез не воспринял.
Дело взял под свой контроль тогдашний глава полиции Луксора, старший инспектор Эхаб Али Мафуз, назначив себе в помощники собственного зама, инспектора Абдула ибн-Хассани. Двадцатичетырехлетнего Халифу, который только что был переведен в Луксор из родной Гизы, также подключили к работе. Так ему в первый раз довелось расследовать дело об убийстве.
С самого начала работы следствие рассматривало в качестве основных два мотива убийства. Наиболее вероятным представлялся грабеж, на что указывала пропажа бумажника и часов убитой. Эту версию активно отстаивал Мафуз. В качестве второго, менее правдоподобного, но все же теоретически возможного мотива принималось нападение фундаменталистов: всего месяцем ранее девять израильтян были застрелены в экскурсионном автобусе на трассе между Каиром и Исмаилией.
Халифе, самому молодому и наименее опытному в группе следователей, ни тот, ни другой сценарий не показались достаточно убедительными. Если целью был грабеж, то почему нападавший не снял с шеи женщины золотую звезду Давида? А если повинны фундаменталисты, почему они не заявили об этом сами, как у них заведено после разного рода терактов?
По ходу расследования в деле всплыли новые странности. Шлегель прибыла в Египет за день до своей гибели рейсом из Тель-Авива, совершенно одна, и тотчас вылетела в Луксор, где у нее был забронирован номер в отеле экономкласса на набережной Корниче эль-Нил. По словам консьержа, она не выходила из номера с самого приезда и до 15.30 следующего дня, когда за ней приехало такси, чтобы отвезти в Карнак. С собой у женщины была всего одна сумка с самыми необходимыми ночными принадлежностями и обратный билет в Израиль на то же число. Хотя оставалось неясным, зачем Шлегель приехала в Луксор, было очевидно, что отдыхать и смотреть достопримечательности она явно не собиралась.
Гостиничная горничная также рассказала, что когда вечером она заносила в номер Шлегель полотенца и мыло, то слышала, как покойная говорила с кем-то по телефону. И без того сложную картину окончательно запутывал большой, хорошо заточенный кухонный нож, найденный в дамской сумочке убитой. Выходило, что то ли она сама собиралась с кем-то расправиться, то ли ожидала нападения.
Чем больше Халифа думал о деле, тем сильнее крепла в нем уверенность, что ни кража, ни экстремизм здесь ни при чем. Подсказку надо искать в телефонном разговоре. С кем говорила Шлегель? О чем? Он запросил в администрации отеля распечатку сведений с телефонного датчика, но выяснилось, что в тот самый вечер аппарат, как назло, сломался. К тому времени, когда Халифа собрался обратиться в центральную египетскую телефонную компанию за сводкой разговоров по всему зданию, следствие приняло неожиданный оборот: в доме Мохаммеда Джемаля были найдены часы Шлегель.
В луксорской полиции Джемаля знали не понаслышке. Отъявленный жулик и хулиган, он скопил за свою «карьеру» целую коллекцию приговоров по всевозможным статьям – от словесного оскорбления и оскорбления действием, за что три года коротал в аль-Вади аль-Гадид, до автомобильной кражи и поставок марихуаны, которые обошлись ему в шесть месяцев заключения в Абу-Заабале. Когда было совершено убийство, он подрабатывал экскурсоводом (правда, без лицензии) и утверждал, что уже несколько лет как завязал с криминалом. На завуправлением Мафуза эти заверения, однако, не возымели ни малейшего действия. «Был вором, вором и остался, – сухо сказал он. – Как леопард не меняет территорию, так и такой говнюк, как Джемаль, не превращается за ночь в ангела с крылышками».
Халифа присутствовал на допросе Джемаля. Мурашки бежали у него по коже, когда он вспоминал, что Мафуз и Хассани вытворяли с подозреваемым. Поначалу тот наотрез отрицал, что где-нибудь видел эти часы. После двадцати минут избиений Джемаль сломался и признал, что, мол, да, это он стащил часы, не в силах выдержать искушения. Пытаясь оправдаться, он плел что-то о долгах, из-за которых его семью вот-вот могли выселить из дома, о больной дочери. Но главное, он отчаянно отказывался признать, что убил Шлегель или взял ее бумажник. В этом Джемаль так и не сознался даже после двух дней все усиливавшихся избиений. Под конец допросов он мочился кровью, а веки его раздулись до такой степени, что он почти не мог видеть, однако отстаивать свою невиновность Джемаль так и не перестал.
Халифу до глубины души коробило увиденное, но он, опасаясь перечеркнуть перспективы службы в полиции, не вымолвил ни слова против. Хуже всего было то, что он с самого начала не сомневался в искренности Джемаля. Неистовость, с которой он орал, что не убивал женщину, стойкость, с которой выдерживал удары тяжеленных, словно молоток, кулаков Хассани, заставили Халифу поверить, что этот человек нашел Шлегель уже после нападения на нее. Возможно, он и украл, говорил себе Халифа, но, во всяком случае, точно не убивал.
Мафуз, однако, был непреклонен. А Халифа снова смолчал. Так же, как и во время допросов, он молчал, когда Джемаль предстал перед судом, и когда его приговорили к двадцати пяти годам работ в каменоломне Тура, и даже когда спустя четыре месяца после вынесения приговора он покончил с собой, повесившись в камере.
Все последующие годы Халифа пытался найти оправдание своему молчанию. Он убеждал себя, что Джемаль был настолько скверный тип, что в любом случае получил по заслугам, а прав ли был суд в конкретном случае – дело десятое. Но какой-то внутренний голос упрямо твердил Халифе, что он струсил и из-за его трусости невиновного отправили за решетку, а настоящий убийца так и не предстал перед правосудием. И теперь этот голос звучал с такой силой, что инспектор уже не мог думать ни о чем ином.
Иерусалим
Сторонники Баруха Хар-Зиона – а их число росло словно грибы после дождя – воспринимали своего лидера не иначе как нового Давида, избранника Божия, отвоевывающего у врага Землю обетованную. Сочетая недюжинную силу и бесстрашие с глубокой набожностью, Хар-Зион являл собой в их глазах живой образец шартекера – несокрушимого героя иудейских преданий, который печется о себе, своем народе и Боге, не задумываясь о средствах.
Борис Зеговский – таково было его настоящее имя – родился в захолустном местечке на юге Украины. В 1970 году, шестнадцатилетним подростком, он на пару с младшим братом тайно бежал за пределы СССР. Пешком преодолев пол-Европы, братья обратились в израильское посольство в Вене с просьбой разрешить им алию[23]. Долгий изнурительный путь из страны повального антисемитизма на землю предков стал для Хар-Зиона своего рода исходом, наглядным подтверждением союза Бога с избранным народом.
С тех пор он всецело отдал себя военной службе во имя обороны и расширения пределов своей новой родины. Его карьера в израильской армии началась с элитного полка «Сайрет Маткал», где Хар-Зион неоднократно удостаивался военных почестей. После того как его «хаммер» налетел на фугас в южном Ливане и Хар-Зион получил страшные ожоги, он перешел в военную разведку – возглавил отдел по вербовке агентов из числа палестинцев. Беззаветное служение во благо Израиля составляло самую суть его личности, побуждая как на акты беспримерного героизма (его дважды представляли к высшей военной награде Израиля – медали «За отвагу»), так и на поступки, поражающие своей жестокостью. В 1982 году он получил строгий выговор за то, что велел подчиненным облить бензином ливанскую девочку и под страхом ужасной смерти выдавил из нее сведения об оружейных запасах «Хезболлы». Позднее, во время работы в разведке, Хар-Зион угодил под трибунал: он подозревался в том, что санкционировал запугивание палестинских женщин групповым изнасилованием, дабы принудить их к сотрудничеству. Обвинения были сняты после того, как главный свидетель по делу погиб в результате загадочного пожара.
И это были лишь самые известные случаи. Леденящие душу рассказы о совершенных им зверствах передавались из уст в уста. Но вместо того, чтобы заставить Хар-Зиона контролировать себя, они, казалось, лишь льстили его тщеславию больше всех наград за мужество. Говорят, однажды он заметил: «Приятно, когда тобой восхищаются, а еще приятнее, когда тебя боятся».
Мирные соглашения, принятые в Осло, – равно как и любые другие договоры, предусматривавшие уступку Израилем хотя бы пяди библейской земли, – до глубины души возмутили Хар-Зиона. Официальный курс правительства был чересчур мягок для него. Настал час действовать самостоятельно. В середине девяностых, подав рапорт об уходе из разведывательного ведомства, он навсегда порвал с военной службой и с головой окунулся в политику. Сначала примкнул к организации воинствующих переселенцев «Гуш Эмуним», а вскоре основал еще более радикальную группу «Шаалей Давид» – «Воины Давида». Выдвинутый этой группой призыв захвата арабских территорий и переселения на них израильтян был даже самыми правыми политиками воспринят как сумасбродство фанатиков. Однако с появлением аль-Мулатхама и «Палестинского братства» бескомпромиссная позиция Хар-Зиона стала стремительно набирать популярность. Он открыто заявлял, что конец терактам наступит только тогда, когда Эрец Исраэль будет заселена лишь евреями, а палестинцы уберутся в Иорданию. На организуемые им митинги приходило все больше народу, а на обеды для спонсоров – все более важные гости. На выборах двухтысячного года Хар-Зион получил место в кнессете – после этого в некоторых кругах о нем всерьез заговорили как о потенциальном политическом лидере Израиля. «Если Барух Хар-Зион станет премьер-министром, стране придет конец», – предрек умеренный израильский политик Иехуда Милан. «Если Барух Хар-Зион станет премьер-министром, таким юцимам[24], как Иехуда Милан, придет конец», – отреагировал Хар-Зион.
Все это пронеслось в голове у Лайлы, пока она всматривалась в человека, стоящего в паре шагов от нее. На руках перчатки, волосы с проседью, лицо бледное, скуластое, покрытое многодневной щетиной и оттого напоминающее заросший мхом кусок гранита. Журналисты снова засуетились, один за другим защелкали кнопки записи на диктофонах. Корреспонденты, стараясь перекричать друг друга, сыпали вопросами.
– Мистер Хар-Зион, готовы ли вы признать, что нарушили закон, захватив этот дом?
– Возможен ли, на ваш взгляд, какой-то компромисс между израильтянами и палестинцами?
– Можете ли вы прокомментировать предположение, что ваши действия негласно поддерживаются премьер-министром Шароном?
– Правда ли, что вы хотите снести Мечеть Скалы и восстановить на этом месте древний храм?
Сохраняя невозмутимость, Хар-Зион мгновенно парировал вопрос за вопросом, повторяя низким хриплым голосом, что он и его люди не захватывают и не заселяют арабские территории, а освобождают землю, принадлежащую еврейскому народу по божественному праву. Через двадцать минут этого однообразного диалога он жестом дал понять, что сказать ему больше нечего, и повернулся, собираясь скрыться в здании.
В этот момент Лайла шагнула вперед и выкрикнула ему в спину:
– Три года члены «Шаалей Давид» отравляют колодцы, ломают ирригационные сооружения, вытаптывают палестинские сады. Трое членов вашей организации были осуждены за убийство палестинских граждан, причем в одном случае речь шла об избиении до смерти одиннадцатилетнего мальчика рукояткой кирки. Сами вы одобрительно отзывались о деятельности Баруха Гольдштейна и Игала Амира[25]. Чем же вы лучше аль-Мулатхама, мистер Хар-Зион?
Хар-Зион замер на месте, затем медленно обернулся к журналистам. Его глаза пробегали по незнакомым лицам, пока не остановились на Лайле. Она ощутила тяжелый и злой взор политика.
– Может, это вы объясните мне, мисс аль-Мадани, – произнося ее имя, он на миг изменился в лице, словно проглотил горькую пилюлю, – почему араба, который лишил жизни двадцать мирных граждан, называют жертвой, а еврея, защищающего себя и свою семью, осуждают как убийцу?
Лайла не дрогнула под испепеляющим взглядом Хар-Зиона и нанесла ответный удар:
– Итак, вы считаете правомочным убивать мирных жителей Палестины даже при отсутствии агрессии с их стороны?
– Я считаю правомочным то, что мой народ стремится жить в мире и спокойствии на дарованной ему Богом земле.
– Даже если ради этой цели используются методы террористов?
Хар-Зион помрачнел. Остальные журналисты молча переводили взгляд с него на Лайлу и обратно. Автоматная очередь однотипных вопросов внезапно прекратилась – все были заворожены разворачивающейся у них на глазах словесной дуэлью.
– Терроризм на Ближнем Востоке практикует только одна группа населения, – отчеканил Хар-Зион. – Причем не евреи. Хотя из ваших репортажей этого не поймешь.
– Значит, по-вашему, убийство ребенка – не теракт?
– Я бы сказал, что убитый ребенок – жертва войны, мисс аль-Мадани. Однако эту войну начали не мы. – Он немного помолчал, сверля ее глазами, и заключил: – Зато именно мы ее закончим.
Затем, выдержав пристальный взгляд Лайлы, развернулся на каблуках и скрылся в доме.
– Редкая стерва, – выругался шепотом один из сопровождавших Хар-Зиона соратников. – Вот кому не мешало бы пустить пулю в башку!
– Да, наверное, – согласился Хар-Зион, усмехнувшись. – Но не сейчас. Она еще может пригодиться.
Луксор
Развалины Карнакского храма притягивали Халифу, особенно по вечерам, когда поток туристов ослабевал и закат погружал древний ансамбль в светящуюся золотом дымку. «Ипут-Исут» – «самое почтенное место» – так говорили о храме древние египтяне, и он мог их понять: этот полуразрушенный город, будто повисший между небом и землей, действительно окутывала какая-то магическая аура, которая умиротворяла детектива в самые нервозные моменты, словно унося в иное измерение и избавляя от гнетущих проблем.
Но сегодня этого не произошло. Ему не было дела до окружавших его величественных статуй и покрытых таинственными иероглифами стен. Вернее сказать, он попросту не замечал их, поглощенный не отступавшими ни на минуту мыслями. Так, погруженный в себя, Халифа прошел первый и второй пилоны и оказался в стройном лесу колоннады большого гипостильного зала.
Было уже почти пять часов пополудни. Всю первую половину дня инспектор, в соответствии с приказом шефа, разбирался с пожилой английской туристкой, сообщившей в полицию о краже драгоценностей. Три часа он и Сария опрашивали работников отеля, пока старушка наконец не вспомнила, что драгоценности вообще-то с собой не взяла. «Дочка посоветовала мне оставить их дома, – объяснила она, – чтобы не украли. Арабская страна как-никак…»
Развязавшись с взбалмошной англичанкой, Халифа вернулся на рабочее место в полицейском участке. Потягивая сигарету за сигаретой и машинально выводя бессмысленные каракули в блокноте, он непрерывно думал о Пите Янсене, Ханне Шлегель и своем шефе Хассани, недавний разговор с которым еще более раззадорил Халифу. Промаявшись так около часа, он спустился в подвал, где располагался архив участка, – само собой, чтобы полистать папку с делом Шлегель. Халифа понимал, что делать этого не стоит, однако сдержать себя не мог. Тут его ждала очередная неожиданность: папки в архиве не оказалось. Смотрительница архива, старая дева, с незапамятных времен ведавшая материалами закрытых дел, облазила все шкафы, но старания ее успехом не увенчались. Папка бесследно исчезла.
– Просто не могу понять, – в растерянности бормотала она. – Невероятно…
Инспектор вышел из подвала еще более возбужденным и не задумываясь поймал такси до Карнака. Он ехал туда не в стремлении отвлечься от тревожных дум, а чтобы побывать на том самом роковом месте, где убили Ханну Шлегель и куда, по его глубокому убеждению, тянулись нити терзавших душу загадок.
Халифа прошел сквозь стройные ряды папирусообразных колонн большого гипостильного зала, вздымавшихся над ним, словно могучие стволы секвой, и вынырнул наружу через проход в южной стене. До закрытия храма оставалось совсем немного, и охранники стали поторапливать посетителей. Увидев, что на Халифу слова не производят ни малейшего действия, один из смотрителей приблизился к нему и погрозил пальцем. В ответ инспектор показал служебное удостоверение, и охранник вмиг исчез, предоставив полицейскому возможность в тишине продолжать прогулку.
Почему Хассани так категорично запретил ему вновь поднять дело Шлегель? Этот вопрос непрестанно вертелся у Халифы в голове. И почему начальник так нервничал? Все это казалось Халифе подозрительно-странным, и, даже предчувствуя, что навлечет на себя самые серьезные неприятности, оставить вопросы без ответов он не мог.
– Проклятие! – прошипел он, притаптывая сплюнутый окурок и тотчас поднося ко рту новую «клеопатру».
Халифа свернул в сторону юго-восточной части храма, минуя ряды изрисованных иероглифами песчаников, вытянувшихся в гигантскую мозаику. Дойдя до протяженного прямоугольного здания, расположенного несколько в стороне от основной части ансамбля, инспектор замер. Перед ним был храм Хонсу. Окинув трепещущим взглядом величественные стены из обветренного песчаника, Халифа проскользнул через боковую дверь внутрь.
В храме было прохладно и очень тихо. Лишь узкий луч заходящего солнца лился в сумрачное помещение из входного проема в противоположной стене, словно расплавленное золото текло по мощеному полу. Слева к храму прилегал окаймленный колоннами двор; справа располагался еще один открытый двор, а за ним низкий проход вел в главное святилище храма. Прямо перед Халифой в центре здания размещался узкий зал с восемью колоннами – по четыре колонны в ряду. За третьей колонной по левому ряду нашли в свое время труп Ханны Шлегель.
Инспектор подождал, пока глаза привыкнут к мраку, и двинулся вдоль по залу. Хотя за прошедшие годы Халифа несчетное число раз бывал в Карнаке, это строение он намеренно обходил стороной. И теперь, с опаской шагая между колоннами, он страшился посмотреть вниз, ожидая увидеть липкие пятна крови на плитах пола и вычерченный мелом контур лежащего тела. Однако холодные камни храма, самой своей величавой неподвижностью словно воплощавшие бесстрастность, молчали о свершенном некогда преступлении. «Много тут чего было – и хорошего, и плохого, – казалось, говорили они. – Но мы ничего не расскажем».
Дойдя до злопамятной колонны, Халифа присел на корточки, и перед глазами у него воскресла картина многолетней давности. Больше, чем общее состояние тела, его почему-то поразили мелкие, не касающиеся сути дела детали: зеленые кальсоны убитой, заметные в том месте, где юбка обтягивала талию; извилистый рубец на животе, напомнивший ему сбивчивый почерк пьяного человека; а главное, загадочная татуировка, нарисованная потускневшими темно-синими чернилами на левом предплечье, – треугольник и пять цифр под ним. Мафуз объяснил, что это, должно быть, какой-то иудейский символ. «Типа метки на мясе, чтобы знать, откуда оно», – добавил для ясности начальник. Халифу ужаснуло это сравнение убитой с тушей на мясном прилавке.
Он провел ладонью по пыльным плитам пола, выпрямился и взглянул на участок стены за колонной. На ней был выгравирован рельеф с изображением фараона Рамзеса XI и двух богов, совершающих над ним обряд очищения, – Гора и Тота, существа с телом человека и головой ибиса.
Инспектор снова задумался. «Тот» и «цафардеах» – два слова, которые Шлегель успела произнести перед смертью. «Цафардеах» определенно относилось к деформированным ступням Янсена – сомнений это у Халифы не вызывало. Но при чем здесь Тот? Видения помутившегося разума в предсмертном бреду? Или же ответ надо искать глубже?
Втянув очередную порцию никотина, Халифа стал напряженно вспоминать все, что знал о боге Тоте. Мудрость, грамотность, арифметика и медицина – вот за что он отвечал в пантеоне древнеегипетских богов. Тот – а его также называли сердцем Ра, измерителем времени, знатоком Божьих заповедей – в совершенстве владел магией. Именно Тот наделил богиню Исиду чарами, позволившими ей воскресить убитого мужа (и одновременно брата) Осириса. Кроме того, он создал иероглифы и даровал египтянам священные законы. Тот записывал на сердце умершего решение богов об участи покойного в потустороннем мире и ведал перевозкой мертвых душ на серебряной барке в царство мертвых. Культ Тота тесно соприкасался с поклонением луне – его часто изображали с лунным диском над головой. Главное святилище Тота находилось в Гермополисе, в Среднем Египте. Женат Тот был на богине письма Сешат.
Халифа ломал голову, пытаясь вычленить подсказку, которая помогла бы доказать, что слово «Тот» относилось к Питу Янсену. Янсен был, несомненно, очень образованным и эрудированным человеком, он знал много языков и располагал солидной библиотекой. Если бы в Древнем Египте существовала археология, наверняка именно Тот был бы божественным покровителем этой науки…
Однако Халифа чувствовал, что его предположение неточно, что он упускает нечто важное и потому не может разобрать, что на самом деле хотела сказать Шлегель. «А вдруг Хассани прав? – спрашивал себя Халифа, запутавшись в догадках. – Вдруг я действительно обладаю больной фантазией, пытаюсь найти в темной комнате черную кошку, которой там нет? Но даже если прав я, безумием было бы вести расследование за спиной у шефа вопреки его строгому запрету! Это же конец карьере! И ради чего? Ради какой-то старой…»
Из дальнего придела храма послышались шаги. Поначалу Халифа предположил, что в здание зашел охранник. И лишь когда звук шагов стал слышен отчетливее, он понял, что для мужчины они слишком мягки. Спустя несколько секунд в зал с южного входа вступила женщина в джеллаба суда[26]. В руках связка диких цветов, в черном платке, и лица практически не видно. Солнце уже зашло, храм погрузился во мрак, и вставшего за колонной Халифу женщина не заметила. Она подошла к месту, где умерла Ханна Шлегель, скинула платок и, присев, положила на пол цветы.
Халифа вышел из-за колонны.
– Здравствуй, Нур, – обратился он к ней.
Она подскочила и стала в испуге озираться по сторонам.
– Не бойся, ради Бога! – успокоил ее Халифа, подняв руку в подтверждение своих слов. – Я не хотел тебя напугать.