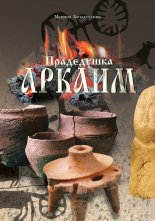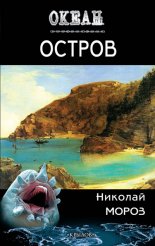Любовь и СМЕРШ (сборник) Шехтер Яков
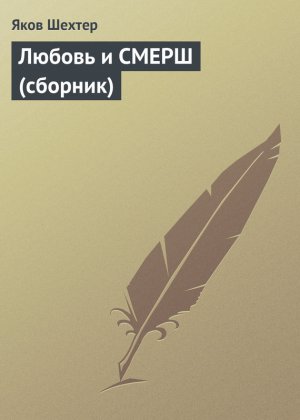
Из кухни высунулась курчавая голова хозяина. Он довольно оглядел зал и подмигнул посетителям – ну как, мол, – нравится?
«Сами виноваты, – подумал Сёма, – нечего ходить по восточным ресторанам. А чего ты ожидал услышать – Моцарта?» Мысль показалась ему настолько абсурдной, что он улыбнулся.
– А он еще смеется, – грустно прокричал Лазарь. – Сколько спиногрызов успел заделать?
– Чего-чего? – прокричал в ответ Сёма.
– Киндеров, – спрашиваю, – сколько?
– Пока нет.
– У-ф-ф, – Лазарь расслабленно улыбнулся. – Значит, можно спасать. Не волнуйся – никаких шикс – я тебе подберу, как субботнюю халу – побелее и послаще.
– Я женат, – прокричал Сёма, – понимаешь, хупа, свидетели, раввинат.
– Какая еще хупа, нет такого понятия – хупа с шиксой.
Теперь пришла Сёмина очередь остолбенеть.
– Ты что, сглузду зъихав, посмотри на фотографию ее дедушки, да у него пейсы до пояса!
– Маскировка! – объявил Лазарь. – Не было этого никогда. Во всем сионисты виноваты. Солдат у них не хватало, вот и завезли сюда арабское племя, натащили арабскую музыку, арабскую еду. Об этом тебе в любой ешиве расскажут.
Он брезгливо ткнул вилкой в блюдечко из-под хильбе. Его пальцы напоминали аккуратных, ухоженных кабанчиков.
– Не строй из себя идиёта – давай свой телефон и начнем лечиться.
Спустя два часа, когда полуоглохший и пьяненький Сёма стучал в свою дверь, предложение Лазаря еще казалось ему чудовищным. Прошло несколько дней. Мысль обтерлась, притулилась с краю и, найдя себе место где-то между «бред собачий» и «все может случиться», уже не казалась такой невозможной.
Лазарь позвонил через две недели.
– Приветик! – сказала трубка. – А приходи завтра к семи в «Свинтус» – литовский кабак на Герцль. Назови свое имя – столик я заказал. Посидим, потравим.
– Да я, – начал было Сёма, – халтурю до восьми, и вообще…
– Никаких вообще, – отрезал Лазарь. – Вообще передай, что старый друг, светлые года, у джигитов есть свои законы. Понял?
– Понял, – сказал Сёма.
Ему вдруг стало так просто и легко на душе – кто-то точно знал, как надо, кто-то желал ему добра и платил за это, и, в конце концов, о чем шла речь, посидеть два часа в ресторане со школьным другом – а сколько можно ишачить, в конце-то концов и у него есть право на личную жизнь, а хватит!
Ресторан оказался довольно уютным; приглушенный свет торшеров, массивные столы из светлого дерева, негромкий оркестрик.
– Не сыпь мне соль на рану, – полушептал в микрофон солист в расшитом блестками пиджаке, – она еще болит!
Руками он пытался изобразить, как невидимый публике злодей с невероятным упорством посыпает его солью. Ран, судя по жестикуляции, было много, но и соли хватало; пока солист отряхивал ее с одной половины тела, вражина успевал подобраться к другой.
Сёму усадили в глубине зала. Разбитной светлоголовый парнишка ловко приволок поднос, раскидал по столу два прибора, заиндевелую бутылку водки, тарелки с закусками, раскрыл меню на рубрике «Главные блюда» и удалился.
Оркестрик тянул знакомую мелодию, но Сёма никак не мог припомнить слов. Музыка нежно касалась его натруженных рук, обвивалась вокруг загорелой шеи и ласково заглядывала в усталые глаза под сурово нахмуренными бровями.
– Господи, да ведь это же «Синий троллейбус»! – ахнул Сёма.
Автоматически, словно повинуясь приказу, он сорвал жестяной колпачок, налил полный бокал ледяной водки и залпом выпил.
– Последний, случайный, – сразу всплыли слова.
Сёме стало грустно, потом обидно, потом отчаянно жалко чего-то хорошего и правильного, оставшегося там, за хрустальной линией судьбы. Защекотало в носу, слеза любви и жалости к себе холодной льдинкой скользнула по щеке.
Сёма достал из стаканчика салфетку и основательно высморкался. Прямо посредине второго сморка его окликнули.
– Извините, вы – Сёма?
Сёма поспешно скомкал наполненную соплями салфетку и поднял голову.
Все в ней казалось большим: широко подведенные глаза, ворох черных с проседью волос, небрежно заброшенных за спину, наполненная до треска черная блуза, серебряная пряжка на выпуклом животе и крупные, круглые колени, затянутые в сверкающий капрон.
– Лазарь задерживается, – сказала она, – и попросил вас немного развлечь. Меня зовут Виктория, Вика.
Рука была теплой и сильной, и у Сёмы вдруг заныло, защекотало между лопатками. Ощущение было таким, будто к спине приложили грелку.
Вика приехала из Белгорода-Днестровского, небольшого украинского городка, и работала в русской газете, составляя недельные гороскопы и кроссворды. Откуда она набралась астрологической премудрости, Сёма не стал выяснять, но разговор как-то сразу скатился на даты рождения, знаки Зодиака, предсказание будущего.
– Я и по руке умею, – сказала Вика после первой рюмки. – Хотите, погадаю?
Какой же человек не захочет узнать будущее? Даже самые откровенные скептики, обрушивающие на предсказателей и астрологов ниагары ядовитых замечаний и подколок, наедине с собой тоже заглядывают в недельный гороскоп. Каждому представляется, будто завтрашний день окажется лучше предыдущего. Ужасная, роковая ошибка!
Теперь грелку приложили и спереди. Объясняя смысл каждой линии, Вика осторожно поглаживала Сёмину ладонь мягкими подушечками пальцев, иногда чуть подцарапывая гладкими ноготками.
И хоть говорила она на полупонятном астрологическом жаргоне, составленном из неизвестных Сёме слов и понятий, речь шла о другом, совсем о другом, куда более простом и понятном.
– Потанцуем, – вдруг сменила тему Вика.
Она оказалась выше его, и Сёма в смущении затоптался перед столиком.
– Это туфли, – сказала Вика и нетерпеливым движением сбросила их с ног.
– Ну, как сейчас?
Сейчас тоже было высоковато, но отказаться после такой самоотверженности Сёма не мог.
– Женщина никогда не бывает выше мужчины, – шептала Вика, склонив голову ему на плечо, – только длиннее, только длиннее…
Лазарь так и не появился. На прощание она вытащила из сумочки маленький блокнот и быстро записала адрес и телефон.
Листок источал тяжелый, густой аромат и грел Сёмино бедро даже через карман брюк.
Братья, как обычно, сидели под деревом. Не успел Сёма постучать, как дверь распахнулась. Сагит с почтением провожала старого тейманца с седыми пейсами, «хахама». Он уже несколько раз приходил к ним, но Сёма никогда не интересовался целью его визитов.
«Их, тейманские дела, – думал он. – Зачем я буду вмешиваться? Подвоха от такого старика ожидать не приходится, пусть себе ходит».
Хахам ушел, но Сёмино любопытство, подогретое водкой и грелками, потянуло его за язык.
– Объясни наконец, зачем к нам таскается этот дед? – спросил он, удивляясь легкости, с какой слова слетали с его губ.
– Я отдаю ему нашу цдаку, – неожиданно просто призналась Сагит.
– Какую такую цдаку?
– Десять процентов от зарплаты. Тем, кто так поступает, везет в жизни.
Сёме показалось, что он ослышался.
– Десять процентов! Ты отдаешь этому старому болвану такую кучу денег! А почему мне ничего не известно?
– Вот теперь известно, – улыбнулась Сагит. – Меня этому научила бабушка, в нашей семье все так поступают.
Опять бабушка! Сколько можно строить жизнь по заветам немытой тейманки! Тепло переместилось вовнутрь, под ложечку, от обиды и горечи стало трудно дышать.
– Я пашу, как ишак, – заорал Сёма, – работа, халтура, откладываю каждый шекель… Домик, свой домик!.. А ты кидаешь неизвестно кому такие куски! Дрянь, мотовка бесстыжая!
Тепло выкатилось из-под ложечки и бросилось в пальцы правой руки. Сёме показалось, будто сердце непонятным образом сдвинулось с места и затрепетало в его ладони. Он поднял руку, чтобы показать его Сагит, и вдруг, неожиданно для себя самого, отвесил ей оглушительную оплеуху. Сагит отбросило назад, она ударилась головой о стенку шкафа и тоненько завыла. Щека мгновенно стала пунцовой, Сагит спрятала лицо между ладоней и продолжала выть, глядя на Сёму испуганными глазами. Что больше повлияло на него, этот тонкий, противный писк или черные, дрожащие от боли глаза? Сколько раз он пытался восстановить, разобраться, выяснить – откуда поднялась в нем дикая, головокружительная ненависть…
Он бросился к Сагит, разодрал, раскинул в стороны мокрые от слез ладони, и, обхватив обеими руками коричневую шейку, принялся душить. Сначала чуть-чуть, так, чтобы попугать, а затем все сильнее и сильнее. Сагит била его ногами, стараясь попасть в пах, рвала ногтями лицо, но скоро ее сопротивление ослабло, в уголках перекошенного рта показались пузырьки пены, тело задергалось в конвульсиях. Краем уха Сёма слышал глухие удары, словно кто-то с разбегу ломился в дверь.
Сагит захрипела. Дверь слетела с петель, и братья ворвались в комнату. Оторвать Сёму от сестры оказалось для них секундным делом. Пока один укладывал ее на диван, второй занялся Сёмой. Попытки сопротивляться ни к чему не привели, военную службу братья провели в парашютных войсках. После второго удара Сёма потерял сознание.
Когда он очнулся, в комнате никого не было. Преодолевая боль, он поднялся с пола. Голова гудела, ноги дрожали мелкой противной дрожью. Испуганный попугай метался по клетке.
– Ради всего святого, Соломон! Ради всего святого Соломон! – кричал попугай.
В пустом проеме двери показался один из братьев. Он молча вошел в комнату, сгреб с дивана шерстяной плед и направился к выходу. У порога он обернулся:
– Идиёт, – сказал брат скорее устало, чем злобно. – Иди, проверься как следует. Ты чуть не задушил ее до смерти.
«Вот и хорошо, вот и ладно, – подумал Сёма. – И ладно, и хорошо, и пусть, и замечательно…»
Он схватил клетку с попугаем, сумочку, в которой лежали водительское удостоверение и чековая книжка, и выбежал из комнаты. Из-за сильного волнения он поехал не как обычно, а вывернул сразу на центральную улицу и тут же попал в пробку. Куда ехать, Сёма не знал, но оставаться на месте было невозможно.
Заморосил дождь. Первые тяжелые капли, разбиваясь о пыльное ветровое стекло, оставляли на нем знаки, похожие на отпечатки кошачьих лап. Капля посередине и пять брызг по сторонам, капля посередине и пять брызг…
Дождь усилился, стекло затянуло слоем белой, похожей на саван, воды. Пробка не рассасывалась. Тормозные огни стоящей впереди машины окрашивали Сёмины руки в красный цвет. Он прикоснулся пальцем к лицу; палец тоже был красным, но уже по-другому.
«Кровь, – заплакал Сёма. – Она ведь разодрала мне все лицо».
Он сунул руку в карман за платком. Платка не оказалось, вместо него на ладони лежал листик бумаги, источавший тяжелый, густой аромат.
«Вот и хорошо, вот и ладно», – подумал Сёма.
Теперь он знал, куда ехать.
Первые полгода Сёма не работал. Вернуться на стройку Вика ему не разрешила.
– Хватит, наломался, теперь у тебя есть право немного отдохнуть.
Пособие по безработице оказалось неожиданно большим, особенно по сравнению с зарплатой, которую платили Вике в газете.
Сёма блаженствовал – вставал поздно, не спеша завтракал, надевал огромное соломенное сомбреро и уходил к морю. Вика снимала квартиру в Яффо, и до скамейки с видом на скалу Андромеды можно было дойти за пятнадцать минут.
К Средиземному морю лучше всего приходить утром. Солнце стоит высоко за спиной, его короткие горячие лучи пронзают зеленую воду до самого дна. Сёма усаживался на скамейку под деревом и несколько часов смотрел вниз: на шумную возню яффского порта, игру света в окнах высотных домов на плавной дуге тель-авивской набережной, неспешные забавы ленивых портовых котов. Во всем этом пестром, нескончаемом движении присутствовал свой неповторимый ритм; Сёма прислушивался, находил нужную точку и уплывал. Точка каждый раз оказывалась в другом месте: иногда в медленном накате прибоя, шипящем на черных камнях волнолома, иногда в тарахтении мотора рыбачьей лодки, скользящей по сверкающей глади внутренней гавани. Изломанное, прерывистое дыхание Сёмы сливалось с этим глубоким, спокойным ритмом, принося успокоение и прохладу. Он то ли спал, то ли впадал в транс, мир свободно входил в его душу через широко открытые глаза и так же спокойно возвращался обратно. Когда последние остатки страха и неуверенности вымывались из организма этим веселым, сияющим потоком, Сёма поднимался со скамейки, доставал из кармана составленный Викой список покупок и отправлялся по магазинам.
Гости к Вике приходили каждый вечер. В основном сотрудники разных русских газет, среднего возраста, шумные, хохотливые евреи. Почти все они приехали из маленьких городов южных республик бывшего Союза, где работали в заводских многотиражках или на районном радио. Этих в общем-то симпатичных и остроумных людей объединял общий комплекс неполноценности; они без конца рассказывали невероятные истории про победы на литконкурсах, публикации в центральной прессе, знакомства с известными журналистами и писателями. Рассказчики беззастенчиво врали – слушатели, прекрасно зная, что девяносто процентов рассказанного враки, тем не менее, искренне удивлялись и сопереживали. Все это походило на некую игру, групповую психотерапию.
Гости приходили со своей водкой, благо стоила она сущие пустяки, а хозяйка выставляла символическую закуску. Пьянели быстро, но не глубоко. Разговор начинался с очередного вранья, обязательного, как прием лекарства, а после рассыпался, раскатывался по всей квартире. Говорили о литературе, в основном о русской, вспоминали стихи, свои и чужие, пели песни, о синем московском снеге, сырой палатке, таежных закатах. Иногда Вика низким грудным голосом декламировала стихотворение, всегда одно и то же. Гости замолкали, напряженно прислушиваясь, то ли к ее голосу, то ли к тому, что происходило внутри у каждого.
– Но мы сохраним тебя, русская речь, – почти выпевала Вика, – великое русское слово!
Судя по частоте употребления, этим великим словом являлось нецензурное обозначение мужского члена. С него начинали и им же заканчивали, оно было запятой, многоточием и восклицательным знаком. Половина всех шуток и каламбуров вертелось вокруг него, коротенького, как выдох астматика.
Расходились поздно, обкурив квартиру до посинения. Попугай дурел от никотина, прятал голову под крыло и сердито кричал:
– Nevermore! Nevermore!
Такая жизнь представлялось Сёме необычной и увлекательной. Услышав по русскому радио знакомый голос, он вспоминал вчерашние проделки его обладателя и улыбался улыбкой понимания и причастности.
Изредка появлялся Лазарь. Он приволакивал с собой огромную сумку ресторанных лакомств, Вика раскладывала деликатесы по пластмассовым одноразовым тарелочкам, и начинался пир. Громовой голос Лазаря с легкостью перекрывал говорок журналистов; он шутил и сам смеялся над своими шутками, предлагал петь и тут же запевал, нимало не смущаясь полным отсутствием слуха.
Сёму он покровительственно хлопал по заднице и беззастенчиво объявлял во всеуслышание:
– Ну, не жалеешь? Сравни, что имел раньше и что держишь теперь. Не женщина, а сахар, а вата! а мальвазия! цветок душистый, пряник лакомый!
Про Сагит Сёма почти не вспоминал. Несколько раз звонила мама, пересказывала последние реховотские новости. Овадия приходил к ней, просил подействовать на Сёму.
– Или вернись обратно, – передавала мама, – или дай девочке гет, разводное письмо.
Но о разводе Сёма и слышать не хотел. Шрамы от ногтей Сагит жгли лицо, неистребимое зловоние хильбе мутило голову. Одно только воспоминание о братьях приводило его в бешенство.
Душа жаждала мести, кровавой и беспощадной, как сицилийская вендетта.
– Успокойся, дурачок, – осаживала его Вика. – Возьми лучше деньгами. Ведь эта копченая семейка в твоих руках. Поводи, поводи их за нос, а потом назначь достойную сумму. Пусть знают, как поднимать руку на белого человека!
Всему на свете приходит конец – и хорошему и плохому.
Пособие по безработице кончилось, и, хоть деньги на счету еще оставались, сухое томление овладело Сёминым сердцем. Расслабиться на скамейке больше не удавалось, ритм ускользал от его слуха, а мысли, как заведенные, возвращались к одной и той же мысли: что будет завтра, что будет завтра, что будет завтра…
Однажды Вика вернулась из редакции в приподнятом настроении:
– Ну, котик, пляши, – сказала она, едва переступив порог. – Я нашла для тебя хорошую работу.
Место и вправду оказалось удачным. Сёма устроился ночным сторожем в громадном здании, битком набитом разными конторами и офисами. Среди них была и редакция Викиной газеты. Делать ничего особенного не требовалось: за ночь Сёма обходил три-четыре раза этажи, проверял, не пахнет ли паленым, не течет ли вода из незакрученных кранов, а все оставшееся время дремал в своей каморке перед телефоном. Несколько раз за ночь звонили из центральной конторы, спрашивали, все ли в порядке. Сёма рапортовал бодрым голосом и дремал дальше. Платили за это немного, но Вика не привередничала:
– Проживем как-нибудь, – говорила она, поглаживая Сёму вдоль позвоночника. – Сколько коту нужно для счастья – миску молочка и чтоб кто-нибудь погладил по шерстке.
Вика мурлыкала, прижималась к Сёме горячим, мягким телом, и все напасти и проблемы начинали казаться мелкими и преходящими.
У новой работы был только один недостаток – ночь Сёма проводил не рядом с Викой, а на деревянном стуле. Поставить раскладушку или хотя бы кресло начальство не позволяло, справедливо полагая, что такое нововведение резко снизит бдительность сторожа. Кроме того, уходить на работу приходилось каждый раз в самый разгар застолья, и контраст между шумным, веселым домом и темными, безмолвными коридорами действовал на Сёму не лучшим образом. Когда гости расходились, Вика звонила. Они мило болтали несколько минут, и Сёма вновь оставался один.
К середине ночи тишина достигала своего пика. Переставали шуметь машины, развозившие зрителей из ночных ресторанов и вечерних спектаклей, и все вокруг погружалось в тяжелое, густое безмолвие. Сёма включал радио, но тонкий писк динамика только подчеркивал громадность и всевластие тишины, ее глухая стена словно отгораживала Сёму от живого, трепещущего мира. В голову лезли дурацкие мысли, ему чудилась Лукреция, ее протяжный, умоляющий голосок. Не хватало воздуха, Сёма выбегал из здания, смотрел на теплый свет уличных фонарей, пытаясь уловить шум далекого моря. Одиночество становилось немыслимым, невозможным; ему казалось, будто он замурован в нем навечно, навсегда, и гибнет, задыхаясь от миазмов собственного дыхания.
В одну из таких ночей Сёма не выдержал. От работы до Вики его отделяли пятнадцать минут езды, а ночью – и того десять.
«Проверяющим скажу, что был на обходе, – решил Сёма, – десять минут туда, десять обратно, полчаса с Викой – никто и не заметит».
Дверь он открывал потихоньку, изо всех сил стараясь не шуметь.
Ему хотелось незаметно проскользнуть к постели и разбудить Вику поцелуем, как принц из старой сказки.
В спальне горел свет.
– Наверное, уснула над книжкой, – с нежностью подумал Сёма и открыл дверь.
Они лежали на постели, мокрые от недавно законченной любовной игры. Покрытое черными, блестящими волосами, тело Лазаря казалось еще чернее по сравнению с белизной Викиной кожи.
Сёма онемел. О таком он читал только в книжках и представить себе не мог, что с ним может случиться нечто подобное.
Кровь гулко заходила, зажужжала в артериях, прилила к лицу, зашумела в ушах.
– Не сопи, словно буйвол, – сказал Лазарь нарочито небрежным голосом, – человеком надо оставаться в любой ситуации.
Сёма сжал зубы и бросился на него. Шансов не было никаких, даже из детских схваток Лазарь всегда выходил победителем. Но подобраться к другу юности Сёма не успел. Вика, изогнувшись, ударила его в грудь своей круглой, похожей на полированное копыто пяткой.
У Сёмы перехватило дыхание. Удар пришелся точно под ложечку – магма всех вулканов мира взорвалась в его груди. Он перегнулся пополам, горячая лава заполнила гортань, не давая вдохнуть. Судорожно, глоток за глотком, он пытался втянуть воздух в онемевшие легкие. Вика нацепила на его склоненную шею сумку с документами, подтащила к входной двери и коротким пинком выставила наружу. Через минуту дверь приоткрылась, и на коврике возле скрюченного Сёмы появилась клетка с попугаем.
– Забирай свое насекомое, – злобно бросила Вика.
Сёма завыл. Говорить он не мог, судороги икоты разрывали гортань. Тяжелые, словно расплавленный свинец, слезы наполнили рот.
– За что, – с трудом выдавил Сёма, – за что?!
Тень жалости промелькнула по лицу Вики.
– Неужели ты еще не понял, дурачок? – почти ласково сказала она. – Жена Лазаря ужасно ревнива, вот я и взяла тебя в дом, чтобы отвести подозрения.
Дверь захлопнулась. Жить дальше было совершенно незачем. Оставалось только решить, каким способом уйти из этого мира.
Долго мучиться Сёма не хотел, мгновенная смерть от яда или пули представлялась ему наиболее желанным исходом. Он сидел на скамейке и, устремив остановившийся взгляд на скалу Андромеды, соображал, где достать оружие. Как назло, голова плохо работала, мысли скакали, словно волны перед волнорезом, – с трудом собранные вместе, они тут же разлетались в стороны, будто морские чайки за кормой корабля. Пахло соленой водой, свежий ветер перебирал листья над головой у Сёмы, промокшая от слез рубашка холодила грудь, а он все сидел и сидел, не в силах сдвинуться с места…
В первой же аптеке Сёма купил снотворного – немного, потому что без рецепта. Поехал во вторую, третью. Через час он проглотил целую горсть выпрошенных у сердобольных аптекарей таблеток, запил водой из фонтанчика и снова уселся на скамейку. Ничто не изменилось: ветки над головой шуршали свою мелодию; тарахтя моторами, возвращались рыбачьи лодки с ночного лова. Он подумал: «Что будет с мамой?» Его похоронят скорее всего в Реховоте, где-нибудь у ограды, а может быть и нет, она будет приезжать к нему два раза в день, приносить свежее молоко, булочки, голландский сыр…
«Какое молоко, какие булочки, – оборвал себя Сёма. – Зачем ему голландский сыр, даже такой вкусный, как у Вики, она покупает его в магазине деликатесов, совсем недорого, а за сколько, вот за сколько, он никак не может сообразить, сколько же стоит голландский сыр, в русском магазине, прямо напротив остановки автобуса…»
Он попытался вспомнить вчерашний список покупок и тоже не сумел. Мысль могла охватить лишь близкое, расположенное прямо напротив глаз. Мир сузился до размеров век, с их черной бархатистой основы медленно стаивал серебристый оттиск списка покупок. Если быстро перефокусировать глаза – как бинокль – может, удастся рассмотреть, сколько же стоит голландский сыр, и кто стоит там, в глубине, за сиреневой завесой поперек бегущих облаков.
Если вы хотите спокойно покончить с собой – никогда не делайте этого в Тель-Авиве. Выберите какой-нибудь другой город, а лучше всего – другую страну. Евреи слишком любопытный народ, чтобы дать кому-нибудь умереть в одиночестве.
Не успела Сёмина голова склониться на грудь, как старичок, выгуливающий спозаранку свою собачку, заподозрил неладное.
Якобы влекомый собакой, он несколько минут описывал вокруг скамейки сужающиеся круги, пока не приблизился вплотную.
– Молодой человек, вам нехорошо? – спросил старичок, слегка встряхивая Сёму.
Сёма не ответил. Старичок повторил вопрос. Вновь не получив ответа, он с ловкостью старого сердечника прощупал пульс и побежал к телефонной будке.
Из больницы Сёма вышел совсем седым. Где витала его душа, к каким тайнам успела прикоснуться, в какие бездны заглянуть – никто не знает. Он развелся с Сагит, порвал старые связи и, неожиданно для всех, переехал жить в ешиву.
– Ход конем, – рассудили многоопытные родственники. – Лучше таскать груз заповедей, чем поддон с кирпичами. Идиёт, идиёт, а свою пользу знает!
– Еще один паразит, – постановил Лазарь. – Впрочем, он всегда норовил на дармовщинку.
– Самые злые критики выходят из неудавшихся писателей, – решила журналистская компания Вики. – Вот выучится Сёма на раввина и будет нас, многогрешных, учить уму-разуму. Со всей беспощадностью неофита.
Мама несколько дней плакала и рылась в семейном альбоме. Отыскав пожелтевшую фотографию сурового старика в высокой черной ермолке, она успокоилась.
– Сёмин прадедушка был старостой синагоги, – сказала она папе. – Может, это у него фамильное…
И лишь Овадия, узнав о безрассудном поступке бывшего зятя, уважительно покачал головой.
Учение у Сёмы не пошло. На уроках он моментально засыпал, а разобрать лист Талмуда было для него непосильной задачей.
Через полгода он сдался и устроился на работу в той же ешиве.
Сёма моет полы, чистит кастрюли, сдает в стирку белье. От брачных предложений он отказывается наотрез; женщины его больше не интересуют. Живет он в маленькой комнатке подвального типа на первом этаже ешивы. Все заработанные деньги Сёма тратит на ешиботников, покупает им лакомства, чтобы лучше учились, новые галстуки, носовые платки. Он по-прежнему посещает уроки и по-прежнему засыпает после второй фразы преподавателя.
На вопросы любопытных Сёма отвечает:
– Душа… душа слышит…
Ешиботники за глаза называют его праведником и перед экзаменами приходят просить благословения.
– Какое еще благословение, – ворчит Сёма, – учиться нужно как следует…
Прошлое словно стерлось из его памяти. Иногда ему кажется, будто он родился и вырос здесь, в цокольном этаже ешивы. Плавное течение дней перемежают спокойные ночи; большой мир, наполненный опасностями и соблазнами, бушует снаружи, не в силах прорвать старые, толстые стены. Во сне Сёму навещают давно умершие раввины в шелковых сюртуках и шапках из лисьего меха. Они присаживаются на краешек кровати и, раскачиваясь, толкуют о заповеди «Не убий».
Перед самым рассветом Сёма просыпается и долго лежит с открытыми глазами, прислушиваясь к стуку собственного сердца.
Страшная гостья больше не приходит, он наконец обрел то, что безуспешно искал под хупой и в объятиях Виктории.
И лишь когда зимние тучи закрывают небо над Бней-Браком, а в его каморке становится темно, как в подвале, Сёма подходит к клетке с попугаем и перебирает прутья холодными пальцами.
Прутья звенят, словно голосок Лукреции. Попугай высовывает голову из-под крыла и кричит, подражая бывшей хозяйке:
– Ради всего святого, Соломон!
– Ради всего святого, – отвечает Сёма и горько, горько плачет.
Мэтр и Большая Берта
фуга в ми мажоре
…и шестикрылый серафим на перепутье мне явился…
А. С. Пушкин
«Религиозная. Совсем девчонка. Длинная синяя юбка из блестящего, льющегося материала, белая блузка с рукавами до запястий. Ворот застегнут по самое горло на ровные, глянцевые пуговички в три ряда.
Глаза – огромные, миндалевидные, брови как мохнатые шнурочки, припухлые губы без тени помады, ей бы еще шоколадки грызть или что они тут грызут, ан нет, уже выгнуты в преддверии поцелуев.
Нос, правда, можно уменьшить. Сейчас недорого берут, раз-два и какой хотите, с горбинкой или прямой аристократический. А вот грудь не мешало бы приободрить…
Восточная, наверное. Кожа хоть и светлая, но с темным налетом. Говорят, они как огонь, если приручишь. Где там, приручишь, ишь, косится, словно испуганная газель. А волосы собрала пучком на затылке, будто чеховская курсистка.
Хороши волосы! Густые, с блеском. На шампуни небось не жалеет. С деньгами проблем нет – такую кожаную сумку не всякий себе позволит. Значит, и на шампуни хватает. Конечно, хватает, вон как блестят, а пахнут, наверное, хвоей, будто нагретый солнцем бор в середине августа».
Все это просмотрел и продумал за несколько секунд журналист крупной тель-авивской газеты Аркадий Межиров, потея в автобусе кооператива «Эгед». Он стоял в конце прохода, устало повиснув на поручне, и от нечего делать разглядывал девушку. Ехали они вместе уже давно, но синее марево компьютерного экрана, перед которым Аркадий просидел десять часов, только сейчас расступилось, нехотя отпустив сначала девушку на переднем плане, а за ней других пассажиров, водителя, огни светофоров и лакированные спины машин. Девушка была симпатичной, нет, красивой, очень красивой, и Аркадий рассматривал ее с явным удовольствием. Удовольствие, впрочем, носило чисто платонический характер – шансов на сближение с красоткой было не больше чем на флирт с Венерой Милосской.
В автобусе работал кондиционер, но рука, сжимавшая поручень, все равно потела, и горячие капли стекали прямо под мышку. Возвращался Аркадий из редакции перечерканный, словно многократно правленный текст. Девушка лишь на минуту привлекла его внимание, он опустил глаза и вернулся к своим мыслям, серым и мятым, как дешевая туалетная бумага.
Работа выжимала из него все соки, заодно с той, не взвешиваемой, но весьма весомой субстанцией, именуемой «душа». Дни до рвоты походили один на другой; девять, десять часов в редакции, расслабуха с приятелями под водку и приевшиеся закуски, выходные, заполненные не приносящим облегчения сном. Хозяин газеты требовал от Аркадия две полосы в день, двенадцать в неделю, сорок восемь в месяц. И он давал, поскольку мыть туалеты на бензоколонках или подтирать сморщенные стариковские задницы было еще противней.
Писал Аркадий спинным мозгом, отключив голову, но получалось неплохо, зло и с оттягом; многим нравилось. Не нравилось только самому Аркадию, да деваться было некуда, и он строчил, дурея от мерцания экрана, а вечером тяжело и мучительно отходил, переживая нечто среднее между похмельем и угрызениями совести.
Он еще раз взглянул на девушку; осталось только рассмотреть пальцы, чтобы понять о ней все. Словно подвигаясь к выходу, Аркадий сделал несколько осторожных шагов, придвинувшись почти вплотную к объекту наблюдения. Объект разжал кулачок и брезгливо отодвинул руку. Ладонь раскрылась всего на несколько мгновений, но этого оказалось достаточно – ногти были выгрызены почти до мяса.
«Фикция, все фикция, – сурово отметил Аркадий. – И длинная юбка, и стыдливые пуговички у ворота. Под ними бушуют вполне понятные страсти, и пальчики эти наверняка уже проложили дорогу в другие, более заповедные места».
Он зажмурился, представив прохладные ложбины, тенистые бугорки, плавное течение воды, неспешно и влажно перебирающее водоросли на краю омута, мерное поскрипывание уключин и внезапный, как всегда, обвал комьев, от самой кромки обрыва прямо туда, в воспаленно дрожащее зеркало.
«А ведь тоже, учить начнет. Просвещать, указывать. Возлюби ближнего вместо самого себя! Но как главу государства убивать, так тут как тут, фарисеи недобитые. В Тель-Авив с поселений, небось, прикатила, вон кроссовки грязью перепачканы, а где ее отыщешь летом в Тель-Авиве, грязь-то?»
Он опустил голову и принялся укоризненно разглядывать перепачканные кроссовки.
«Привести себя в порядок некогда. До того ли! Все великие идеи в голове, планы миссионерские, по массовому возврату населения в лоно иудаизма. Обидно только, что такая хорошенькая!»
Девушка заметила наконец косые взгляды Аркадия и смутилась. Левой рукой она крепко прижала сумку, а правую, отпустив поручень, испуганно поднесла к груди. Было в ее смущении нечто чрезмерное, избыточное для простой автобусной переглядки.
«Интересно, что она прячет? Не деньги ведь, откуда у такой пигалицы большие деньги. Хотя, может, они большие только в ее представлении.
А может, – фантазия Аркадия, натренированная непрерывным писанием детективно-приключенческой бурды, понеслась вскачь, – может, там револьвер, листовки и план убийства нынешнего премьера».
Честно говоря, против убийства нынешнего премьера Аркадий не возражал, но смущение девушки и вправду перешло границы нормального, а на лице появилась гримаса совсем не нафантазированного страха.
«Ишь ты! – удивился Аркадий, отводя глаза и делая равнодушное лицо, – может, она меня за полицейского агента принимает, за провокатора. Морда моя в самый раз для такого дела; тусклая, без особых примет, если чем и выделяюсь, то трехдневной щетиной. А что бриться человеку больно, что кожа раздражается на жаре – понять не может. Писюшка наивная, но мысли исключительно о великом. Хлебом не корми, дай Отечество поспасать».
Провокатор! Перед глазами поплыли проулки южного Тель-Авива, сумрачные фасады старых домов на Алленби, таинственные лица заговорщиков в больших вязаных кипах, пакеты из плотной коричневой бумаги, «случайно» забытые на скамейке бульвара Ротшильд, и вообще весь сопутствующий сыску видовой ряд.
Мысль, поначалу безумная, стала нравиться ему все больше и больше. Он примерил на себя шпионское платье: надвинул поглубже серую шляпу, чуть приспустил темные очки и небрежно оттопырил руку с зонтиком-тростью, в недрах которого скрывались кинжал, портативный радиопередатчик и складной пулемет. Губы сами собой сложились в презрительную улыбку, а щетина на щеках встала дыбом, словно шерсть на спине у кота. Роль ему нравилась. Было в ней что-то от настоящей жизни, подлинное, как бергамотовый запах лондонского чая «Еаrl Grеy».
Он поднял голову и бросил осторожный взгляд на девицу. Перемена, произошедшая с Аркадием, испугала ее до неприличия. Пухлые губы задрожали. Вцепившись обеими руками в сумку, она бросилась к выходу.
«Нет, точно заговорщица, – подумал Аркадий. – Иначе с чего так мельтешить?»
Он взглянул в окно. Автобус давно проехал нужную остановку, приключение затянулось, пора было возвращаться.
Не обращая внимания на возмущенные взгляды и возгласы, Аркадий протолкался к выходу и выскочил на горячий асфальт тротуара. Девушка успела отбежать довольно далеко. Аркадий улыбнулся и вдруг, вместо того чтобы перейти на другую сторону улицы, к остановке автобуса, идущего в обратном направлении, припустил вслед за ней.
«А что, – подумал он на бегу, – славненько может получиться. Глядишь, и материал подсоберется, не все же лапу сосать».
Лапа, по правде говоря, была обсосана до самой кости. В ход пошли воспоминания детства, студенческие шутки и споры, анекдоты, рассказы родственников, друзей и случайных попутчиков – газета, будто гигантские жернова, перемолола жизнь Аркадия. Впечатления безвозвратно покидали организм, оставляя бледное пятно, словно закрытая для использования функция на экране компьютера. А тут материал сам шел, нет, сам бежал в руки, красивый, изящный, легконогий материал.
Перед столиками кафе, вынесенными прямо на тротуар, преследуемый объект приостановился и, обернувшись, взглянул прямо на Аркадия.
Бедная, наверное, она надеялась, что происходящее – просто игра ее воображения или случайное стечение обстоятельств. Увы, уколовшись о трехдневную щетину преследователя, надежда лопнула, словно воздушный шарик.
«Шалишь», – подумал Аркадий и, чтоб наподдать жару, грозно насупил брови.
Роль преследователя нравилась ему все больше и больше. Он тут же вообразил открытый процесс над выслеженными по его наводке членами еврейского подполья: «встать, суд идет», «последнее слово» и прочие атрибуты юридического протокола поползли муравьями вдоль позвоночника. Не славы, не славы искал Аркадий, а хлеба, скромного хлеба насущного, смоченного слезами и спинномозговой жидкостью.
«Б-р-р-р», – он представил себе такой кусочек и скривился, словно уже откусил и должен проглотить.
Девушку этот жест привел в настоящее отчаяние. Мотнув головой, она побежала напрямик сквозь кафе, грациозно лавируя между ногами посетителей и спинками стульев. Аркадий ломанулся было за ней, но его остановил официант, чернявый парнишка в белой форменной куртке. Куртка была плохо застегнута, и обильная для такого возраста растительность торчала из прорех на груди.
– Тут нет прохода, – вежливо, но твердо сказал официант, – обойди сбоку.
«Обойди, обойди, вот последить за тобой хорошенько, тоже найдется что сообщить. И счета небось завышаешь, и сдачу недодаешь, и порции заодно с поваром уменьшаешь. Воришка, жулье ресторанное!»
Обойти, конечно, пришлось – не драться же, в самом деле, с официантом, но девушка успела скрыться за углом дома. Пройдя на рысях последние двести метров и подняв с карниза, судя по шуму крыльев, целую стаю голубей, Аркадий настиг беглянку у двери парадного. Он подбежал почти вплотную, когда девушка юркнула внутрь и, бросив «негодяй!» прямо в лицо преследователю, захлопнула дверь.
«Негодяй» – наивное слово, из лексикона гимназисток и курсисточек. Детским садом пахнет, институтом благородных девиц. В Израиле он по-другому называется, Бейт-Яаков, дом Якова. Кстати, какой тут номер дома, надо бы записать…
Он огляделся: скудно освещенная улица, струи желтого света из редко расставленных фонарей тонут в пыльном кустарнике. Сплошной ряд машин вдоль тротуаров, мусор на мостовой. Жалюзи на окнах полуприкрыты, негромко звучит музыка, блюз, тихая раскачка, с носка на пятку, с носка на пятку…
«Номер, куда же запропастился номер. Вот он, лампочка разбита, но разглядеть можно. Итак, фиксируем – адрес подпольной квартиры: улица Пророков Израилевых, дом…»
Дверь отворилась. Нет, растворилась, словно всосанная гигантским пылесосом, бесшумно включившимся в глубине парадного. Воздух слегка вздрогнул, и на пороге возникли двое: чернявые, с нестриженными бородами и большими кипами на головах.
Дальше смутно. Темные улицы, топот преследователей, горячий, утративший кислород воздух, собачье дерьмо, прилипшее к сандалиям. Остановился Аркадий только на Алленби, возле полицейского джипа. Прислонился к синему борту и прерывисто задышал, проклиная сигареты, сидячий образ жизни и религиозный сионизм.
– Сержант Замир, – представился полицейский, осторожно тормоша Аркадия. – Что случилось?
Аркадий оглянулся. На улице никого не было; после закрытия магазинов шумная Алленби затихала, словно больной ребенок, принявший лекарство. Религиозные исчезли, точно их никогда не существовало. С внезапно возникшим опасением Аркадий принялся вспоминать подробности: да, большие вязаные кипы, бороды – он и сам по молодости ходил с бородой, как запустил на третьем курсе, так и не расставался, до самого развода – белые рубашки навыпуск, демонстративно свисающие кисточки цицит.