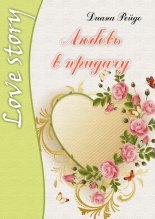Девять девяностых Матвеева Анна

Жемымо
Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской. Под окном нашей комнаты висел, как полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни моей не случится не только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой.
Сейчас, когда те годы, мои детские времена, уже затянуло романтическим туманом, я вспоминаю моменты совершенной радости, которые приходят даже к одинокому и несчастному ребенку.
Один из них – качели. Они стояли во дворе дома номер семь, по соседству с нашим бараком. Новостройка заняла недавний пустырь и выглядела на фоне скромных пятиэтажек, будто атомный ледокол «Ленин» среди самодельных лодочек. У седьмого дома был породистый бордово-серый окрас, квартиры хитрой планировки и, предмет главной зависти окружающих, – лоджии. Каждый житель нашего района, где до прихода человека строящего дремали вековые болота, гордился этим домом – его даже удостоили особого имени. Семёра. В те времена было модным упрощать и огрублять даже самые ласковые и красивые названия: наш район звался «Посадом» в честь улицы Посадской, ближайший кинотеатр «Буревестник» местные переименовали в «Бурелом». Семёра существует по сей день – как постаревшая красавица, прикрывает морщинистые стены и тусклые окна нарядами-деревьями. Вот только качелей, любимой моей «березки», больше нет.
Эти качели были выкрашены белым цветом, а поверху, тонкой кисточкой, мастер изобразил трещины в берёсте, черные штрихи, похожие на арифметические знаки равенства. Равенством во дворе притом не пахло – все знали, что качели поставлены здесь не для барачных детей. И мне даже в голову не пришло бы качаться здесь днем или вечером.
Я приходил к «березке» ранним утром, задолго до первого урока. В нашей комнате спали четверо, и я знал, что после моего ухода в комнате появляется воздух – ведь тетка Ира постоянно говорила про меня:
– Дышать от него нечем! То спит, то ест!
Ветхий ранец прыгал на спине, как накладной горб, – я бежал к пустой площадке у качелей и напевал вначале тихо, а потом всё громче и громче любимый романс тетки Иры, который она исполняла после первой бутылки:
- Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,
- В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.
- Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,
- Как жемымо-лоды были тогда!
В бараке была приличная акустика, каждый звук падал хрустальной каплей, и не верилось, что тетка Ира, «техничка-алкоголичка», умеет так петь. Мне в этом романсе больше всего нравилось таинственное слово «жемымо». Было в нем что-то особенное, соблазнительное, женственное. Может быть, даже – французское. Я не сразу понял, что «жемымо» – это слуховая обманка, но даже тогда не перестал любить это слово – оно, как пароль, открывало мир, который у меня однажды будет. Я не знал планов судьбы, но, мечтая о будущем, надеялся, что однажды приеду во двор Семёры за рулем роскошной «девятки» цвета «мокрый асфальт». Прижавшись ранцем к спинке качельной сидушки, я отталкивался ногами и взлетал всё выше. Вместе со мною уносились вверх мои мечты.
Вот оно, будущее! Я небрежно кручу руль одной рукой, медленно останавливаясь у подъезда, где живут мои враги-одноклассники Глеб Репин и Виталя Корнеев. Вот они – Репа и Корень будущего – выходят из подъезда, одетые, как бичи из барака. То есть как тетка Ира, ее гражданский муж Василек, мой двоюродный брат Димка и я сам. Не знаю, почему в моих мечтах Репа и Корень менялись с нами одеждой – в раннем утреннем полете над пустынным двором никто не требовал от меня логики и мотивации.
Вот я из будущего неторопливо опускаю тонированное стекло и строго, без улыбки, смотрю на бывших врагов.
Мое лицо в мечтах удивительно походило на лицо дяди Паши Петракова – гангстера по кличке Паштет. Паштет проживал в Семёре, и это был еще один повод для Репы с Корнем, чтобы задирать нос.
Паштет, как большинство свердловских бандитов, был нормальным советским пацаном, родом из спортивной секции. Много кто из них в детстве мечтал стать олимпийцем: быстро бегал, высоко прыгал и метко бил по чужим носам. Но когда на Урал пришли иные времена – точнее, не пришли, а дали с размаху по воротам тренированной ногой… То время перемен упало на пацанов так же внезапно, как ранняя звезда в песне Аллы Пугачевой (еще одна теткина любовь, шла сразу после «жемымо», но впереди многокуплетных песен, одна из которых мне нравилась больше других – про Сеню, который «с чувством долга удалился»). Страна получила свободку. Уралмаш, король заводов, на месте встал, раз-два. А профессиональный спорт сейчас же превратился в детское, несерьезное занятие. Впрочем, привычка тренироваться осталась – в любой тренажерке в те годы стояла очередь к каждому станку.
Цеховики шили варёнки и шапочки-«пидорки» из женских рейтуз, на рынках продавались корейские платья с кружевами-перьями – такого же химического цвета, как корейские соки. В узкую щель между Союзом и Западом падали первые плоды свободы – «марсы», «сникерсы», «баунти» и водка «Стопка». И вот тогда, на пути между ларьками – смыслом жизни эпохи ранних девяностых, и деньгами – смыслом жизни для многих во все времена, встали те парни, имя им легион. Почти весь легион ныне – на кладбищах Екатеринбурга: Широкореченском, Северном, Лесном… Лег он, легион.
Был среди бандитов, окормлявших пионеров коммерции, и наш дядя Паштет. «Ломал» деньги у коммерческих магазинов – «комков», крышевал рынки, при его участии даже был продан первый в области эшелон меди.
В мечтах я видел у себя героическое лицо Паштета – вот только, чтобы оценить эту героику, надо было смотреть на него обязательно в профиль. Линия лба Паштета переходила прямо в переносицу, не образуя никаких простонародных углов. А нижняя губа выезжала вперед, как ящик в сломанном комоде. Через много лет, когда я увидел портреты Габсбургов в Национальной галерее, то понял, на кого был похож герой моего детства.
Одет он был всегда безупречно – кожаная куртка, норковая шапка, темно-зеленые шароваристые штаны, белые «саламандры» и белые носки. Иных в те годы просто не носили – если у тебя были черные носки, ты как бы признавался в том, что не меняешь и не стираешь их каждый день.
Качели уносили меня всё выше. Милая моя «березка»! В такие минуты я забывал о том, что маму лишили родительских прав за пьянку, а папы я сроду не видел, но знал, что назвали меня по его желанию. Филипп – имя курчавого певца, похожего на пуделя Артемона: в пору моего детства он (певец, не пудель) еще не был так знаменит. Он дождался отрочества, чтобы бабахнуть всей своей славой – как из пулемета Дегтярева – по скромной жизни свердловского мальчика. «Киркорыч» – одно из самых частых моих прозвищ в те годы. И всё же, летая, я забывал и об этом, и о том, что теткин сожитель Василек каждый день ищет повода дать мне пинка, а после обходится без повода, пинает просто так. Но когда чья-то рука вдруг резко остановила полет, схватив «березку» за металлический поручень, я тут же вспомнил всех своих родственников, сладко спящих в бараке. Вот вам и жемымо.
Передо мной стоял Паштет во всей своей славе. В ногах его терлась собачка, пушистая и желтая, как маленький стог сена. Собачка смотрела на меня и часто, будто для врача, дышала, улыбаясь. Зубки у нее были мелкие и острые, как битое стекло.
– Здорово! – сказал Паштет и протянул мне руку.
Я чуть не обмочился от волнения, по ошибке протянул левую ладонь.
Собачка зевнула.
– Погода-то какая! – с чувством произнес Паштет и обвел рукой вокруг с таким видом, как будто сам сделал с утра эту погоду и теперь готов предъявить ее миру. Я кивнул. Погода Паштету удалась. На ветровом стекле его знаменитой машины – первого в городе «опель-кадетт» – желтели распальцованные рябиновые листья, и две-три алые ягоды лежали между спящими «дворниками», как будто их поместили туда специально. В широком небе нежились крохотные, свежие облака. Птицы передумали улетать на юг и пели громко, как по радио
– Как жить хорошо! – заметил Паштет и потянулся изо всех сил, так что полы его куртки разошлись, и я увидел турецкий свитер, заправленный в брюки, а главное – пистолет Макарова, небрежно сунутый во внутренний карман.
– Слышь, пацан! – адресно обратился ко мне Паштет, отпинывая в сторону собачку. Я уже догадался, что собачка, как и я, не имела никакого отношения к Паштету, она всего лишь хотела иметь к нему это отношение. И пользовалась случаем засвидетельствовать свое почтение, преданность и остренькие зубки. – Пусти-ка!
Я поспешно слез с «березки», она испуганно тренькнула. Паштет не без труда уместился на еще теплой сидушке, и вот уже белые «саламандры» отталкиваются от земли, и Паштет летит высоко, почти как я. А потом ему надоело поджимать ноги, и тогда он встал, сунул мне пистолет подержать и начал крутить на качелях «солнышко».
Мы всё еще были одни во дворе. Пистолет показался мне тяжелым, как монтировка Василька. Собачка подхалимски смотрела на нас из-под рябины.
Той осенью Паштету было двадцать пять лет.
Не помню, как он слез с качелей и забрал у меня свой «макаров». «Дворники» очнулись, стряхнули со стекла рябиновые листья. Паштет помахал, уезжая.
Никто бы не поверил мне – разве что Димка, старший двоюродный брат. Толстощекий и добрый, он с невероятным трудом учился, словно каторжник, кротко отсиживал в каждом классе по два года. Таблица умножения никак не давалась ему, хотя по программе у них уже второй год была алгебра.
– Мне бы, Фил, восемь классов окончить, – мечтал брат, – и потом в учагу. На токаря.
Добрее, чем Димка, я никого в своей жизни не знал. Тетка Ира – та только пела как ангел, а нрав имела сварливый, да и поколотить могла. С Васильком они бились нещадно, «до кровей», потом буйно мирились, и Димка спешно уводил меня из дому в такие минуты. Мы с ним сидели на веранде детского сада, выстроенного через дорогу от барака, – смотрели на клумбу, где поднимались длинные, как второгодники, мальвы и по собственному почину выросшая крапива, каждый лист которой казался мне похожим на крокодилью голову. Деревянные половицы веранды пружинили под ногами, Димка, сощурившись, добивал подобранные во дворе Семёры бычки и мечтал о будущем. У него тоже были свои надежды, все как одна связанные с романтическим произволом улицы.
– Попасть бы в кенты к Паштету, – мечтал брат. – Я бы для него… да я бы, Фил, всё для него делал. Сказал бы – разобраться с кем, я б разобрался.
– А убить? – замирал я.
Димка тяжело размышлял, щеки, и без того красные, как у зимней птички, имени которой я не знал, становились малиновыми.
– Убил бы.
И тут же сворачивал теме шею:
– Я б тебе, Фил, купил бы целую коробку бананов. И «Баунти – райское наслаждение». А матери – шампунь и колготки. А этому козлу, Васильку, отравленного спирта. Чтобы сдох!
Он был очень добрым, мой брат Димка. И я всегда с удовольствием искал для него недокуренные басики – во дворе Семёры подбирал чинарики «Конгресса», который предпочитали Паштет и его люди, и коричневые «Море» бандитских подруг.
Мне нравилось радовать брата. Но в тот день, когда Паштет крутил «солнышко» на качелях, я не успел рассказать Димке о своем приключении – потому что следом меня накрыло еще одно. Словно докатилась вторая волна сентябрьского чуда.
Учительница стояла у доски с таким видом, будто ей не терпится поделиться с нами какой-то важной новостью. Новость она прикрывала от нас своей широкой юбкой.
– Ребята, у нас новенькая! – сообщила наконец учительница и отступила прочь, и за широкой юбкой, словно за открывшимся занавесом, обнаружилась маленькая, но очень красивая, по-особенному ладная девочка.
– Стелла была отличницей в своей школе. И она обязательно будет отличницей у нас, правда, Стелла?
Девочка с каменным именем (а разве оно не каменное? Тяжелое, как надгробие) пожала плечами, словно еще не решив, стоит ли удостоить нас такой радости.
– Подумаешь, – прошипела моя соседка по парте, Вика Белокобыльская, в которую я на днях всерьез собирался влюбиться.
Стелла молча прошла между рядов и села за нами. Я почувствовал себя особенно жалким и дурно одетым: на обувь для меня скидывались чужие родители со всей параллели, а одежду я донашивал за Димкой, и она висела на мне, как «элитный секонд-хенд из лучших европейских бутиков», что повис через пару лет на многих моих знакомых, включая ту самую учительницу.
У Белокобыльской пылали уши – так ей хотелось повернуться и сжечь презрением новенькую. Сразу после звонка, когда Стелла всё так же надменно вышла из класса, выяснилось, что тощие косицы моей соседки накрепко привязаны лентами к спинке стула. И встать с места она не может – ленты завязаны какими-то хитрыми тройными узлами.
Белокобыльская икала и выла, ленты пришлось отрезать учительскими ножницами с зелеными ручками, но Стелла так и не созналась.
– Вы что, с ума сошли? – спросила она у всего класса и у нашей учительницы в придачу. – Зачем мне это надо?
Учительница не нашлась что ответить – я понял это, когда увидел, что она бросила свои драгоценные ножницы на стол вместе с непроверенными тетрадями. Ножницы с зелеными ручками, в святости которых не сомневались даже школьные атеисты!
И еще я понял, что влюбился в Стеллу.
В тот вечер в нашей комнате было почти что тихо. Тетка Ира затеяла стираться, в ход пошел оцинкованный таз. Василька где-то носила нелегкая (я представлял себе эту нелегкую громадной бабищей с растопыренными холодными руками), а мы с Димкой пытались починить давно списанный с «большой земли» магнитофон «Романтик-306». Дерматиновый ремень вместо короткой металлической ручки, да и собственно надписи «Романтик-306» уже нет – там выведены белой краской острые буквы “Metallica”.
Димка пыхтел, старался, мне было скучно, и я косился на окно, где за кустами боярышника темнели чужие гаражи. Тетка Ира ожесточенно терла белье на стиральной доске, словно не стирала его, а пыталась разодрать в клочья.
– Добрый день! – вдруг раздалось из коридора, и мы с Димкой подпрыгнули. На пороге нашей комнаты стояла очень высокая женщина в белом брючном костюме. За руку она держала девочку, девочкой была Стелла.
– Вы хтось такие? – испугалась тетка Ира, уронив с грохотом свою доску.
– Можно сказать, ваши соседи, – вежливо сказала брючная. – Мы переехали в седьмой дом.
– А-а, – протянула тетка Ира, как будто ей всё тут же стало понятно. Она вытерла руки о шторку, ногой сдвинула в сторону таз.
Брючная что-то шепнула на ухо Стелле и скосила глаза в сторону таза, словно объясняя – вот про это я тебе рассказывала. Стелла и вправду смотрела на таз, не отрываясь. Я надеялся, что меня она не видит – толстый Димка закрывал обзор почти полностью.
– Я показываю девочке, как живут в бараках, – сказала странная гостья. – Видишь, Стелла, так они стирают. Здесь спят. – Она махнула рукой в сторону нашей с Димкой тахты, брат дернулся от неожиданности, и я предстал перед Стеллой, сказав «привет» писклявым голосом.
Стелла подняла брови.
– Этот мальчик учится со мной в одном классе, Надежда Васильевна.
Надежде Васильевне новость не слишком понравилась. А до тетки Иры стало наконец доходить, что к ней пришла не только пара странных гостей, но и вполне реальная возможность заполучить пузырь, не напрягаясь.
– Слышь, Васильна, – доверительно сказала тетка Ира. – Не одолжишь чирик?
Вместо ответа брючная продолжала объяснять Стелле, будто они стояли перед клеткой с медведями:
– И вот так здесь говорят! Такими словами! Теперь ты должна хорошо представлять себе, на что будет похожа твоя жизнь, если не станешь слушаться Надежду Васильевну. Плохие девочки переезжают в барак, стирают в оцинкованном тазу, они пьют водку, спят на грязной тахте и у них рождаются мальчики.
Тетка Ира тем временем смекнула, что идея бутылки не хочет превращаться в бутылку реальную:
– Слышь, Васильна, тебе тут не зоопарк! Шуруй отседова! Или плати, за этот самый, за погляд.
Мне было стыдно, я молчал. Тугодум Димка спросил:
– А почему мальчики – это плохо?
С прочими тезисами странной Васильевны он будто бы согласился.
Гостья медленно, как сытый орел, повернула к нам голову. Какой у нее был нос! Даже отпетый двоечник понял бы на примере ее носа, что такое прямоугольный треугольник. Я и по сей день считаю, что именно в человеческих носах природа хранит информацию о происхождении. Но тогда я, конечно, ни о чем подобном не думал, тем более в таких выражениях. Я был в ужасе и смятении. Никогда еще наша комната не казалась мне настолько дрянной, а сам я – таким жалким. Даже магнитофон с корявой надписью “Metallica” не исправлял ситуацию, а лишь только усугублял наше общее ничтожество.
– Мальчики – это проклятие, – объяснила Надежда Васильевна. – Девочки – благословение. И вообще, женщина всегда лучше мужчины.
Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в дверях вдруг не появилась багряная, как говядина, рожа Василька – нелегкая доставила его сегодня домой необычайно рано. Гостьи поспешили на выход, и Стелла одними губами шепнула мне какое-то слово.
Димка уверял, что это было слово «извини».
У меня и у Стеллы, девочки, умеющей завязывать тройные узлы и врать в глаза учителю, у нас с ней нашлось кое-что общее. Да, она жила в Семёре, у нее, как вскоре выяснилось, даже была собственная комната. Но Стелла, как и я, осталась без родителей – причем если мои всё же присутствовали в виде физических тел в этом мире, то родители новенькой погибли в авиакатастрофе, той самой, где пилот дал сыну подержаться за штурвал. Надежда Васильевна, несмотря на брючный костюм и геометрический нос, была родной бабушкой Стеллы. Сложно представить себе человека, которому бы менее подходило это уютное, теплое слово!
Моя соседка по парте Вика Белокобыльская назвала Надежду Васильевну емким словом «чиканэ».
– Щас одену сапоги, и пойдем! – кричала Белокобыльская на всю раздевалку, а Надежда Васильевна толковала:
– Никогда не говори так, Стелла! Запомни: «одевают Надежду, надевают одежду». Кроме того, сапоги обувают. И совсем не обязательно информировать об этом всю школу.
Белокобыльская была для Надежды Васильевны не благословением, а чем-то вроде наглядного пособия. Типа той листовки, что висела в нашей столовой: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, его береги». Конечно, Вике это не могло понравиться, но она помнила изрезанные ленты и пониженные в звании ножницы с зелеными ручками, и потому молчала.
А я однажды с удивлением обнаружил рядом с собой Репу и Корня: они явно хотели что-то спросить. Как правило, недруги не удостаивали меня беседами, сразу били по почкам.
– Правда, что ты кореш Паштета? – спросил Корень. Его батон был одним из первых в районе кооператоров. Репа угрожающе сопел рядом, готовый тут же доказать свою лояльность.
История, как «мы с Паштетом» вместе качались на «березке», давно гуляла по району – я поделился с Димкой, брат от гордости за меня тут же понес новость дальше, и она летала от одной садиковой веранды и компании до другой, пока не добралась до моих главных врагов. Как ни странно, они в нее сразу поверили. Хотя и решили переспросить.
Репа и Корень лупили меня с первого класса, это было для них таким же важным ежедневным делом, как кисель с коржиком на завтрак. Доставалось за всё – за имя, за то, что живу в бараке, за мерзкие, с точки зрения Корня, кудрявые волосы, за то, что их родители покупают мне зимние боты. И вдруг выяснилось, что били они меня, в общем, зря, потому что мерзкий кудрявый Филипок оказался корешем самого уважаемого местного бандита.
Когда я кивнул, что правда, и даже рассказал про «макаров», Корень предложил сегодня же пойти с ними «травить собак». Димка в те дни болел, лежал дома, и поэтому я надел («надевают одежду»), с разрешения, конечно, его синюю телогрейку, на спине которой было по трафарету выведено Kill’Еm Аll. И побежал к «березке».
Теперь в наших отношениях с Корнем и Репой присутствовала некоторая неловкость – они всё еще по привычке хотели меня бить, но понимали, что делать это уже не вправе. Желания расходились с возможностями, и Репа с Корнем, натужно проявляя ко мне симпатию, внутренне невероятно страдали.
Я нашел бывших врагов на качелях – Корень рассказывал Репе свежую байку про Паштета, и при этом поглядывал на меня, как на учительницу, которой сдавал правило. Пришлось кивать с умным видом, впрочем, я действительно уже слышал эту историю от Димки.
На днях по приказу своего хозяина Паштет бросил гранату в окно одному авторитету. У авторитета был день рождения, пили «Амаретто ди Саронно», именинник погиб сразу, остальных гостей – человек десять – изрядно посекло, а после их достреляли на месте. Как в Древней Индии, на костер в девяностых всходили непременно со свитой. Наш район пребывал по этому поводу в страхе и возбуждении. По этикетным нормам, принятым в Свердловске и Палермо, за гранату Паштету должна была прилететь скорейшая ответка. Один из главных, центровой с короткой и звучной фамилией, по слухам, выписал Паштету тормоза. Как и его хозяину, имя которого знающие люди называли только в самых серьезных случаях.
Нам было тогда по одиннадцать, и, хотя у Репы уже росли усы (у Белокобыльской, впрочем, тоже были усы – и она ревела, когда ей об этом напоминали), нет никого глупее мальчишек в этом возрасте.
Уличные собаки мирно спали на канализационных люках, грелись вонючим теплом. Репа подошел к ним и начал лаять во всю глотку. Лаял он, по мнению Корня, профессионально. Собаки взволновались, принялись гавкать в ответ. Они были не чета той собачке-стожку – здоровенные дворовые шавки с хвостами, как сабли. Мы стояли и лаяли друг на друга, а Корень еще и пытался ударить одну из собак палкой с гвоздем, которую он рачительно принес с собой.
– Ну-ка прекратите! – приказал какой-то мужик: он вышел из подъезда с помойным ведром и бультерьером, похожим на хмурого злопамятного поросенка.
– А чё, если они первые к нам лезут, – заныл Репа. – Мы ничё не делали, они сами начали. – Ныл Репа тоже профессионально, мужик махнул рукой и двинулся к мусорным контейнерам. Бультерьер семенил с ним рядом и не мог оглянуться, даже если бы хотел, – точно как свинья.
Я загляделся на бультерьера – Димка рассказывал, что многие заводят их специально для боев. И, пока я смотрел на него, одна из шавок без лишних звуков вцепилась в ногу Репы.
Как он закричал! До сих пор у меня стоит в ушах этот крик – вопль искренней боли. Корень бросился прочь, за ним неслась и лаяла собачья стая. А я схватил палку с гвоздем и, зажмурившись, саданул по лохматой морде с черными ушами. Я не думал, что делаю, – шавка вполне могла еще яростнее сжать челюсти, но это был щенок, инстинкты у него пока что не окаменели, и потому он выпустил ногу. Репа тут же повалился на землю, с помойки к нам бежал мужик, его хмурый бультерьер скалился, чуя запах крови.
И здесь мой героизм закончился – я вспомнил, что живу в бараке и что мне нечего делать во дворе Семёры. Пока мужик еще не добежал до нас, я метнулся, как пес, вправо-влево и юркнул в ближайший подвал. Двери в подвалах моего детства всегда были открыты, и я много раз спускался в этот смердящий мир – смердел он даже в Семёре. Крысы, кошки, бомжи, картежники, даже гроб, стоящий в закуте, – в подвалах Посада было интереснее, чем в самом загадочном сне. Но в этот раз мне было не до гроба. Я прислонился к влажной стене. Где-то рядом капала вода – каждая капля звучала, как нота. И, хотя кроме этой капели всё вокруг было тихо, я, дитя барака, наследный принц бывших болот и претендент на обладание оцинкованным тазом, всегда чувствовал чужое присутствие.
В подвале был кто-то еще, и ему было очень важно остаться незамеченным.
А я влетел сюда, бахнул дверью – думая лишь о том, чтобы бультерьер с хозяином не нашли бы меня и не устроили публичную разборку с участием Василька и тети Иры.
Поднялся по лесенкам, выглянул в дверь, она скрипнула. Репу уносил на руках в дом его отец. Мужик с бультерьером грозно озирались, и бультерьер, клянусь, скосил свои поросячьи глазки в мою сторону. Нет, выходить было нельзя
И тогда я снова спустился вниз, но уже невесомой, бесшумной походкой – ей обучил меня в минуту доброго затишья Василек, которого нелегкая занесла однажды к ворам. Настоящего вора из теткиного сожителя не получилось, но кое-что он помнил и порой проводил для нас с Димкой небольшие мастер-классы. К примеру, я до сих пор умею «ломать» деньги.
Тихо прошел мимо закута с гробом, спугнул крысу – но она тоже была воровской породы и шмыгнула почти незаметно, будто газетка прошелестела на ветру. У третьего с краю подвального окошка стоял человек, неподвижный, как памятник Свердлову. И я не знаю, что осветило его фигуру в тот момент – луна ли, свет ли фар «девятки» Репиных, помчавшихся отвозить искусанного сына в травму, – я не уверен ни в луне, ни в фарах, но точно знаю, на чем бликовал этот свет. То был символ эпохи – калаш.
Человек не видел меня и не слышал, а я прилип к стене, чувствуя, как намокает от пота Димкина телогрейка. Тот, с калашом, мог учуять запах, и потому я двинулся в обратный путь, мимо гроба, по тюфячной вате, раскисшей под ногами и превратившейся в скользкую дрянь.
Несложно было догадаться, кого поджидал у окошка человек с автоматом. Уж наверное не любимую девушку!
Я бережно прикрыл дверь подъезда; сквозняк приподнял бахрому бумажных объявлений и опустил ее, как занавес. Собаки уже вернулись к своим теплым люкам и спали на каждом по две.
Во двор Семёры въезжал «опель» Паштета, из окон грохотала музыка, ымц-ымц-ымц. Рядом с Паштетом сидел мужик, сзади – две девчонки.
Я кинулся наперерез, Паштет едва успел затормозить. На нем был исландский шарф, почему-то я это заметил и запомнил.
– Дядь Паша, в подвале киллер! С калашом!
Ногу Репе зашили, но дворняга умудрилась повредить ему что-то важное, и Репа теперь сильно хромал, и столь же сильно этим гордился – врал всем, что это не собаки, а пуля, предназначенная Паштету. Некоторые верили. Из-за хромоты Репу впоследствии забраковали на медкомиссии, и он не служил в армии, в отличие от своего друга Корня – отличие было ключевое, потому что Корня убили в Чечне.
Паштет, по слухам, скрывался где-то в Венгрии. А я целый год после встречи в подвале писался в постель. Тетка Ира заставляла выносить матрас на улицу, и Димка впервые в жизни начал меня стесняться. К тому времени он уже был в «пехоте», выполнял мелкие поручения кого-то из уралмашевских – его мечты сбывались, но судьба вдруг вспомнила и о моих. Однажды в дверь барачной комнаты постучался мужчина, весь, от макушки до носков ботинок, словно бы выделанный из тонкой, мягкой, красиво примятой кожи. Голос у него был такой, что всем, кто его слышал, мучительно хотелось откашляться.
Гость огляделся, и, поправив на носу очки, закрепил их пальцем, словно бы приклеил к нужному месту.
– Здесь проживает Филипп…? – он назвал мою фамилию, и тетка Ира кивнула:
– Здеся он. Проживает… все мои силы проживает!
Кожаный человек еще раз утвердил на месте непослушную перемычку и начал объяснять тетке Ире, что меня хочет усыновить один очень богатый и влиятельный человек. Ей всего лишь нужно подписать некоторые бумаги, и она сможет получить за свое согласие немаленькую сумму.
Тетка Ира недоверчиво слушала:
– А на кой он влиятельному-то? Золотой, что ль? Он, слышь, по ночам ссытся.
Кожаный человек сдернул с носа непокорные очки, и, честное слово, хотел швырнуть ими в тетку Иру, но передумал и вежливо спросил, согласна ли гражданочка такая-то расстаться со своим племянником?
Вечером мы сидели за столом, и тетка Ира с особенным чувством пела мой любимый жемымо. Василек смотрел на меня подозрительно, как на полную бутылку, которая только что была пустой. Димка шлялся где-то до поздней ночи, пришел, когда я уже спал.
А потом началась моя новая жизнь, за которую, как я полагал, следовало благодарить Паштета. Таинственный усыновитель повелел отправить меня в частную школу для мальчиков в Лондоне, и через месяц кожаный человек, велевший называть его Андреем Сергеевичем, уже должен был лететь со мной в Англию. Был июль, но я сумел попрощаться со всеми своими школьными знакомыми – даже Белокобыльской предложил писать мне письма, и она милостиво согласилась. Усики ее совсем не портили, она превращалась в симпатичную девушку. Но что мне было до этой девушки? Главное – передать новый адрес Стелле.
Дверь открыла Надежда Васильевна в белом махровом халате. Провела меня в комнату, уселась в кресло. Бледные ноги, которые я предпочел бы не видеть, она, как специально, закинула одну на другую. Вены, разрисовавшие кожу, были похожи на дождевых червей.
– Ты едешь в Англию? – удивилась Надежда Васильевна. – Я бы поняла, если бы туда поехала какая-то девочка.
– А Стелла дома? – спросил я. На мне был совершенно новый костюм из кусачей серой шерсти, был даже галстук, завязанный лично Андреем Сергеевичем.
– Стелла гостит у приятельницы, – сказала Надежда Васильевна и все-таки укрыла своих червей полой халата. – Могу передать, что ты заходил, но ее это вряд ли заинтересует.
Я так и не решился отдать странной старухе бумажку с адресом. Тем удивительнее было, что Стелла всё же написала мне в Англию и даже прислала свою фотографию – такие портреты в земляных, ретро-коричневых тонах делали в те годы в Доме быта. Я выслал свою карточку – на фоне «Катти Сарк», с серьезным лицом. Снимал меня лучший друг – Джонни Эшвуд.
Как быстро забылось всё, что было у меня до Англии! Даже когда пришло письмо от тетки Иры (адрес на конверте вывела рука Андрея Сергеевича) – она писала, что Димку застрелили на разборках, а Василька посадили за кражу, которой он, конечно же, не совершал, – даже тогда я воспринял эти новости так, будто услышал их из телевизора – и они касались кого-то другого, не меня. Я хорошо учился, раз в год фотографировался – это– го требовал таинственный покровитель, занимался греблей, изживал русский акцент. Единственное, что я позволял себе делать в память о прошлом, – это читать в библиотеке старые российские газеты. Однажды на глаза мне попалась заметка о том, что бывший криминальный деятель из Екатеринбурга, Петраков по кличке Паштет, был взорван вместе со своим хозяином К…вским по кличке К. в вертолете, в окрестностях озера Балатон. Паштета и К. грохнули два года назад, когда я только привыкал жить в Англии.
Конечно, меня и прежде волновал вопрос: кто был моим таинственным покровителем? Но Андрей Сергеевич вел себя еще извилистее обычного, когда я пытался разузнать у него хоть что-то об этой личности. Я не сомневался, что опекун – это Паштет, спасенный мной от калаша, – но оказалось, что Паштет давным-давно качается на небесных качелях и даже, может быть, крутит на них «солнышко»…
Чем старше я становился, тем чаще обо всем этом думал. Стелла, с которой мы переписывались время от времени, рассказывала, что Надежда Васильевна хочет отправить ее учиться в Сорбонну. Но за год до окончания школы ее странная бабушка умерла.
Я не понимал, зачем мне ехать в Екатеринбург на похороны Надежды Васильевны – ведь я не полетел туда, даже чтобы проститься с Димкой! Но Андрей Сергеевич настаивал, и поэтому я попросил мать Джонни проводить меня в Хитроу. Мне очень нравилась мама моего друга. У нее было еще два мальчика, младше нас с Джоном, и взрослая дочь, она жила где-то в Уэльсе.
– Как вы считаете, мэм, девочки лучше мальчиков? – спросил я по дороге. Мы, конечно, собрали все лондонские пробки.
Миссис Эшвуд расхохоталась, как девчонка.
– Что за глупые фантазии, русская душа? – так она звала меня после одной истории, литературного вечера, посвященного, моими заботами, Достоевскому. – Мужчина и женщина – две части одного целого. Что лучше, правая половина яблока или левая?
У нее был неортодоксальный ум; клянусь, если бы она не была мамой моего друга, я бы на ней женился.
– Знаешь, русская душа, – сказала миссис Эшвуд, пока мы с ней бежали на регистрацию рейса, – с девочками женщинам проще, особенно – простым женщинам. Девочки – в той же системе интересов. А мальчики… Им нужно так много! С ними нужно общаться, и еще – их обязательно нужно любить!
Добрая миссис Эшвуд громко чмокнула меня в лоб и подтолкнула к выходу.
Из-за меня похороны отложили на два дня, и мы с Андреем Сергеевичем мчались в крематорий, как на пожар. Надежда Васильевна лежала в гробу – белом, как у невесты. На лбу у нее была повязка, но не с молитвой, как у православных, а со словами «Так умирает Надежда».
Стелла схватила меня за руку, и я почувствовал, что не смогу отцепить ее пальцы – они были как ленты, привязанные тройными узлами к спинке стула.
Бухнула дверь, гроб ушел в печь, будто участвовал в спектакле с крутящимся полом и сменой декораций. Мы вышли из зала, Стелла не плакала, глаза ее блестели.
Андрей Сергеевич протянул мне конверт – я видел в его лице облегчение, что сейчас он может наконец открыть правду.
Буквы скакали перед глазами, как черти.
«…августа… города Свердловска… официально удостоверяю…»
Это было свидетельство об опекунстве и еще какие-то бумаги, подтверждавшие, что Надежда Васильевна была моей опекуншей, она же оплачивала учебу в Англии. Последний листок в конверте, даже не листок, а крошечная бумажка, на каких пишут записки неважным людям:
«Девочки – лучше! Пусть у вас родится дочка. И не вздумай обижать Стеллу, а то приду к тебе в кошмарах и замучаю до смерти».
Я боялся посмотреть на Стеллу, но чувствовал, что ее рука опять впилась в мою – пальцы у нее были холодные и почему-то колючие, как чертополох, символ Шотландии.
– Не сработал ваш оцинкованный таз, – сказала Стелла. – Надежда Васильевна хотела напугать меня, а я, назло ей, влюбилась. И уговорила ее тебе помочь. Надо ведь было сделать из тебя человека, Фил. Теперь мы будем вместе, ты рад?
Вечером, после недолгих, но всё равно утомительных поминок, я вышел из Семёры – она показалась мне облезлой и маленькой. «Березки» уже не было, на ее месте стоял актуальный по тем временам «пивной стол». Я на Белореченской поймал частника, и тот, под Аллу Пугачеву и вонь соляры, повез меня на Широкореченское кладбище. Частник ехал вкругаля, его явно вдохновил британский пиджак. Высадил он меня у главного входа на кладбище, и я довольно долго бродил среди могил, пока не вышел к «аллее героев». Надгробные памятники в полный рост, портреты братков – с ключами от «мерседесов», цепями на шее и клятвами «не забыть». Димкина могила нашлась здесь же, его удостоили вполне приличного памятника с портретом. Брат смотрел на меня, глаза в глаза. На полысевшем венке спала, уютно свернувшись, серая, как гранит, собака. Ее не будили ни мои вздохи, ни удары далеких лопат, ни чье-то ясное пение:
- Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,
- В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.
- Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,
- Как жемымо-лоды были тогда…
Как же мы молоды были тогда.
Горный Щит
Моей маме
– Оля, а почему ты сегодня в очках?
– Я без них только сплю, да и то не всегда.
– Прости, никогда не помню, кто в очках, кто – нет. И бороды не помню. Вот у Ленина была борода, как считаешь?
Ольга вытащила десятирублевую купюру из кошелька, показала Татьяне:
– Была. И борода, и усы. Как это можно не помнить?
– Ну, извини! Правда, не помню. А очки у него были?..
Автобус дернулся на повороте, по стеклам хлестнуло жесткой, как банный веник, августовской листвой. Юбки прилипали к ногам и к дерматиновым сиденьям, ехать было еще далеко. Вторчермет. Титова, Селькоровская – раньше здесь жили родители мужа. Лерочка говорила – «Селькоровская», как будто в честь коровы. Татьяна не разубеждала дочку: объяснить ребенку, кто такие сельские корреспонденты и зачем им посвятили целую улицу, да еще такую длинную, у нее всё равно не получилось бы. Пусть лучше будут коровы – они понятные. И ошибку на письме не сделает.
Надо же, у Ольги колготки драные! Стрела – во всю ногу.
Ольга прикрыла стрелу сумкой.
– Ты лучше скажи, серьезно настроена? Потому что Алка тоже интересовалась, и Надежда…
– Ну Оля, вот зачем ты? Я же тебе сказала: мне лишь бы печка была, огородик. Пересидим с ребятами дурное время… Сразу же куплю, если там всё в порядке.
Ольга поправила очки на лице – как холст на стене.
Татьяна не волновалась, что обманут, знала – дом сам ей всё расскажет. Когда она приехала в Свердловск учиться, с первых же дней начала примерять к себе множество разных домов и квартир – и научилась их слышать, понимать, разбирать их истории, как шкафы по полочкам.
Вот, например, нелюбимые дома – всегда печальные, но при этом еще и мстительные, как гарпии. В самый важный момент, да при чужих людях, вдруг распахивают дверцы, а оттуда сыплется личная жизнь. Или еще: берешься за дверную ручку, и она вдруг оказывается у тебя в руке, отдельно от двери. Хозяин не любит свой дом – и дом грустит, плачет, эти пятна от слез – на обоях, на потолке. А если дом счастлив – тогда в нем всегда свет, даже если окна выходят на север. И цветы растут во все стороны, и кот спит в уютном кресле. В нелюбимых домах цветы вянут, а коты прячутся по углам, как мыши.
Татьяна еще на абитуре поняла, что никогда не сможет жить в общаге, на виду у шести человек, – и сняла комнату в доме на Радищева, рядом с Центральным рынком. Частный сектор, удобства во дворе. В дверном проеме висела занавеска, сделанная из разрезанных открыток: Татьяна пропускала сквозь пальцы картонные кусочки и даже разбирала какие-то буквы – но слова из них никогда не складывались.
Желтые окна свердловских домов нравились Татьяне больше звезд, к тому же звезд всё равно видно не было. Окна мигали, переговаривались, сообщали Татьяне главное: однажды у нее обязательно будет свой дом! И это она лениво выключит свет в кухне и перейдет в спальню, она, Татьяна, а не с трудом различимая тетенька из углового дома на Куйбышева-Белинского. Не очень понятно было, откуда возьмется Татьянин дом – этого не объясняли ни окна, ни звезды. Она спала на старом топчане в тени картонной занавески, вечерами гуляла по улицам и мечтала. Вот здесь будет зеркало. А сюда надо повесить ту люстру, что сияет на третьем этаже ее любимого дома на улице Воеводина. Ах, Воеводин! Мастер по ремонту локомотивов и вагонов, а также, само собой, революционер и герой, мог ли он знать, что в честь него назовут эту чудесную улицу? За окнами – Плотинка. Подъезды, у которых действительно хотелось размышлять, а не грызть, к примеру, семечки. Под высоким потолком – щедрая люстра, висюльки овальные и прозрачные, как виноградины. Наверное, Воеводину было бы приятно.
Училась Татьяна блестяще – в этом смысле университет ничем не отличался от школы. Мама полагала, что в мире есть всего лишь две оценки – пять и два. Так что у Татьяны не было выбора, кроме как стать отличницей. «Круглой», – спокойным голосом уточняла мать, хотя это уточнение раздражало – представлялся блин с косичками, с глупой ухмылкой. На фотокарточках детского времени Татьяна закусывает щеки изнутри, чтобы казаться тоньше и незаметнее. А еще она писала мелким почерком – к счастью, разборчивым, и грызла хвосты собственных косичек, и не любила петь в хоре, хотя у нее, к несчастью, был голос.
Танечка не была счастлива в детстве, над ней постоянно что-то будто бы нависало – как просевшая палатка или декорация, которую устанавливали на скорую руку. У ее мамы тоже не было счастливого детства – но тогда вообще такой моды не было: никто не говорил, что дети должны быть счастливы! Жили как-то – и на том спасибо.
Мама часто повторяла, что смысл жизни – в труде. То же самое, немного другими словами, говорили по радио и в школе. Но палатка всё равно провисала, и декорация готова была обрушиться при первом же чихе. Хотелось быть счастливой без всяких условий, но этого никто не обещал – особенно детям.
Трудились в ее семье много. Даже фамилия Рудневы напоминала Трудневых, а те, в свою очередь, могли бы чисто по созвучию походить на Трутневых, но это уже было бы не про Марию Петровну и Степана Макаровича. После смены на заводе, у станка и в столовой, родители спешили домой, где начиналось второе отделение – а огороде. С ближними соседями, укрытыми за невысоким забором Клебановыми, у Петровны и Макаровича шла вечная борьба, кто кого переработает. Клебановы были серьезными соперниками: вставали до петухов, ложились позднее полуночников, еще и старик у них был крепкий, в одиночку окучил как-то всю картошку.
За окном летел неказистый, но милый уральский пейзаж – шеренга берез и горизонт с линией волнистых, низких гор (так подчеркивают определение при синтаксическом разборе).
– Подъезжаем, – оживилась Ольга. Народ вставал с мест, хотя автобус еще мчался – будто боялись, что не успеют выйти. Татьяна заметила табличку: «Горный Щит». В конце года читала со своими последними учениками Бажова. «Деревню-то Горный Щит нарочно строили, чтоб дорога без опаски была». Кто бы мог подумать, что в середине лета позвонит Ольга и скажет, что ее деревенские соседи срочно продают малуху в Щите?
Ольга тоже встала с места и теперь махала юбкой, как веером. От нее пахнуло, как от теста для блинов, которое только что завели. Автобус накренился, дернулся и вдруг сделал крутой поворот – люди повалились друг на друга, кто с визгом, кто с матом. Ольга устояла и даже промолчала, только очки сверкнули оскорбленно.
Подруги вышли на главной площади Щита – здесь было всё в точности как на любой другой площади большого уральского поселка. Магазин по кличке «Стекляшка», названный так не то за стеклянные витрины, не то за вожделенные напитки, разлитые в стеклянную же тару. Рядом – заброшенный, никому не нужный храм, а напротив автобусной остановки – школа. Татьяна сможет здесь работать, а Лерочка – доучится, ей остался всего год. Митя, если не поступит, пойдет вести труд у мальчиков. Счастье – в труде. Пересидим, прокормимся. Лихие времена не могут длиться вечно. Или могут?
– …Храм, между прочим, построен по проекту Малахова, – Ольга уже довольно долго, судя по всему, рассказывала, но Татьяна ее не слушала, осознав вот только этот факт, про Малахова. В Екатеринбурге знаменитый уральский архитектор построил себе дом на краю города, а сейчас край города стал центром.
Главная улица в Щите названа в честь Ленина с усами и бородой – по ней и шли Ольга с Татьяной, то вниз, то в горку. Слева блестела речка, процветшая, как полагается в августе, целыми островками. От каждого дома к реке спускался длинный, как трамплин, огород, по периметру окруженный досками.
– А почему деревня называется Горный Щит? – спросила Татьяна. – Здесь же нет гор.
Ольга задумалась.
– Горы есть. Уральские называются. Ты их просто не заметила – они у нас невысокие.
У Ольги уже лет десять был дом в Горном Щите – остался в наследство от бабки мужа. На той же улице, но по правой стороне хозяева затеяли строительство большого дома, а пол-участка с малухой решили продать. Ольга сразу поняла, кому больше всех в Свердловске нужны изба с огородом в поселке Горный Щит – конечно, Татьяне. Упоминание Алки и Надежды – это так, риторический прием. Изба должна достаться Татьяне: в школе платили гроши, а муж пахал без зарплаты уже год, как, впрочем, и вся страна. Татьяна бралась за любую работу, даже на рынке пыталась торговать, хотя какая из нее торговка? В первый же день выдернули из рук майки, которые дали на реализацию знакомые Алкиных знакомых. Майки – черный трикотаж, золотое напыление. Как надгробные плиты у цыган. Татьяне пришлось выплачивать из своих, просто с кровью выдирала из семьи эти деньги. А ведь она была самая способная из них, профессорша с кафедры стилистики не зря говорила: Татьяна, вам нужно идти в науку, а в школу пусть идет Ольга Нелюбина. Ольга не обижалась на профессоршу, ей не хотелось ни в школу, ни в науку. Она приехала в Свердловск из Бузулука, вышла замуж в конце второго курса – местный парень, математик. Родили двух дочек, Ольга репетиторствовала дома, но без особых стараний. До диплома не дотянула. Татьяна – та дотянула и, как все, по распределению отрабатывала в сельской школе. Вела там не только рус. яз. и лит-ру, как писали школьники в дневниках, но и немецкий, и даже музыку. Музыкальную школу Татьяна тоже закончила на отлично – благодаря маме, которая свято верила не только в счастье труда, но и в то, что девочка должна играть на пианино, а мальчик – на скрипке. Через год Татьяна вернулась в Свердловск и пошла работать в самую обыкновенную, можно даже сказать захудалую школку на ВИЗе. Опять снимала угол – на Февральской революции, в полуподвале.
Литературу она всегда объясняла при помощи языка – не только русского. И не всегда именно ту литературу, которая была в программе. «Вы только не читайте сейчас “Анну Каренину”, подождите лет до тридцати!» – говорила Татьяна ученикам. Разумеется, на другой день все сидели, уткнувшись в «Анну». В самой фамилии Вронского, объясняла Татьяна, есть что-то неправильное, фальшивое – wrong.
Русский же был ее главный, любимый предмет – но и его она вела не по правилам. Причастия прошедшего времени, рассказывала Татьяна детям, вшивые. У отличников рты баранкой: как вшивые? А вы послушайте: приходиВШИй, забраВШИй. И правда. Вшивые! А деепричастия какие? О, это выскочки и зазнайки, всегда якают: убираЯ, обучаЯ! И в прошедшем времени тоже есть вшивые: задумавшись, сделавши, не подумавши.
Для самых глухих к языку были у Татьяны совсем уж странные секреты и советы, уберегшие, между прочим, не одного детинушку от двойки в восьмом классе. Один из таких секретов – помнить про Вову. Вова скрывался в середине длинных слов, вроде «предчувстВОВАвшая» или «долженстВОВАть». Нашел Вову – пиши и не беспокойся, что сделаешь ошибку.
В рекреации, как называли школкин холл, стоял маленький, точно гном, гипсовый Пушкин – проходя мимо, Татьяна всякий раз гладила его по белым холодным волосам. Не грусти, брат Пушкин!
– Зачем вы его гладите? – спросил родитель девочки Эли из пятого «в».
– Мне кажется, ему здесь холодно. И одиноко.
Родитель впечатлился, потом – влюбился. Дальше случилась неприятная для всех история с разводом, девочку Элю перевели в другую школу, а Татьяне вкатили строгий выговор с занесением в личное дело. После чего она вышла замуж, потому что тоже влюбилась – и родитель девочки Эли стал ее мужем, а также родителем Мити и Лерочки. Сутулый умный Митя и Лерочка, о которой учителя честно говорили, что она звезд с неба не хватает. Разве что в английском.
– А зачем вообще хватать звезды? – смеялась Татьяна. – Пусть остаются на небе.
Элю она упорно привечала, звала в дом – теперь он был у нее, пусть и не такой, о каком мечтала, зато свой, точнее, конечно же, – мужа. Она покупала ей подарки, объясняла про Вову в середине слова, но Эля так никогда и не простила свою учительницу – раньше самую из всех любимую. Она ее так любила! Феей считала и даже не верила долгое время, что Татьяна Степановна, как все, ходит в туалет – пока не встретила ее однажды на выходе из кабинки. На двери была намалевана красная буква Ж, похожая на растрепанный веник.
– …Вот он, смотри! – Ольга не утерпела, издали показала Татьяне дом. Он стоял на углу и вид имел неказистый. Бревенчатая избушка поставлена, как часто на Урале, на голую землю, на четыре камня. Два окна смотрят на скат и не видную из-за него речку, еще одно – на улицу Ленина-с-бородой. Палисадник окружен забором – как будто лыжи составлены одна к другой. Замшелая шиферная крыша, дряхлые ворота.
Дом угрюмо молчал, не спешил откровенничать с Татьяной. Ему было что скрывать, как, впрочем, и двухкомнатной квартире в Свердловске, куда муж привел ее жить двадцать лет назад. О, то была особенная квартира – злая, разобиженная, несчастная.
Поначалу Татьяна всерьез решила, что квартира ее ненавидит: и полки на голову падали, и поскальзывалась на ровном месте, и вещи пропадали, нужные книги и учебники – вдруг просто исчезали и далеко не всегда появлялись снова.
Мама, Мария Петровна, ставшая к старости верующей, советовала освятить квартиру, но в то же время совсем не по-христиански размышляла:
– А может, сделано здесь на тебя, Таня? Как ни крути, отца ты из семьи увела.
Мама не приняла зятя, она даже внуков любила не так, как могла бы. Татьяну это не печалило – ей сполна хватило маминого внимания, чтобы желать такого своим детям. А квартира боролась с ней целый год – и однажды, когда в очередной раз прорвало трубу в ванной, именно в тот день, когда ждали гостей, Татьяна решилась на серьезный разговор.
Выглядело это, конечно, нелепо: беременная Татьяна стоит в коридоре и гладит рукой стену:
– Ну что ты, в самом деле? Почему ты меня не любишь? Тебя обижали, я знаю. Не заботились. Запустили. Теперь всё будет по-другому. Я сама – совсем другая. Хочешь ремонт? В комнатах сделаем побелку и накат. Серебристый. Или золотистый? Какой хочешь?
Квартира призадумалась. Помолчала пару дней. А потом решила поверить хозяйке – и не пожалела. Татьяна с нежностью думала о своем городском жилище – никогда не скупилась на то, чтобы порадовать квартиру подарком. Ну и ремонт, конечно, сделали с тех пор не один. Беленые стены с накатом, модным в семидесятые, опять оклеили обоями, да и те обои – уже в прошлом. На заводе мужу обещали четырехкомнатную, но как-то слишком уж долго обещали – поэтому Татьяна затеяла еще один ремонт. Всё делала, как всегда, сама – потому что умела всё, спасибо маме.
А потом в их чистенькую, добрую, свежую квартирку, как и во все другие дома страны, пришло дурное время. О четырех комнатах и думать теперь не следовало – платили бы зарплату. Так ведь не платили!
Сколько всего случилось за каких-то полтора года! Как это уместилось в такой ничтожный промежуток времени – Татьяна так и не смогла понять. Вполне приличная, по советским понятиям, бедность стала нищетой. Муж превратился в истерика, нужно было ему помогать, причем срочно, а не ждать от него помощи. То же самое происходило у подруг – Алка однажды с горечью сказала: я в своей семье – мужчина. Я работаю, я учу с детьми уроки, я добываю продукты.
Татьяна долго не хотела бросать школку, но потом ей пришлось выбрать – свои дети или чужие. Решил всё случай. Мама договорилась со своей знакомой – Фарида работала директором продуктового магазина, и Татьяна время от времени получала с черного хода пару банок сайры, курицу или еще что. В тот день ей достались и курица, и яйца, никого не учившие, но дефицитные. Жила Фарида на Уралмаше, этот район был для Татьяны словно бы еще одним, отдельным городом. Она в нем честно ничего не понимала, терялась и блуждала, как в потемках, даже ясным днем. Вот и теперь – вышла из магазина Фариды, нагруженная, и не сразу поняла, куда идти. Бродила по уралмашевским дворам, опускала глаза: навстречу попадались крепкие ребята, только и ждавшие, чтобы сцепиться с кем-то – для начала взглядом. Они так странно ходили – заметно раскачивались при ходьбе, как моряки в кино.
Наконец вышла к трамвайной остановке. Трамваи почему-то не ходили. Татьяна дошла до вокзала, возненавидев по дороге и курицу, и яйца – плевать, кто из них был первым. Чтобы остыть, успокоиться, вспоминала зимнюю картинку – маленькая Лерочка прикладывает теплые пальчики к замерзшему стеклу. Вначале делает следы подушечек, а потом – всю остальную лапу, ребром ладошки. Получался правдоподобный отпечаток на трамвайном стекле – через этот след отлично было видно, какая черная зимою ночь в Свердловске.
Что будет дальше, непонятно. Чем кормить детей, неизвестно – еще и Фарида сказала больше не приезжать. Нет, надо искать дом – чтобы печка, огородик. Соседка, Любовь Ивановна из консерватории, вон, уже буржуйку купила. Если рубленый будет, бревенчатый, то с печкой не пропадешь. Пересидеть дурное время…
Прокормиться от земли.
Ольга постучала в гнилую калитку уверенно и громко, но открыли им не сразу. Хозяин – с печатью сидельца на лице и с вытатуированными перстнями на пальцах – всё делал подчеркнуто неторопливо. Заросший травой дворик, очерченный навесом, понравился сразу. А вот дом молчал так, словно ему зажали рот. Татьяна почувствовала, что начинает громко сопеть и вздыхать, как бывает, если человек ей неприятен, но слова – под запретом. У хозяйки глаза метались по лицу, как тараканы по грязной кухне. Кроме них при разговоре присутствовала древняя старуха, безмолвная, как индейский вождь, и белобрысый мальчишка лет двенадцати, которого Татьяна решила спросить о чем-нибудь безобидном. И не придумала ничего лучше, чем узнать имя.