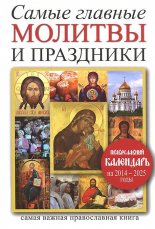Сполохи детства Калита Степан
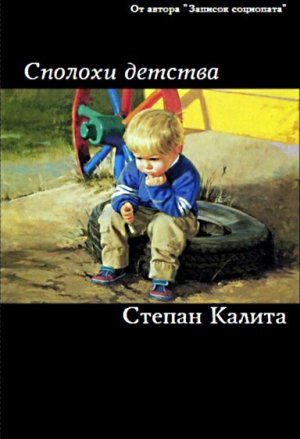
И я не ходил. Тем более, что Олеся на следующий день в саду сказала, что мама попросила ее «своих кавалеров больше в дом не приводить». Подозреваю, будущему Олесиному мужу с такой тещей пришлось несладко.
Удивительным образом мы с Олесей после детского сада оказались в одной школе, в параллельных классах. И потом периодически встречались. Правда, о свадьбе речь уже не шла. Да и дружба у нас, в общем, не сложилась. Дружить с девчонками было не принято. Да и интересы у нас порядком разошлись.
Зато потом, уже после школы, мы неожиданно оказались в одной компании. И разговорились. Жизнь у нее, в общем, сложилась удачно. Сейчас Олеся многодетная мама. Я однажды видел ее малышей – у них грушевидные мордашки с огромными щеками…
В общем, для меня индивидуальность всегда была важнее такой банальной вещи, как красота. Впоследствии я почти влюбился в девочку, которая умела громко свистеть. У нее отлично получалось – может, потому, что двух передних зубов недоставало. Мне очень нравилась одноклассница, у которой один глаз был карий, а другой – зеленый. Меня в разное время привлекали поэтесса и любительница тантрического секса. Я обожал женщину, делавшую колоссальные успехи в бизнесе. И одновременно любил девушку-скрипачку с тонкой талией и большой попой. И конечно, когда я познакомился с фанатичной любительницей пауков, наш роман был неизбежен. Но о нем я предпочитаю не вспоминать.
В шесть лет от роду я уже был женат. Конечно, пока неофициально. Но брак был вполне серьезным – с моей и с ее стороны. Мы ходили везде, держась за ручку. Я целовал ее в щеку и губы. И она с удовольствием их подставляла. Мои малолетние приятели при виде такого «безобразия» выражали большое удивление. А мы заявляли им, что когда подрастем, обязательно поженимся. Нужно только немного подождать.
Подождать нас уговорила ее мама, женщина экстравагантная, с отличным чувством юмора и стиля. Я запомнил ее в широкополой красной шляпе с выгнутыми полями. Она постоянно курила сигареты через золотистый мундштук и меняла кавалеров, как перчатки. Почему-то предпочитала усатых мужчин. Я то и дело видел во дворе ее дома весьма своеобразных усачей – усы у них были разной степени длины, густоты и цвета – от моржовых боцманских до маленькой тонкой полоски под носом. Ей явно нравилось, что у ее малолетней дочери уже в таком возрасте завелся «жених» – меня она привечала, поила чаем и разговаривала со мной, как со взрослым. Как-то раз даже спросила, не собираюсь ли я отпустить усы. Я серьезно ответил, что, скорее всего, отпущу сразу усы и бороду – так в то время носил мой папа. Она неодобрительно покачала головой и сказала, что с усами и бородой я буду похож на полярника, и она не уверена, что Полина (так звали мою шестилетнюю жену) тогда будет меня любить. «Будет!» – уверенно возразил я. «Как скажешь», – согласилась, весело смеясь, ее мама.
Как некоторые моряки заводят себе жен в каждом порту, как курортники берут жену на время отпуска на теплых морях, так я имел жену только в дачном варианте. Мы общались только там. Город был территорией далекой от любви, и нам даже в голову не приходило когда-то встретиться там. Все происходило в течение двух-трех лет, а потом сошло на нет, как это бывает с подрастающими детьми, курортниками и моряками дальнего плаванья – ведь в этом нет ничего серьезного, это так, романчик на время…
Все началось в один прекрасный день, когда я копался на огороде. Меня отрядили прополоть сорняки, что я с большой неохотой делал. У наших соседей по даче поселилась интереснейшая старушка – художница. Маленький домик с верандой стоял на отшибе от главной усадьбы. Этот домик (он потом сгорел за считанные минуты) соседи сдавали на лето. Днем старушка гуляла, или сидела на веранде с мольбертом – и писала акварелью местные пейзажи. В то время она казалась мне очень и очень старой. По моим понятием, ей было лет сто, не меньше. Руки ее напоминали сухие ветки и сильно дрожали, но кисть она держала твердо, и картины, я отчетливо это помню, отличались четкими линиями, нисколько не смазанными.
Мама Полины каким-то образом познакомилась со старушкой-художницей и во что бы то ни стало вознамерилась, чтобы та давала ее дочери уроки. Эта прихоть и позволила мне обрести жену… Сначала я заметил девочку с ранцем, которая уверенно шагала мимо нашего забора. Она сразу заинтересовала меня миловидным личиком и огромными синими глазами. Потом я увидел ее еще раз, и еще… И наконец заметил, что она ходит к художнице. Тогда я припал к забору, и стал наблюдать за ней. Она сосредоточенно, не отвлекаясь ни на что, рисовала чашки и фрукты с натуры. А старушка делала ей самые разные замечания. На мой интерес к ним они поначалу не обращали никакого внимания. Но однажды художница позвала меня жестом своей подагрической руки – поманила костлявым пальцем – и я нехотя направился к ним.
– Как тебя зовут, мальчик? – спросила старуха.
– Степан, – ответил я.
Она тоже представилась, но я, увы, не запомнил ее имени.
– А это Полина, – сказала художница, проницательная, она, конечно же, заметила мой интерес к девочке. Но Полина была настолько занята рисованием, что даже не обернулась ко мне. Она осторожно водила кистью по бумаге, зажав от усердия во рту кончик маленького язычка.
– Понятно… – ответил я. И замер, не зная, что еще предпринять.
– Если хочешь, ты можешь приходить – смотреть, как мы занимаемся, – предложила художница.
Я радостно закивал: это было как раз то, на что я рассчитывал.
С этого дня я уже с утра дежурил возле забора – поджидал девочку с ранцем, а потом спешил за ней, на занятия по рисованию. Мне нравилось в моей первой жене буквально все. Но особенно ее покорность. «Можно я провожу тебя до дома?» «Да», – тихонько. «Я тебя поцелую… в щеку?» «Да», – едва слышно. «Давай я приду к тебе в гости». «Хорошо». Отвечала она, едва шевеля губками – что мне тоже очень и очень нравилось. Сам я в то время любил орать и командовать. Так что мы друг другу идеально подходили. Вскоре я стал повседневным гостем у девочки Полины. Тем более, провожатый ей требовался – путь до дома ей предстоял неблизкий – через лес.
– Ты куда опять идешь? – удивленно вопрошал мой дачный приятель Леха, на время он меня потерял.
– К Полине, – гордо отвечал я. – К своей жене.
Однажды он напросился пойти вместе со мной. И хотя сильно сомневался в наличии у меня жены, в первый же день убедился, что все именно так, как я и рассказываю. Полина сидела на лавочке возле дома, я подсел, по-взрослому обнял ее рукой за плечо и поцеловал в щеку. Она лишь робко улыбнулась в ответ.
– Видал? – спросил я Леху.
– Ага, – ответил он – не без зависти, как мне показалось.
Во дворе у Полины жил черный ворон с подрезанными крыльями. Обычно птица сидела на цепочке. Но иногда Полинина мама отпускала ее прогуляться. И тогда ворон с важным видом прогуливался всюду и бывал довольно агрессивен. Однажды я ему чем-то не понравился, и он погнался за мной, громко щелкая клювом. С тех пор я ворона невзлюбил. Обычно он был молчалив, но иногда на него находило разговорчивое настроение, и тогда он начинал громко кричать: «Здр-р-равствуйте! Здр-р-р-авствуйте! Кар-р-рлуша хор-р-роший!».
Дом у моей жены был трехэтажный. Все ее пожилые родственники к моменту нашего знакомства успели отойти в мир иной, оставив кучу никому не нужных вещей. Среди них было множество дешевых украшений, шляпок, пожелтевших фотографий и старинных книг. Умерший дедушка Полины собирал книжки-миньоны. Читать их было очень неудобно, из-за крошечного шрифта, а коллекционировать, должно быть, – напротив, удобно. Мне запомнилась одна – «Лесков, Медведь» – на обложке изображен был бурый мишка. Книжка легко умещалась в детской ладошке.
– Хочешь, бери себе, – предложила Полина. – Мне она не нужна.
И я, конечно, взял такой ценный подарок. И долгое время таскал его, как талисман. Пока он не затерялся где-то на даче.
Вообще, глядя на все эти вещи, заполнявшие старый дом Полины, как реликвии в европейских «лавках древностей» (есть такой уникальный бизнес у англо-саксов), я впервые подумал о том, что ничего не надо собирать и копить. Потому что потом этот ненужный хлам (а как только уходит хозяин вещей, они таковыми и становится) будет никому не нужен. Вещи без хозяина быстро теряют первоначальную ценность, тускнеют, и на глазах делаются прошлым.
Для шестилетнего мальчика я вообще слишком много думал. По-моему, это вредно. Потому что отняло у меня огромную часть беззаботного детства. Но тут уж ничего не поделаешь. Если родился с нейронами, которые слишком быстро бегают по нервным окончаниям, так и будешь с ними мучиться всю жизнь…
Так прошло лето. Наступила осень. А с ней и первая школьная пора. И совсем другие впечатления и влюбленности занимали меня. Следующим летом я почти не вспоминал свою подругу. Тем более что художница, как выяснилось, умерла за это время. И некому было преподавать уроки живописи девочке с голубыми глазами. И все же – я набрался смелости, и отправился к Полине.
Как оказалось, у нее совсем ничего не изменилось. Тот же ворон на цепочке в саду. Та же романтически настроенная мамаша с длинным мундштуком. И Полина, немного повзрослевшая за год, но все такая же прекрасная. Теперь она училась играть на фортепиано – учительница приходила к ней музицировать прямо домой. Я воспринимал эти два часа как вырванные из жизни. Если с рисованием я еще мог смириться – мне нравилось, как на бумаге проступают силуэты чашки, цветка в вазе и фруктов, то наигрывание однообразных гамм представлялось мне настоящей мукой. Все то время, пока она овладевала азами фортепиано, я сидел во дворе и дразнил ворона. Кидал в него маленькими камушками, а он налетал на меня с возмущенным граем.
– Как прошел год? – поинтересовалась Полинина мама.
– Очень хорошо, – ответил я.
– Сколько троек в четверти?
– Немного.
Похоже, ее совсем не интересовало количество моих троек в четверти, потому что она отвернулась к старому зеркалу и стала красить губы. Через час за ней заехал очередной усатый кавалер. На сей раз местный милиционер. И повез ее на сороковом москвиче в местный же ресторан.
Пока ее не было, мы с Полиной поцеловались немного, потом забрались наверх, на третий этаж, в ее комнату, и стали болтать обо всем на свете. Я заметил, что за год она стала намного разговорчивее. К тому же, теперь ее интересовали разные «любовные делишки», как она их называла, и мне это очень не понравилось. Она даже завела себе дневник, куда записывала данные обо всех кавалерах. И я там тоже был. Пришлось отвечать ей на дурацкие вопросы, чтобы она могла заполнить какую-то девчачью анкету.
Я появлялся у девочки с синими глазами еще множество раз – но все реже и реже. Куда веселее мне было проводить время с Лехой и другими дачными приятелями.
В последний раз я увидел ее, когда мне уже было лет тринадцать-четырнадцать. Мы с Лехой внезапно решили сходить и посмотреть, как поживает Полина. И пошли.
У Полины на даче гремела музыка (ее мама была явно в отъезде) и гуляла очень пьяная компания из ребят постарше. Наверное, даже студенты. А один длинный (я заметил, что у него уже заметны черные усы) постоянно обнимал ее за плечо и лез целоваться. Она отталкивала его и говорила: «Уйди!» Но так жеманно, что было понятно – ей совсем не противно.
– Это кто такие? – спросил «студент» про нас.
– Это Степа и Алексей, – представила нас Полина, – мои друзья с детства, живут здесь рядом.
– Ну что, муфлоны корявые, в бубен захотели?! – вдруг надвинулся на нас усатый.
Мы в ответ угрюмо промолчали. В бубен не хотелось.
А он вдруг расхохотался.
– Да это же шутка такая, пацаны, заходите, у нас вина полно, – сгреб нас в охапку и потащил на дачу… Они пили какое-то плодово-ягодное пойло, от которого меня чуть не стошнило, как только я его попробовал.
– А где ворон? – успел я спросить Полину, пока ее снова не вовлекли в водоворот танцев и разговоров ни о чем.
– Карлуша умер, – ответила Полина, – давно уже.
– Жалко, – сказал я.
Мы еще немного посидели, а потом я толкнул Леху.
– Давай двигать.
Вся компания была явно старше нас, и мы чувствовали себя неуютно. Впрочем, девчонкам – Полине и ее подругам – явно все было по душе. Когда мы уже подходили к воротам, она догнала нас.
– Степ, ну ты заходи, – сказала она. – Сегодня просто, видишь, подружки приехали. И ребята из города.
– Ладно, – ответил я. – Зайду как-нибудь.
Но так и не зашел. Я понял, что моя детская влюбленность в девочку с голубыми глазами развеялась навсегда, и уже никогда не вернется.
Времени не существует, когда блуждаешь по памяти. Вот я – маленький мальчик, сидящий на скамейке, подпер кулачком щеку, и размышляю о том, что мир несправедлив. Ведь у Кольки Сапрыкина есть велосипед. А у меня даже самоката нет. Потому что у родителей вечно нет денег. И в то же самое время я сижу на уроке географии, и оттачиваю остроумие, потешаясь над Ромой Ивановым. Он не знает ничего. То есть совсем ничего. Он туп, как животное. Не может даже показать Америку на карте. Учительница меня обожает, часто говорит: «Учитесь, как надо шутить, у Степы. Надо острить, друзья мои. А не ослить, как некоторые из вас». Вот я паркую первую машину возле торгового павильона, чтобы похвастаться перед товарищем, что купил себе не какую-нибудь колымагу, а настоящую BMW. Вот я сижу в Центральном парке на Манхэттене, и прикидываю, что делать – ведь у меня нет ни денег, ни грин-карты – а в Россию мне путь заказан. И вот я же с бультерьером Ларсом иду в настоящем по спальному району, где когда-то жил.
У Ларса – удивительный характер. Он гораздо круче меня. Он стойко переносит тяготы и лишения собачьей жизни. Никогда не попросит еды, пока я сам не решу, что пора насыпать корм. Никогда не будет скулить, даже если ему очень надо на улицу – встанет у двери, и будет стоять, склонив морду. И никогда не предаст хозяина. Более преданную собаку сложно представить… Чужих Ларс не жалует. Относится к ним настороженно. Если приходят гости, старается лечь между ними и мной – оберегает хозяина от возможного нападения. Агрессию никогда не проявляет, поскольку обладает устойчивой психикой, но всегда настороже – его невозможно застать врасплох…
Мы перешли дорогу и идем к кинотеатру. Здесь во времена моего детства проходили дискотеки. Банду Рыжего танцы не интересовали. Но на дискотеки они приходили всегда. Любимое место для жестоких развлечений и расправ. Здесь они регулярно кого-то били. А через некоторое время, обнаглев от безнаказанности – и резали. На них боялись донести. Потому что они жестоко мстили всякому, кто готов был им противостоять. Одной смелости порой недостаточно – должно быть достаточно глупости, чтобы пойти против бандитов – потому что, взрослея, они все больше превращались в абсолютных отморозков. При этом, хоть и пили, и курили, но весьма активно занимались спортом. Во дворе возле школы стояли брусья и турник. Все видели, как Рыжий подтягивается не меньше двадцати раз. И делает снова и снова подъем переворот, демонстрируя, что силы у него хватает. Чужих на спортивные снаряды они не пускали. Делали исключение для пары-тройки ребят, которых знали с детства. Да еще для «старшаков». Так звали двух приблатненных мужиков, тусующихся с пацанами. Пацаны к ним тянулись – а те рассказывали байки из своей жизни, исполненные воровской романтики и блатного фольклора…
– Ой, – вскрикивает бабка. – Что ж ты такую страшную собаку завел?!
Я привык к такой реакции. Ларс даже носом не ведет в сторону бабки. Мы идем дальше.
– Я передачу по телевизору видела, – кричит она вслед, обращаясь не к нам, а к другим случайным прохожих, – всех таких собак надо усыпить…
У Ларса хватает ума и благородства не обращать внимания на лающих людей и животных. Сам он никогда не брешет. Так и не научился. Да ему и ни к чему.
Некоторые стереотипы в сознании человек изживает. Другие остаются с ним на всю жизнь. Помню, как в средней группе детского сада я гордился, что родился в советской стране. И с ужасом думал: что было бы, если бы я появился на свет где-нибудь в Америке? Такой кошмар и представить было невозможно. Страшнее всего было фантазировать, что я родился негром, и меня угнетают проклятые капиталисты.
Мишку Харина, хулигана из хулиганов, я как-то спросил:
– А что, Мишка, ты рад, что ты негром не родился?
Он счел это очень обидным. И, склонив голову, изо всех сил боднул меня в живот…
Вечером я решил пожаловаться маме.
– Мама, – сказал я, – меня Мишка Харин толкнул.
– А ты что сделал? – спросила мама. Она не была сторонницей непротивления злу насилием. И считала, что надо давать сдачи во всех случаях.
– А я упал, – ответил я печально.
Маму мой ответ почему-то очень насмешил.
– В следующий раз, – сказала она, – толкни и ты его. И посильнее. Ты упал. А он пусть улетит.
Я так и поступил. С тех пор стычки с Мишкой Хариным происходили постоянно. Он был ребенок-ураган. Сейчас таким ставят диагноз «гиперактивность» и накачивают успокоительным. Раньше с детьми так не поступали. Считалось, что гиперактивность – свойство характера. В принципе, они были правы. Отдельным взрослым гражданам (в том числе, и тем, кто находится в публичном пространстве) седативные препараты совсем не помешали бы. Но их никто почему-то не назначает…
Детям внушали не только гордость за родную страну, но и многие истины, долженствующие определить их поведение в советском социуме. Пропаганда начиналась в детском саду. Воспитатель задавал детям стандартный набор вопросов, и они должны были отвечать.
– Кто знает, – спрашивала Марь Иванна, – почему советский флаг красного цвета?
Ответ на этот вопрос я знал, меня просветила прабабушка, в славном прошлом – революционерка с маузером (я видел фото), и потянул руку.
– Так, Степа…
Я встал, и, задыхаясь от волнения, выпалил:
– Потому что красного цвета кровь рабочих и крестьян!
Марь Иванна была искренне удивлена, но и горда одновременно.
– Молодец, Степа, абсолютно правильно, – сказала она…
В другой раз Марь Иванна напротив – отругала меня. Причем, очень несправедливо. Пренебрежение к хлебу считалось чем-то вроде тяжкого преступления против нравственности – наследие голодного времени. Один из моих согруппников, Дима, оказался настоящей «белогвардейской сволочью». Во всяком случае, именно так я его и назвал. Он не только бросил хлеб на пол, но и оклеветал меня.
– Это Степка хлеб бросил, – сказал он без зазрения совести, – я видел.
– Ах, ты, белогвардейская сволочь! – вскричал я, возмущенный до глубины души, и кинулся на подлого врага с кулаками…
Марь Иванна мой порыв не оценила, схватила меня за ухо и отвела в угол. Там я стоял полчаса, глотая слезы – это было первое несправедливое наказание в моей жизни. И отличный жизненный урок. Лжецу за его поступок ничего не было. Меня же, пытавшегося восстановить истину, воспитательница и слушать не хотела. Я осознал, что, хотя врать нехорошо, подлый человек может уйти от ответственности. А значит, если надеяться не на кого, справедливость могу восстановить только я.
На прогулке я так удачно подставил подлому Диме подножку, что он упал – и расквасил нос. Зареванный, Дима побежал жаловаться воспитательнице. А я – следом за ним. Обогнал его, и первым закричал: «Марь Иванна, я нечаянно, он сам на меня наткнулся».
– Будьте осторожнее, – сказала Марь Иванна. И Дима, мгновенно прекратив рыдать, выпучил на нее пуговицы хитрых глазок. Затем перевел пораженный взгляд на меня. Сам он привык врать и изворачиваться. Но никак не ожидал такого коварства от других…
В меня настолько вколотили почтение к хлебу, что я по сию пору не могу выбросить оставшиеся от батона куски. Они тщательно режутся и сушатся. Поэтому у меня дома всегда полно соленых сухариков… Помню, я испытал настоящий шок, когда внезапно обнаружил во дворике возле дома полбуханки черного. Ее кто-то бросил птицам. Этот «враг народа» вскоре появился. Он был приличного вида, в очках, с портфелем в руке.
– Ты чего, мальчик? – спросил он меня. – Пусть птички поедят.
Я к тому времени отнял хлеб у пернатых и стоял, не зная, что предпринять.
– Это вы… – выдавил я. – Вы им дали?
– Я, – сказал очкарик, пожал плечами. – А что?
– Люди проливали пот, – сказал я, – работали сутками, чтобы собрать пшеницу. Умирали на полях. А вы… – Я осекся, потому что испугался. А вдруг этот «враг народа», для которого труд тысяч советских людей ничего не значит, захочет меня убить – потому что я знаю, что он сделал?
Осознав опасность своего положения, я прижал к себе хлеб и стремглав кинулся прочь. Погони не последовало.
Исклеванные птицами полбуханки я принес домой и положил на кухонный стол.
– Это что такое? – спросила вечером мама, когда пришла с работы.
Я рассказал ей о встрече с «врагом народа».
– Ну, понятно, – мама сунула хлеб мне в руки: – Пойди, и отнеси к помойке. Пусть птицы съедят. А потом придешь – и помоешь стол.
Как громом пораженный, я побрел к помойке. В моей картине мира опять зияла трещина. Но уже формировалась новая картина, в которой хлеб все еще был на почетном месте. И в то же время – по отношению к хлебу людей оценивать было нельзя… Потому что есть и живет с нами бок о бок сытая с детства сволочь, которая никогда на полях не пахала, всегда ела и пила в три горла, и понятия не имеет, каким потом и кровью достается крестьянину хлеб… И это тоже люди, а не «враги народа»…
Человеческое бытие сугубо рационально. Всевышний все за нас рассчитал. Он – не только демиург, но и практикующий математик. На планете Земля рождается ровно столько мальчиков и девочек, чтобы соблюдать равновесие между полами. И если мальчишек вдруг появляется на свет намного больше, это верный признак – будет война. Обычно нас ровно столько, чтобы к совершеннолетию возник баланс. Далеко не все мальчишки доживают даже до шестнадцати. Многие гибнут в опасных играх. Представители сильного пола обычно слишком беспечны, чтобы инстинкт самосохранения победил в них бурную натуру. Все закономерно. И тот из нас, кто не наигрался в детстве, часто уже в юности и зрелости подвергает опасности и свою жизнь, и жизнь своих близких. Старается добрать то, что не получил раньше. Адреналиновые наркоманы – в детстве, как правило, тихони.
Я был мальчиком беспокойным, и меня, как и многих моих сверстников, все время тянуло на подвиги. Мы развлекались довольно опасными способами. Ходили, к примеру, на железнодорожный мост, где подкладывали на рельсы большие строительные гвозди. Из них получались отличные ножички, если обмотать рукоятку изолентой. Одним из таких ножичков мой приятель Лешка однажды ударил в глаз соседского паренька – случайно, но тот едва не ослеп. Внутрь моста можно было спуститься по небольшой металлической лестнице, и лечь на шатких деревянных мостках – прямо под железнодорожное полотно. Когда над тобой проносился поезд, грохот стоял невообразимый, и доски ходили ходуном. А под ними было метров сорок, никак не меньше, и если сверзиться вниз – вряд ли останешься в живых.
Я боялся высоты, и приходилось регулярно перебарывать страх, чтобы не оказаться трусливее остальных. Это преодоление перекочевало со мной из детства во взрослую жизнь. Борьба со страхом высоты заставила меня в свое время осуществить прыжок с парашютом. И первый, и второй, и все последующие прыжки… Но страх перед высотой я так и не преодолел. Время от времени мне снится один и тот же сон – я срываюсь с крыши и лечу в пропасть. Еще один мой постоянный ночной кошмар…
Ребята из района проводили довольно много времени на крыше. Здесь мы играли в карты, тусовались время от времени – в отсутствии других занятий. Меня неизменно охватывало чувство тревоги, и в животе становилось щекотно, когда случалось подходить к краю. Мне, или другим. Это даже не было сопереживанием. Видя, что вытворяют мои приятели, я опасался за себя. Парень из моего дома, Степка Бухаров, высоты, казалось, не боялся вовсе. На крыше он проделал трюк, поразивший меня, помнится, в самое сердце. Бухаров перелез через низкие перильца и, свесив ноги, повис над пропастью. В это мгновение я не мог вымолвить ни слова – буквально оцепенел от охватившего меня ужаса. Другие ребята только посмеивались. Затем Бухаров подтянулся и забрался обратно на крышу, глядя на нас сверху вниз.
– Ну, чего? – спросил он. – Кому не слабо?!
Всем было слабо, но сознаваться в этом никто не собирался.
– Сейчас просто неохота, – заявил Олег Муравьев. – В другой раз – обязательно повторю.
– Ну-ну, – Бухаров рассмеялся, выражая недоверие. – Вот и посмотрим.
Он всегда был крутым. Но плохо кончил, пойдя по кривой дорожке, и угодив в тюрьму…
С того же железнодорожного моста, который я упоминал выше, Олег Муравьев решил спуститься по канату. Дело это было рискованным. Этим подвигом Муравьев собирался доказать, что ему тоже «не слабо». Он перекинул канат через металлический поручень, с одной стороны каната привязал палку, уселся на нее, и взялся за свисавший до земли другой конец. Перебирая руками, Олег принялся медленно спускаться. Некоторые ребята наблюдали за ним снизу, другие – сверху. Он не добрался и до середины, когда одному из пацанов пришла в голову «прекрасная» идея – помочиться герою на голову. Что он и осуществил. Олег орал благим матом, но отпустить веревку не мог – он бы упал и разбился. Большинство ребят едва животики не надорвали от смеха… Я, признаться, тоже. Когда Олег наконец добрался до земли, он сразу схватил обломок кирпича и кинулся за обидчиком. Тот улепетывал так, что только пятки сверкали… Через несколько дней они все-таки встретились лицом к лицу – и состоялась жестокая драка. Муравьеву удалось отстоять свою честь. Обидчику он выбил при этом два передних зуба…
Мы обожали недостроенные здания. На стройках можно было найти железные пруты, и фехтовать на них, воображая себя мушкетерами. К тому же, в недостроенных домах можно забраться на самую верхотуру, а там тоже весьма опасно – очередной способ пощекотать нервы.
Один мой знакомый паренек как-то раз сорвался в котлован, и сильно покалечился, упал на арматуру. Ему пробило легкое, и выжил он только чудом. Другого – искусали собаки, на стройках всегда обитали целые стаи…
Про Банду рассказывали, что как-то раз они забрались на стройку и перебили там всех собак. Причем, убивали и взрослых и щенят. Такие у них были развлечения.
Это лишь одна из множества историй, составлявшая своеобразную мифологию вокруг малолетних отморозков. Их репутация складывалась из такого рода поступков из года в год, росла и множилась, как клубок пауков.
– Знаешь, как в «Гитлерюнгенд» брали? – спросил меня тогда Володя Камышин.
Я помотал головой.
– Мне папа рассказывал. Им давали щенка, и надо было его вырастить и потом убить. Тогда тебя брали в «Гитлерюнгенд».
Так и рождались стереотипы в сознании. Сначала отец Камышина зачем-то измыслил эту ничего не имеющую с реальностью историю. Затем Камышин рассказал ее мне. И я долгие годы искренне верил, что так и было. И только потом узнал, что Гитлер обожал собак, и был к ним очень привязан. Неудивительно, ведь собаки куда лучше людей. И все тираны, как правило, очень сентиментальные люди…
Наш район от соседнего отделяла железная дорога. И как это часто бывает, районы враждовали. Человек – не только животное стадное, но и привязан к ареалу обитания. Тех, кто проживает на его территории, он выделяет из толпы. Массовые драки случались прямо на рельсах. В стычках принимало участие иногда до нескольких сот человек. Дрались кусками арматуры, цепями, пускали в дело свинцовые накладки, кастеты и ножи. Разумеется, не обходилось без травм. Бывали, и убитые. Порой их не забирали с поля боя. Их находили на рельсах случайные прохожие или путевые рабочие в оранжевых жилетах.
Безутешные родители одного забитого насмерть паренька поставили могилку прямо возле железнодорожной платформы. Не знаю, почему районные власти позволили. Но во времена моего детства она так и стояла там – напоминанием, что здесь проходит фронтовая линия.
Мне было лет шесть, когда я забрел в чужой район – там был парк с аттракционами и кинотеатр. Меня отловили какие-то шпанистые ребята, и навешали тумаков, когда я отказался отдать им мелочь. С разбитыми губами и носом я шел домой и отчаянно переживал обиду. «За что? – думал я. – Я же ничего им не сделал». Потом мне объяснили приятели во дворе, что я из другого района, а значит – для них я чужак.
Банда также тщательно отслеживала, чтобы в наш район не забредали чужие, даже малолетки. Окружив незнакомого паренька, его допрашивали с пристрастием – где живет, и что здесь делает. И не дай бог ему было сознаться, что он пересек железную дорогу по каким-то своим делам!..
Родители одного мальчишки никак не хотели понять, почему он всеми силами упирается, и не хочет посещать музыкальную школу, расположенную неподалеку от моего дома. А он, скрывая обиду – потому что знал, что «стукачу» еще хуже будет, каждый день бывал бит – просто за то, что он из другого района. В конце концов, ребята из Банды перестарались – его родители не могли не заметить огромный синяк под глазом. На следующий день со скрипачом в музыкальную школу отправился дядя. Он хотел поначалу только поговорить с Рыжим и его корешками. Но те послали дядю куда подальше, и принялись над ним глумиться, после чего он кинулся на них с кулаками.
Через некоторое время на дядю завели уголовное дело, за избиение подростков. Причем, родители уродов сильно возмущались. Мальчишку окончательно затравили. У него все время отбирали деньги, а потом отняли и скрипочку…
Я шел из школы с Володей Камышиным, а ребята из Банды возле брусьев и турника развлекались, пиликая на инструменте. Бедняга стоял неподалеку и кричал: «Отдайте, ну, отдайте, пожалуйста!»
– А ты отними, – Рыжий смеялся. Остальные ему вторили.
– Вот сволочи, – сказал Камышин. – Надо ему помочь.
– Лучше не связываться, – возразил я. – Ты и ему ничем не поможешь, и сам получишь.
Но Камышин развернулся и зашагал к школе. Вскоре он вернулся с преподавателем. Тот действовал решительно.
– А ну, – сказал он Рыжему, – подойди сюда. Это твоя скрипка?
– Моя, – ответил тот нагло.
– Это моя, моя, – закричал паренек.
Вскоре скрипку ему вернули. И он поспешно убежал, уложив ее в футляр.
– А с тобой мы еще поговорим, – Рыжий погрозил Камышину кулаком. Володька ничего не ответил. Только губы сжал в тонкую линию – все же волновался, знал, что с рук ему это не сойдет.
– Ну вот, – сказал я расстроено, – опять ты нарвался.
На самом деле, я ощущал досаду на себя – оттого, что струсил…
Со скрипачом мы потом, когда Камышина уже не стало, случайно встретились в кассах кинотеатра в его районе – и разговорились. Оказалось, он отлично помнит тот день. После случая со скрипкой родители наконец решили перевести его в другую музыкальную школу, подальше от хулиганов. Когда я рассказывал ему, что произошло с Володькой, он от ужаса стал бледным, как крашеная известью стена.
– Как ты там живешь? – проговорил он.
– А у вас что тут, лучше что ли? – возразил я.
Он вздохнул. И поведал, что дяде дали условный срок. Хотя могли и посадить.
– Твой дядя – молодец, – сказал я. – Хоть кто-то нашелся, чтобы им врезать…
Мы делали рогатки сначала из дерева и жгута, а потом из проволоки и тонкой вьетнамской резинки. Мой новый папа – замечательный мягкий и образованный человек – боролся с моим пристрастием к стрелковому оружию весьма своеобразно. Он не проводил со мной воспитательные беседы, не старался меня в чем-то убедить, рогатки просто исчезали из моей комнаты.
– Черт возьми! – кричал я, перерывая вещи. – Она же здесь лежала! Куда она могла деться?!
– Понятия не имею, – отвечал папа, поправляя очки. – Ты уверен, что сюда ее положил?..
Через многие годы, он сознался, что выкидывал рогатки. Тогда же я был убежден, что в их исчезновении сокрыта какая-то тайна, и меня преследует злой рок.
Из проволочных рогаток стреляли «пульками» – их делали тоже из гнутой проволоки.
В доме возле школы жил одноглазый мальчик лет десяти. Излюбленным развлечением членов Банды было поджидать его под балконом. Они очень надеялись выбить ему «пулькой» оставшийся глаз. Но расстояние было слишком велико – так что их надежды так и не оправдались. А потом паренек, кажется, куда-то переехал.
Мы устраивали настоящую рогаточную войну в заброшенном детском саду. Я обожал эти полувоенные игрища. «Пульки» летали со свистом, и разили врага, как настоящие пули. От их попадания даже оставались следы – синяки и ссадины. Они не сильно меня волновали. До тех пор, пока однажды «пулька» не влетела и мне прямо в левый глаз. Пару дней я совсем ничего не видел. Радужка стала красной. На лице появился громадный черный синяк. Травматолог, осмотрев глаз, сказал, что ничего страшного – зрение восстановится. И посоветовал родителям тщательнее следить за ребенком.
С присущей ему серьезностью, несмотря на очень молодой возраст, папа взялся за дело. Он решил, что недавно усыновленного отпрыска надо отдать в спортивную секцию – чтобы не болтался без дела.
– Но мне же всего шесть лет! – возмутился я. – Я гулять хочу.
– Это хорошо, что шесть лет, это отличный возраст для того, чтобы начать спортивную карьеру, – сказал папа.
Его выбор пал на секцию дзюдо. Прежде всего, потому, что она находилась недалеко от дома. И еще потому, что тренером там был его институтский друг.
Я оказался в секции самым маленьким. Каждый день перед началом занятий тренер проверял у воспитанников дневники.
– Два, Петров, – говорил он печально и кивал на дверь, – вперед, исправлять двойку, завтра придешь.
– Ну, Иван Харитоныч…
– Давай без «ну», ты знаешь правила.
Почему-то дзюдо занимались одни только двоечники. Мне юные спортсмены отчаянно завидовали, потому что в школу я пока не ходил, и дневника у меня не было.
Я так увлекся спортом, что даже дома отрабатывал приемы и падения. Забирался на диван и грохотом рушился на пол. Умение падать без травм – было одним из основных навыков дзюдоиста.
В соседней квартире жил мальчик Паша. Он уже посещал третий класс. Но иногда Паша приходил ко мне в гости – чтобы поиграть в шахматы. Я демонстрировал Паше, как ловко умею падать. И он восхищенно признавал, что – да, у меня отлично получается, и что он, пожалуй, разбил бы себе все локти и колени, если бы так навернулся.
Навык, надо сказать, очень пригодился. Поскольку я был самым маленьким, на тренировках меня швыряли и так и эдак. Об маты я бился с таким стуком, что тренер Иван Харитонович стал опасаться за мою жизнь. Все-таки он взял на себя ответственность за меня перед моим новым папой.
– У тебя отлично получается, – сказал он, погладив меня по голове, – но тебе лучше бы придти через годик. А еще лучше, – он помолчал, – через два. Пусть отец мне позвонит… – Рано, рано ему еще заниматься, – говорил Иван Харитонович потом, когда они встретились. – А вот будет ему лет восемь – тогда в самый раз.
В общем, дзюдоиста из меня так и не получилось. В восемь лет у меня уже были совсем другие интересы. Умело падать я больше не хотел.
А спортивные секции вошли в мою жизнь на долгие годы. Я занимался спортом до самого поступления в вуз – пока все мое время не стала отнимать учеба и бизнес. Три раза в неделю, иногда – четыре, я три года подряд посещал секцию бокса. Занятия проходили в юношеском Дворце спорта, куда я ездил на электричке.
Обычно тренировки заканчивались поздно, и возвращаться к платформе приходилось в темноте, шагая вдоль гаражей мимо фонарей с разбитыми лицами. Там, в этом мрачном крысином углу, вечно ошивались темные личности – распивали портвейн, тусовались без дела… Однажды меня попытались ограбить. Наезд выглядел стандартно: «Ты с какого района? А чего тут делаешь?!» И тут же один из хулиганов бесцеремонно полез ко мне в карман. Они всегда так действуют. Привыкли к безнаказанности. И не ожидают от жертвы сопротивления. Особенно, если жертва одна, и намного младше. Наглец получил правый апперкот. А я отпрыгнул назад и встал в стойку.
– Ты чего?! – заверещал ушибленный.
– Боксер, что ли? – насмешливо спросил другой, в низко надвинутой кепке.
– А ты проверь, – сказал я. К тому времени я занимался уже полтора года. И хотя высоким ростом не отличался, но уже почувствовал некоторую уверенность в своих силах.
Особенно мне удавался хук. Поначалу я не оценил его убойную силу. Но после нескольких успешно проведенных хуков, стал применять его постоянно. Можно сказать, хук стал моим коронным ударом. С легким разворотом ноги, вложив плечо и корпус, я бил прямиком в подбородок. И обожал момент, когда противник валится с ног, теряя ориентацию в пространстве и всякую способность к дальнейшему сопротивлению. Проблемой было только то, что в моей весовой категории в секции почти не было бойцов – такой я был крошечный и тощий.
– Бабки есть? – продолжая лыбиться, спросил парень в кепке и достал из кармана нож.
– Нет, – я помотал головой.
– Смотри, если ты мне врешь… Я ж проверю.
– Только билет на электричку…
Они некоторое время стояли молча, потом расступились.
– Ладно, вали, я сегодня добрый, – парень в кепке сунул нож обратно в карман.
Я поспешно прошел мимо, будучи наготове. Ожидал неожиданного удара. Такие любят действовать подло. Но его не последовало.
Регулярно возле гаражей ко мне цеплялись какие-то подвыпившие граждане. Я старался на их пьяные выходки не обращать внимания. Такое поведение очень свойственно, к сожалению, нам, русским. Большинство россиян не умеют пить культурно – их тянет на мордобой и ссоры с окружающими…
Не сказал бы, что делал в боксе большие успехи. Он помог мне укрепиться физически, почувствовать уверенность в себе. Я развил координацию движений. Но в детстве я был очень маленького роста. На физкультуре стоял последним в строю, перед девчонкой – дылдой. К тому же, очень щуплый. Мне не хватало данных для того, чтобы стать хорошим боксером. Из меня получился бы куда лучший бегун. Но легкая атлетика меня не привлекала – я хотел драться и побеждать. И мечтал нарастить мышцы, поскольку почти сплошь состоял из одних костей. Я относился к занятиям всерьез – и хотел достичь результата. Но когда меня в очередной раз не взяли в летний спортивный лагерь и на соревнования в сентябре, я понял, что с боксом пора завязывать. К тому же, откровенно надоело постоянно мотаться на электричках.
Я решил, что моего отсутствия тренер и не заметит. И был очень удивлен, когда он вдруг позвонил и спросил, куда я пропал. Возможно, это была всего лишь формальность. Но, услышав голос тренера, оценив его интерес ко мне, я вернулся в секцию еще на месяц. И все равно бросил бокс, когда другой тренер поинтересовался, не хочу ли я заняться иным видом спорта – тем, где нужно много бегать и прыгать.
Из секции бокса я перешел на футбол. Ездить туда тоже было очень неблизко. К тому же, ребята занимались давно и явно играли лучше меня. Зато у меня оказался настоящий вратарский дар. Выяснилось, что я обладаю молниеносной реакцией и способен брать практически любые мячи. Но команда была настолько сильной, что на первом же подростковом чемпионате я всерьез заскучал. Настолько, что, стоя в воротах, стал смотреть на небо, размышляя о своем – и зевнул гол. Все принялись меня ругать почем свет стоит. Тогда я прямо посреди игры швырнул на землю перчатки – и отправился в раздевалку. Характер у меня ровный, но периодически случаются вспышки ярости, когда я считаю, что со мной, или с кем-то еще, поступили несправедливо.
На футбол я больше не вернулся. Вместо этого записался в секцию самбо. Мне казалось, что самбо похоже на обожаемое мной в детстве дзюдо, и здесь мне будет замечательно. Но я уже не был к тому времени шестилетним мальчишкой, и требования у тренера ко мне были совсем другие. Маленький и щупленький, я неизменно оказывался на татами, как ни старался победить противника. Очень хотелось провести мастерский хук, как я умею, но, к сожалению, махать кулаками в самбо было не принято. Поэтому оттуда я тоже ушел. Туда, где могли пригодиться мои боксерские навыки – в подпольную секцию карате.
Меня привел в подвал, где проходили занятия, закадычный с самого раннего детства друг Серега. Сам он занимался фанатично. И делал большие успехи.
– Карате – это не просто драка, как кому-то может показаться, – говорил сенсей Вадим Викторович, прохаживаясь перед строем учеников, – это целая философия. Нельзя просто так дать человеку в морду. Надо понять, почему ты это делаешь. И зачем, собственно… Ведь морда у человека, да и вся голова, не просто так даны.
Такого рода наставления предваряли каждое занятие. Вадим Викторович пофилософствовать любил. Философия его была простой и незатейливой – и со временем я узнал, что ничего общего с подлинной философией карате она не имела.
Сенсей, к сожалению, за любовь к карате угодил в заключение. Откуда через некоторое время вернулся. Но уже совсем другим человеком. Боевыми искусствами больше не занимался. Стал пить по-черному. Я неоднократно встречал его возле пивного ларька, и он поспешно отворачивался – стесняясь учеников и своего нынешнего вида. Прежде поджарый красавец с тонкими усиками он превратился в рыхлого фигурой, одутловатого пьяницу. Я однажды подошел, заговорил с ним. Он, прикрывая рот рукой, что-то прошамкал. И я заметил, что зубов у Вадима Викторовича почти нет. В общем, тюрьма его сломала.
Я занимался карате и в других секциях, причем – самых разных школ. И даже достиг определенных успехов, сменил несколько поясов. При этом всегда жалел, что оставил бокс. Махать ногами я не любил. Противников атаковал, в основном, кулаками. А от ударов предпочитал уворачиваться, а не ставить блоки. Сказывалась раннее боксерское воспитание…
Родители очень хотели, чтобы я вырос человеком всесторонне развитым. Поэтому спорт я должен был совмещать с занятиями в музыкальной школе. Еще в детском саду меня отправили на прослушивание. Как сейчас помню, нужно было угадать ноту, спеть песенку, прохлопать ритм. Чувством ритма я блеснул, ноту угадал, а вот песенку проорал так, что музыкальный педагог сморщился, будто только что разжевал лимон. Они, конечно же, решили, что слухом я обделен. Бедный мальчик… Тем не менее, желание родителей, чтобы чадо занималось музыкой, было основополагающим. Так что в школу меня приняли.
Со временем выяснилось, что слух у меня все же есть. Причем, почти абсолютный. Просто мне никто не объяснил, что слова под музыку надо пропеть так, чтобы голос совпал с нотами в гармонию. Мне казалось, ноты сами по себе. Слова сами по себе. И это правильно. Но детям надо разъяснять даже такие простые вещи.
Посещения музыкальной школы меня порядком тяготили. Во-первых, до нее было очень далеко ехать. А во-вторых, оказалось, что надо разучивать нудные гаммы на пианино, и тратить на это целые часы. Слово «Сольфеджио» я до сих пор считаю ругательным. Успехами я не блистал. И в конце концов, решительно заявил маме, что в музыкальную школу я больше не пойду. Характер у меня был упертый, как я уже упоминал. У мамы – не менее упертый. Но против меня – ха, бороться было бесполезно. После трех недель противостояния, когда я демонстративно саботировал музыкальную школу, прогуливая занятия, она сдалась.
– Но, – сказала мама, – так просто ты от меня не отделаешься. Учительница музыки будет приходить к тебе домой.
– Хорошо, – ответил я. И подумал, что, по крайней мере, не придется ездить к черту на кулички.
Тут же добрые друзья родителей подарили нам пианино «Заря» – «главное, чтобы мальчик играл», и меня усадили за него. Выяснилось печальное обстоятельство. Пианино мне сильно велико – я всегда был маленького роста. Решение, впрочем, нашлось. Под попу мне подложили несколько толстенных томов «Советской энциклопедии». Теперь я мог положить руки на клавиши, но не мог дотянуться до педалей.
– Ничего, – сказала учительница музыки по имени Тамара Леонидовна, – пусть пока без педалей «работает», – так она называла игру на пианино, – а потом, даст бог, вырастет.
Она оказалась провидицей, через год я действительно подрос – и дотягивался до педалей. Но Тамары Леонидовны к тому времени в моей жизни не стало. И пианино стояло без дела, как памятник моему упрямству, до тех пор, пока за него не усадили моего младшего брата.
Тамара Леонидовна запомнилась мне злой крючконосой женщиной, похожей на ведьму. Среди черных волос встречались седые, абсолютно белые, пряди. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так седел. Возможно, она выбеливала их специально. Две глубокие морщины тянулись от крыльев хищного носа. Она придерживалась самых жестких правил воспитания учеников, и била меня по рукам, если я что-то неправильно делал. Еще на ладони мне натягивали вязаные перчатки, вставляли в них яблоки, и так заставляли играть гаммы – чтобы я правильно держал руку. Тамара Леонидовна орала по малейшему поводу, называла меня «бестолочь» и «неумеха».
Говорят, многие профессиональные тренеры ведут себя подобным образом, и их подопечные потом становятся олимпийскими чемпионами. Но Тамара Леонидовна не знала, с кем она связалась. Я никогда не признавал над собой ни малейшего насилия. Когда она явилась в очередной раз, я забрался под кровать. Никакие увещевания и уговоры на меня не действовали. Я твердо решил, что музыка – это не для меня. И тогда она совершила роковую ошибку, легла на пол, и сунула под кровать руку, пытаясь меня достать. Тут я ее и укусил, поймал сухую музыкальную кисть, и впился прямо в мясо между большим и указательным пальцем зубами. Завопив не своим голосом (почему-то басом), Тамара Леонидовна отдернула руку, вскочила и выбежала в прихожую.
Больше она не появилась. Я потом слышал, как мама по телефону уговаривала ее вернуться. Но Тамара Леонидовна была непреклонна – «к этому зверенышу ни за что». Так я одержал очередную маленькую победу, навсегда избавив себя от необходимости заниматься музыкой.
– Напрасно радуешься, – сказал папа, поправляя очки, – когда-нибудь ты пожалеешь, что не стал заниматься музыкой.
Папа оказался не прав. Я так никогда и не пожалел об упущенной возможности стать Рихтером или другим великим пианистом. И гитару я тоже осваивать не стал. Гитарист в нашей компании вовсе не был ее душой. Душой компании в новые времена был магнитофон. А у меня имелся самый лучший – японский, купленный на лично заработанные деньги. Кстати, пса я назвал в честь знаменитого ударника «Металлики» – Ларса Ульриха.
Уже потом, в юности, я разучил несколько простеньких номеров почти на всех музыкальных инструментах. Я могу сыграть и спеть пару песенок на гитаре, откинуть крышку рояля – и наиграть одну легкую композицию Баха, и даже на баяне умею играть ровно одну песню. Я сознательно не пошел дальше. Эти музыкальные финты нужны мне были только с одной целью – чтобы произвести впечатление на девушек. И я умело ими пользовался. И финтами, и очарованными моей мнимой разносторонностью девушками…
В другой раз я переупрямил родителей, когда отказался лечить молочные зубы. В определенный момент они вдруг стали разваливаться, хотя почти не болели. И тогда мама отвела меня в стоматологическую поликлинику, где процветал вопиющий садизм. Зубы рвали наживую, без всякого наркоза, побрызгав чуть-чуть заморозкой. Считалось, что молочные зубы обязательно надо удалять, иначе коренные вырастут больными. Не знаю, кто это придумал. Потому что эта медицинская теория оказалась обыкновенным бредом. После первого же удаления, когда, зафиксировав меня в кресле, «добрый доктор» пассатижами рвал больной зуб, я наотрез отказался снова появляться в Детской стоматологии. Экскулапы-педиатры, между тем, считали, что мне надо выдернуть целых три резца. Я выдержал трехдневное противостояние, с криками, руганью, уговорами и обещаниями всяческих благ. В конце концов, когда я ушел из дома, и меня пришлось ночью искать по улицам, мама сдалась.
– Делай, что хочешь, – сказала она, – ходи без зубов.
Но без зубов мне ходить не пришлось. Мне уже очень немало лет, но до сих пор у меня нет ни одной коронки.