Чудо и чудовище Резанова Наталья
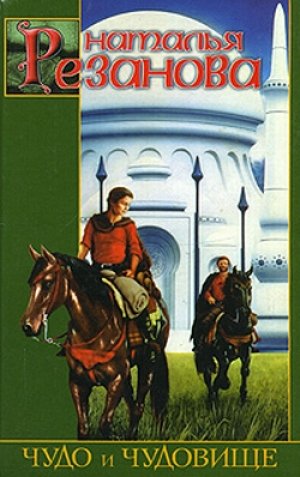
Все это время Дарда стояла недвижно. Она растерялась, что бывало с ней крайне редко. Не то, чтоб она ожидала, будто кто-нибудь из наблюдавших за происходящим пастухов ей поможет. Никто никогда ей помогать не будет – это она усвоила очень хорошо. Но на нее никогда не нападали взрослые. Дети, подростки, ее ровесники – сколько угодно, а взрослые нет. Очевидно, они полагали это ниже своего достоинства. Офи не в счет, он имел право бить и ругать ее.
О разбойниках Дарда, разумеется, знала, но прежде никогда с ними не сталкивалась. И хотя она несколько лет посвятила тому, чтобы быть готовой к подобной встрече, на нее нашло некоторое оцепенение.
Правда, бродяга на нее лично не нападал и не угрожал ей. Он попросту не принимал ее во внимание. Но он убил Джуху! Джуху, единственную подругу Дарды. И ягнята, которых он уносил, были ее имуществом. Значит, он бил и грабил ее, Дарду.
Ярость заполнила ее. Такая ярость, какой она не испытывала прежде. По ее телу выступила испарина, лицо, и без того уродливое, исказила судорожная гримаса. Дарде хотелось кричать и бить, бить, пока противник не изойдет кровавыми лохмотьями…
И, однако, она не потеряла власти над рассудком. Этот человек, сознавала Дарда, в несколько раз сильнее ее. И если она просто так на него бросится, он поступит с ней, как с Джухой. И Дарда постаралась сдержаться. Она не знала, что подавляемая ярость становится только крепче.
– Пусти ягнят, – произнесла она.
Закир обернулся – не оттого, что он собирался как-то отвечать на этот призыв, а от неожиданности. Он и позабыл о присутствии девчонки-пастушки. Вид ее бродягу изрядно позабавил. Эта уродина, корчащая рожи, с косицами, торчащими как рога, могла бы превзойти шутов, развлекающих народ на сельских ярмарках. А голос, скрипящий, как несмазанное колесо! Он расхохотался, затем взвалил одного ягненка на плечи, второго засунул под мышку, и стал подниматься по тропе.
Овцы мекали, толпясь у воды. Наверху, над обрывом брехали собаки. Хозяева псов помалкивали. Спина Закира мелькала между скал, маня Дарду сдернуть с плеча лук и выстрелить.
Но она не сделала этого. Теперь она позволила ярости подчинить себя, и делала то, что ярость приказывала. А ярость приказывала не стрелять.
Промедлив всего лишь миг, Дарда, оттолкнувшись длинным посохом, взлетела на вершину ближайшей скалы. Чтобы перепрыгнуть на соседний валун, посох ей уже не понадобился. Подъем она одолела прежде, чем Закир успел добраться до середины тропы. Он остановился, удивленно моргая. Безобразная девчонка, оставленная им далеко позади, вдруг оказалась впереди него. Она стояла над обрывом, преграждая ему дорогу, сжимая в руке ремень с петлей. И повторила так же глухо:
– Пусти ягнят.
Решительно, смотреть на это чучело было невозможно. Особенно, когда она стала раскручивать над головой свой ремешок. Точно так же шуты размахивали на праздниках трещотками. Сейчас треска слышно не было, но все равно, ужасно смешной представлялась Дарда Закиру..
Галька из сумки Дарды годилась только на то, чтобы сбить человека с ног, для убийства она не была предназначена. Но Дарда не взяла в расчет того, что сбивает противника с ног на крутой тропинке, над рекой с каменистым руслом. Зато это взяла в расчет ее ярость.
Закир все еще смеялся, когда камень попал ему в лоб. Возможно, смеялся и когда летел вниз. Но когда упал, уж точно не смеялся.
Он лежал, сложившись пополам, растеряв в полете не только ягнят, но и силу свою, и грозный вид. Череп его при ударе о прибрежные камни раскололся, и кровь, смешанная с мозгами, расползалась в чистой воде священной Зифы.
Вечером на усадьбу к Офи пришел старейшина селения. Был он, вопреки званию, отнюдь не стар. Старейшинами избирались главы из наиболее почитаемых и состоятельных семейств, и были это, как правило, люди средних лет. так что посетитель был ровесником Офи, если не моложе. Шел он, однако, не торопясь, как степенный старец, не только потому, что так прилично было его званию, но и ради цели визита, не слишком приятной для хозяина. Старейшина явился сообщить о приговоре, вынесенном дочери Офи за совершенное ею преступление.
Не за убийство. Обычай дозволял защищать свое добро, и даже за убийство полноправного члена рода при определенных обстоятельствах не стали бы карать по всей строгости. Убийство изгоя, тем паче – грабителя, и вовсе не считалось преступлением. Однако труп Закира упал в реку, осквернив ее. Дарда совершила святотатство.
Если бы случившемуся не было свидетелей, дело можно было бы как-то замять. Сказать, что Закир упал не в воду, а на прибрежные камни. Но люди видели – труп лежал в воде, и умолчать об этом было невозможно… то есть возможно, убей Закира кто-нибудь другой. Кто угодно, кроме Дарды. Эти пастухи, взрослые сильные мужчины, покорно терпели выходки обнаглевшего грабителя, потому что боялись его. А сопливая девка не испугалась. И теперь им было стыдно. Впрочем, способ избавиться от этого тягостного чувства придуман давно, и действует одинаково что в больших городах, что в глухих селениях. Нужно найти виноватого. Он (или она) всегда находятся, особенно если это создание безобразное, злое и никем не любимое.
Дарда осквернила реку. Если не провести ритуал очищения, поля, на которые попадает вода из реки, не дадут урожая, а скот эту воду из реки пьющий, вымрет. А очищение требует затрат. Пусть платит та, кто виновна.
Никто, разумеется, не требовал от Дарды, чтобы она возмещала ущерб сама. За женщину отвечает муж, за девушку – отец, в крайнем случае мать. А Дарда к тому же еще не вошла в совершенные лета. Так что платить должен был Офи.
Это старейшину и смущало. Офи он знал хорошо, и был уверен, что тот не примет покорно решение совета. Может, даже собаку спустит…
Но брехливый пес сидел на привязи, и только для порядка вякнул, когда в ворота вошел чужой человек. Волновало же его совсем другое, и стоило лишь носом потянуть, дабы угадать, что. Для этого и собачье чутье не требовалось.
Во дворе располагалась большая открытая печь, сложенная из камней, обмазанных глиной. Усадьба Офи не составляла исключения – в большинстве селений хозяйки пекли хлебы, варили и жарили вне дома. И сегодня огонь в печи пылал особенно жарко, и на огне булькал котел с душистой похлебкой, и Самла следила за ним. Офи рубил мясо на плоском камне. Супруги не обменивались шутками относительно предстоящего пиршества, как делали бы многие другие. Виноват был не только мрачный нрав Офи. Пиршество было вынужденным. Несчастные ягнята, покраденные и утерянные грабителем, переломали себе ноги. Ничего не оставалось, кроме как их забить.
Завидев пришельца, Самла отложила ложку с длинной ручкой, которой мешала похлебку, и скромно отошла к дому. У входа на шесте висел лук – оружие, не подобающее честным пастухам. Старейшина огляделся не без опаски. Уродки нигде не было видно. Ее собаки – тоже. (Ему не сказали, что Джуху убили.)
– Зачем пришел? – грубо спросил Офи.
– Мир этому дому, – с нарочитой вежливостью ответил старейшина. А затем достаточно учтиво, многословно, с выражением глубочайшего почтения хозяину дома, сообщил, что старейшины селения, совместно со служительницей богини решили, что в возмещение убытков, причиненных как общине, так и ее божеству, Офи обязан выплатить штраф в размере пяти серебряных нирских маликов.
Офи принялся орать даже громче, чем старейшина от него ожидал. И его можно было понять – сумма была огромная, старейшина не припоминал, чтоб такое возмещение назначали за деяние подобного рода, да еще сотворенное несовершеннолетней. Офи рычал, шипел и плевался, заявляя, что не намерен отдавать то, что нажито таким трудом за много лет, ради прихоти бездельников, которые только и умеют, что сидеть на своих жирных задах и пережевывать сельские сплетни, точно глупые бабы, да еще эта старая дура туда же лезет со своими бреднями! Пять серебряных! Да у него отродясь столько не было, свихнулись вы там, в деревне, что ли! Он вообще никогда в руках серебра не держал!
Старейшина проглотил все оскорбления, и отвечал, что Офи неправильно его понял. Это так принято говорить, вынося приговор – столько-то серебряных маликов, столько-то золотых. Конечно же, деньги ходят в городах, а в деревнях их видят разве что в руках торговцев и купцов. И он, старейшина охотно верит, что почтеннейший Офи не только не владеет таким количеством серебра, но и не держал его не в кошеле или в руках. Однако совет имел в виду лишь, что стоимость выплаченного штрафа в переводе на денежное исчисление должна равняться пяти серебряным маликам. А уж в то, что стоимость имущества почтеннейшего Офи не дотягивает до названного, старейшина не поверит никогда. Оно стоит гораздо больше, в пять, а то и в десять раз (тут старейшина соврал). И уважаемый Офи ничуть не пострадает, если передаст общине четырех курдючных овец, два мешка шерсти, дюжину голов сыра, и две дюжины мер зерна. Недостачу можно восполнить за счет мелкой птицы и вязок сладкого лука.
Офи разразился еще более злобной бранью. Но сколько бы он ни ярился, платить придется, он это понимал, и старейшина тоже. В случае отказа он становился изгоем, таким же, как Закир, а для человека на возрасте, обремененного имуществом и семьей, это было никак не подобно.
Офи кричал, старейшина стоял на своем, похлебка в котле бурлила, и Самла, молчаливо проходя мимо мужчин, доливала туда воды, и снова скрывалась в доме. К тому времени, когда спорящие пришли к соглашению, мясо уже сварилось, и всякий хозяин обязан был пригласить гостя откушать, тем более, что гость – не босоногий мальчишка, а человек почтенный и обличенный определенной властью. Но только не Офи. И уяснив, что приглашения он в этом доме он не дождется, обиженный старейшина на прощанье сказал:
– А девку твою учить надо. Крепко учить! Сегодня она бродягу до смерти пришибла, завтра – кого-нибудь из нас, а после и до родителей доберется. Я бы на твоем месте ее продал, да только кто страшилище такое купит?
Когда старейшина ушел, Офи первым делом кинулся к висевшему на шесте луку и сорвал его оттуда. Самла тихо охнула. Но Офи вовсе не собирался целиться в спину обидчику, да и не умел он стрелять. Вместо этого он сломал лук об колено, зачем-то сосредоточенно растоптал обломки, а затем швырнул их в печь. После чего метнулся к загону для скота, и выволок оттуда Дарду, которая во время разговора там пряталась. Швырнул ее на землю посреди двора.
Дарда с самого возвращения ожидала, что отец будет ее бить, и успела к этому приготовится. Однако взамен ударов на нее обрушились слова:
– Убирайся! В пустыню, в горы, только вон отсюда!
Против обыкновения, Офи не орал, а почти сипел, голос его прерывался. Злоба душила его, как неопытный убийца.
Развернувшись сидя, и машинально цепляя рукой валявшийся рядом с ней посох (она все время таскала его за собой, и выпустила лишь, когда упала), Дарда таращилась на него во все глаза.
– Убирайся! – повторил Офи. – И не проси, чтоб я тебя простил, нечего мне тебя прощать, уродина, я тебе не отец!
Самла в дверном проеме слабо охнула. Офи мгновенно повернулся к ней, словно она завопила во весь голос.
– Что заныла! Надо было сразу выбросить эту тварь. Она во всем виновата! И ты тоже, дура! Говорили же, что это подменыш! Из-за нее у нас не было больше детей! А теперь она нас грабит и разоряет! Хочешь дождаться, пока она нас убьет? Вон, сказали тебе! – он снова обернулся к Дарде. Та все еще медлила, переводя взгляд на мать.
Салма обычно избегала глядеть в лицо дочери. Но теперь она не отвернулась. С заметным усилием, негромко, но отчетливо, произнесла:
– Уходи. Ты не наша дочь.
И только после этого опустила на лицо покрывало.
Дарда поднялась с земли. Она ушибла ногу, когда упала, и ей пришлось опереться на посох. Она не ждала от жизни ничего хорошего, и заранее готовилась ко всем возможным ударам судьбы. Но беда пришла оттуда, откуда Дарда ее не чаяла. Она могла представить что угодно, кроме того, что родители от нее отрекутся. И она была оглушена, потрясена, убита.
Неуклюже припадая на ногу, она побрела к распахнутым воротам. Брехливый пес лаял ей вслед и рвался с цепи.
ДАЛЛА
Все эти годы она жила как во сне, хотя не сознавала этого, полагая, что так и должно быть. И лишь потом ей стало ясно, что сон этот был прекрасен. Все обожали ее, все заботились о ней – отец, мать, муж, слуги, подданные. Было одно существо, о котором должна заботиться она – сын, но такая забота не была тяжкой.
Нельзя сказать, что вся жизнь Даллы состояла из одних радостей и удовольствий. Она испытывала горе, когда умерли Адина и Тахаш, испытала боль при родах. Но всеобщая любовь, волнами накатывающая на нее, исцеляла, затягивая раны, прежде чем они начинали кровоточить. Может быть, окружающие втайне заботились и о себе. Они привыкли любоваться Даллой, а красота ее была столь совершенна, что сама мысль, что ее могут исказить рыдания, была неприятна. Впрочем, буйное веселье такой красоте тоже не подобало. Совершенству приличествует спокойствие.
Она и была спокойна. Спокойна и благожелательна. Об этом позаботились ее воспитатели. Давно минули времена, когда царицы и княгини Нира самолично вершили судьбами своих городов, доверяя мужьям и соправителям лишь дела войны. Теперь они ведали только заботами женской половины дворца. И многие восприняли такие перемены без сопротивления. Отдавая мужчинам власть, они одновременно избавлялись и от связанной с ней ответственности. А дочери этих княгинь и цариц уже не догадывались, что может быть как-то по иному.
В Маоне, где в прошлое правление старые традиции были еще сильны, княгиня Адина хотя бы присутствовала на совете, в суде, или на приемах послов. Далла была избавлена от этого бремени. Конечно, в нравы маонской знати проникли новые веяния, требовавшие, чтобы женщина вела более затворническую жизнь. Свобода допускалась лишь для жриц Мелиты. И, пусть Тахаш не был в восторге от чужеземных культов, против этого он ничего не мог возразить. Богиня недвусмысленно указала, что покровительствует дочери князя. Чудесное преображение Даллы привлекло в храм Маонской Мелиты множество паломников, как из Нира, так и из других стран. А где паломники, там и купцы и ремесленники. За полтора десятилетия Маон во многом изменил свой облик, утратил былую старозаветность и благолепие, стал более шумным и суетливым, но зато и заметно обогатился. Так что Тахаш, нравилось ему это или нет, вынужден был покровительствовать храму Мелиты. Да он ничего против и не имел. Он лишь озаботился тем, чтоб Далла не знала о некоторых крайностях культа – тех, о которых не стоит знать невинной девушке и дочери знатных родителей.
Верная Бероя, хоть и была ревностной прихожанкой Мелиты, так же делала все возможное, чтоб ничего не смущало покой ее любимицы. За это время она совершенно поседела, морщин на лице ее прибавилось, но оставалась по-прежнему бодра и сильна, легка на ногу, и никто не назвал бы ее дряхлой старухой. Она всегда была рядом с Даллой и могла гордиться тем, что пестует в княжеской семье уже третье поколение.
Она была рядом с Даллой, когда та играла в дворцовом саду с подругами, утешала ее после смерти Адины, наряжала и наставляла перед свадьбой, и она же вместе с повитухой приняла при рождении сына Даллы – Катана. Теперь она, разумеется, большую часть своего времени уделяла мальчику. Как ни любила она Даллу, а все же маленькие дети требуют большей заботы. Даже если они такие сильные и здоровые, как Катан.
Его Бероя никогда не носила в храм Мелиты. Культ перестал считаться чужеземным, но мальчику, тем паче наследнику княжества, это не подобало. Его следовало посвятить Кемош-Ларану, богу войны. Правда, этого бога в Маоне пока что не очень почитали, но, вероятно, это был вопрос времени. Ведь на трон воссел новый князь, Регем, сын Иорама. А Регем был родом из Зимрана.
Завоеватели явились в Нир примерно пять поколений назад. Утверждали, что будто бы из-за моря. Возможно. А возможно, что это были сородичи племен побережья – у них было немало общего и в языке и в обычаях. Во всяком случае, даже теперь новая знать предпочитала держаться подальше от гор и пустынь, привычных коренным народам.
И тем не менее "коренные" войну проиграли, несмотря на то, что для многих это было занятие обычное. Для многих. Но не для всех. Большинство жителей Нира было – и предпочитало быть землепашцами, пастухами, ремесленниками, торговцами. Со стороны моря пришли только воины. И хотя их было меньше, сражаться они умели лучше, их доспехи были прочнее, и они воевали на боевых колесницах, которых не знали в Нире.
Как водится, вместе с людьми сражались их боги. И Хозяин Небес отступил перед шлемоблещущим Кемош-Лараном. Утвердившись в Зимране, пришельцы воздвигли своим богам великолепные храмы, а старых богов если не изгнали, то изрядно потеснили. Хаддад одряхлел, говорили они, да он и не был никогда настоящим воином, а всего лишь пастухом облаков и погонщиком ветра. Кроме того, он давал слишком много воли своей Никкаль, и та отхватила под свою власть слишком много ремесел. Мелита знает только одно ремесло, но знает его хорошо.
А зимранские певцы, на все царство прославленные, примиряя новую и старую веры, пели о том, как однажды Мелита тайком взяла прялку и веретено Никкаль. И Никкаль, застав ее за прялкой, рассердилась на младшую богиню – нет, не за кражу, а за то, что занялась Мелита не своим делом. И пригрозила, что если еще раз застанет Мелиту за работой, то все ремесла свои передаст ей. И будет Мелита целыми днями прясть и ткать, и чесать шерсть, и сбивать масло. Испугалась Мелита, что даже ее бессмертная красота не выдержит столь тяжких трудов, огрубеют ее руки, обвиснут груди, растрескается кожа, и станет она согбенной, черной от солнца старухой. И поклялась она отныне не знать никакой работы, и занята лишь тем, что пробуждает любовь в людях, богах и животных. Эту песню знали даже в тех областях, где новых богов совсем не чтили, хотя там, конечно, вкладывали в нее совсем другой смысл, чем зимранцы, прославлявшие Мелиту Прекрасную.
Мало кто из пришлых привел с собой жен и наложниц. И обычные воины, особенно те, кто поселились вдали от Зимрана, довольно скоро смешались с местным населением. В Зимране – там блюли и происхождение и обычаи. Но – единокровных царевен и княжен на всех не хватит, а простолюдинок в законные жены брать не пристало. Приходилось жениться на девицах из нирской знати. Так что через два-три поколения мало кто из зимранских аристократов мог похвастаться чистотой происхождения. Из смешанной семьи происходил и Регем, муж Даллы. Он носил уже нирское имя (как и его отец, кстати), лицом и фигурой также мало напоминал своих иноплеменных предков, похвалявшихся ростом и сложением. Но, как ни пришлась ему по вкусу жизнь в провинциальном Маоне, вырос он в Зимране, и впитал тамошние обычаи если не с молоком матери, то с городским воздухом точно. О том, что раньше здесь жили как-то иначе, он имел представление смутное. Хаддад и Никкаль для него были мелкими идолами, принадлежавшими эпохе варварства. Он не стал насильственно прививать Маону почитание Кемош-Ларана. Это казалось ему изменой Зимрану, который был не только столицей, но и городом, где стоял главнейший храм воинственного бога. Иное дело Мелита, ее можно чтить везде. Тем более в городе, где жила любимица богини.
Жена в глазах Регема была во всем подобна своей божественной покровительнице. Ее красота, словно красота Мелиты, была совершенством без порока, и как Мелита, Далла не знала другого занятия, как пробуждать любовь. Он никогда не попрекал жену за то, что она не вникает в домашние дела, не заходит на кухню, не ведет счет припасам, и не сидит за ткацким станком. Разве праздность не есть удел Мелиты? А значит и Далле подобает гулять в саду, купаться, слушать флейтисток, блюсти свою красоту, и встречать мужа в постели всегда свежей и отдохнувшей. Для всего прочего есть слуги.
Таково было его мнение. Но вообще-то официальным воплощением Мелиты в каждом городе считалась верховная жрица храма богини. А верховный правитель воплощал собою Кемош-Ларана. И подобно тому как боги даруют плодородие земле и всему, что на ней обитает, так правитель ради благополучия своих подданных, должен раз в году, во время весеннего праздника Мелиты, всходить на ложе жрицы. Покойный Тахаш ритуалом священного брака пренебрегал, как в силу своих старозаветных воззрений, так и вследствие преклонного возраста. А вот Регем, молодой и воспитанный в почтении к Кемош-Ларану и Мелите, пренебречь им не мог. Он даже бы не помыслил уклониться от обряда, пусть этот священный брак его не сильно привлекал. Конечно, нынешняя жрица Мелиты уже не была той дряхлой старушкой, при которой свершилось чудесное преображение Даллы. Преображение жрицы свершилось более тривиальным образом. Старушка умерла, и на ее место заступила молодая преемница. Сейчас она была уже не так юна, лет на десять старше Регема, но оставалась женщиной цветущей и вполне привлекательной, так что совместный с ней ритуал совсем не вызывал отвращения. Но Регем любил жену, и ему казалось, что деля постель со жрицей, он обижает Даллу. Особенно когда он понял, что из-за религиозной нерадивости отца, Далла о священном браке не имеет никакого понятия. Регем также довольно долго умалчивал о сущности обряда. Но когда он наконец набрался мужества, и с тяжелым сердцем рассказал ей, что вынужден был совершить, она взглянула на него с искренним изумлением, недоумевая, в чем, собственно, он перед ней провинился. И ее великодушие заставило Регема чувствовать свою вину еще сильнее, и он старался быть к жене как можно внимательнее.
Сказать по правде, навязчивая любовь мужа порой раздражала Даллу. Она предпочла бы, чтоб он навещал ее пореже. Но она была далека от того, чтобы высказать это пожелание вслух. Хотя отец не спрашивал ее согласия относительно будущего замужества ( не из жестокости, просто не было случая, чтобы дочь ему противоречила), ничего против Регема она не имела ни до, ни после заключения брака. Он был хорошим, добрым человеком. О лучшем она не мечтала. Зачем мечтать той, которая спит? Сын тоже не доставлял ей хлопот. Он удался в мать не только наружностью, но и крепким здоровьем, и спокойным нравом. Далла играла с ним, наряжала, брала на прогулки, иногда пела ему песенки, которые в детстве слышала от Берои. Обо всем прочем та же Бероя и заботилась. Регем тоже. По обычаю знатной семьи, мальчики до пяти, а то и до семи лет оставались на женской половине, и большинство отцов не шибко уделяло внимания наследникам, покуда они оставались на попечении женщин. Хорошо, если удосуживались изредка на них взглянуть. Регем был не таков. Сына он любил, и занимался его воспитанием даже больше, чем Далла. Пуще того – когда мальчику пошел четвертый год, Регем стал брать его с собой в различные поездки – на охоту, шествия и жертвоприношения. Разумеется – в колеснице, для того, чтобы ездить верхом, Катан был еще мал. Но и так за год он повидал больше того, что творилась за пределами дворца и города, чем его мать – за всю жизнь. А на будущий год отец собирался и в седло его сажать. С этим, правда, была задача. В прежние времена в Нире даже знатные люди не брезговали ездить на ослах, при новой же династии это считалось зазорно. Приходилось искать мула или кобылу посмирней. Для начала. А вслед за верховой ездой Катану предстояло учиться владеть оружием. Ибо будущий правитель обязан быть воином. Воином, при всем своем добродушии и мягкости характера был и Регем. Притом, что за Маон ему не пришлось сражаться ни разу. Но человек, принадлежавший к зимранской знати и служивший Ксуфу, не мог стать никем иным. Регем был отличным наездником, превосходно владел боевым топором, мечом и копьем. В походах под началом Ксуфа ему приходилось сражаться как верхом, так и в колеснице, был изощрен в приемах кулачного боя (это искусство, ранее не известное в Нире, завоеватели принесли с собой, и оно распространялось все шире). Регем собирался обучать своего сына и наследника. И как не убеждали его советники не спешить, он не слушал. Хотя в последние несколько лет в Нире не случалось сколько-нибудь значительных войн – царское войско еще не оправилось от поражения, которое нанес Ксуфу наместник Шамгари – Регем не верил, что такое положение может продлиться долго.
Война с Шамгари приключилась за год до замужества Даллы, и стало быть, больше пяти лет назад. Столько лет в мире – для Ксуфа это невыносимо. Он и не выдерживал время от времени. Правда, вновь напасть на Шамгари Ксуф не решался. Тем более, что на сей раз ему противостоял бы уже не наместник, а сам царь Гидарн, вернувшийся из дальнего похода. А ему лучше было не напоминать о своем существовании. В отличие от Ксуфа, которого певцы именовали "буйный бык", Гидарна скорее следовало сравнить со слоном, отнюдь не злым, но способным походя раздавить того, кто ему подвернется. Однако, кроме Шамгари, имелись и другие соседи, не такие сильные, а предлог для войны… предлог всегда можно найти, если кровь играет. Все же эти войны больше смахивали на набеги, а ради набегов Ксуф не считал нужным созывать своих князей. Достаточно было и тех воинов, что постоянно находились в Зимране. Но временами Ксуф заводил речи о большом походе, не называя точного противника. Недоброжелатели (а у Ксуфа были недоброжелатели, у кого из правителей их нет?) говорили, что Ксуфу следовало бы больше заботиться не о приумножении подвластных земель, а о продолжении царского рода. Разумеется, говорилось это не в Зимране – там за подобную хулу на царя можно было и жизни лишиться. Но что правда, то правда – детей у Ксуфа не было. Даже от наложниц. И ни у одной из законных жен. Первой была княжна из Калидны. Ксуф женился на ней вскоре после того, как вступил на престол в Зимране. Через восемь лет она была возвращена отцу, как неплодная. Возмущенный родитель напал на Зимран, последовала жестокая война, которая, впрочем, скоро заглохла сама собой. Очевидно, князь Калидны счел, что смыл оскорбление, нанесенное его дому, кровью нирцев, и не настаивал на возвращение дочери на зимранский престол.
Незадолго до злосчастного похода на Шамгари Ксуф женился во второй раз. Теперь его избранницей стала девушка из благородной зимранской семьи, также из потомков завоевателей. Имя ее было Гипероха, и оказалась она не более плодовитой, чем ее предшественница. Итак, Ксуфу было почти сорок лет, и он все еще не обзавелся наследником. Поскольку многие женщины – как во дворце, так и за его пределами, могли подтвердить, что "буйным быком" царя именуют не зря, и от священного брака он никогда не уклонялся – и в Зимране, и в других городах, если бывал в походе – Ксуф был мужчина из мужчин. И оставалось лишь посочувствовать царю, что ему так не везет с женами.
До Даллы доходили слухи об этом – пусть в том искаженном, перелицованном виде, в каком любое известие попадает в женские покои. Но хотя она выслушивала болтовню служанок и ближних женщин, несчастья правящего дома Зимрана ее не слишком волновали. Сказать по правде, ее не волновало ничего, происходящее за порогом собственного дома. А то, что происходило в доме, давало мало поводов для беспокойства.
Но вечно такая благодать продолжаться не могла. Печальная весть достигла княжеской семьи, и пришла она именно из Зимрана. Заболел почтенный Иорам, отец Регема. Он был уже весьма в летах, и это известие никому не показалось неожиданным. Далла видела свекра лишь однажды – он приезжал в Маон не свадьбу сына. Ее не удивило, что Иорам так стар – ведь ее собственный отец был ему почти ровесником. В отличие от Даллы Регем был в семье не единственным, а младшим. Однако его старшие братья погибли в войнах или умерли в детстве. В живых оставались только сестры, но они были замужем и жили при своих семьях.
Возраст Иорама оставлял мало надежды, что болезнь его завершиться выздоровлением. Посему сыновний долг и почтительность призывали Регема в Зимран. Приличие и достоинство рода требовали также, чтобы свекра посетила Далла. О предстоящих погребальных церемониях, но которых ей предстояло присутствовать, вслух не говорилось. Регем с тяжелым сердцем просил жену сопровождать его – и оттого, что был расстроен надвигавшимися событиями, и оттого, что беспокоился, как Далла перенесет тяготы пути. Но она спокойно согласилась.
А вот Катану, решил Регем, в столице делать нечего. Причем здесь его возможные дорожные трудности не пугали. Мальчикам, считал он, нужно привыкать к испытаниям как можно раньше. В данном случае пусть узнает, что есть неизбежная разлука с родными. Для этого он уже достаточно большой. Кроме того, полагал Регем, сыну все равно предстоит, войдя в возраст, служить царю – успеет еще наглядеться на столицу.
Катан поплакал, конечно, хотя ему и внушали, что княжескому сыну и будущему воину это никак не пристало. Но суета приготовлений к отъезду, самый вид стражи, сопровождавшей Регема и Даллу, тяжелых мечей и тугих луков, лошадей в новой сбруе, вопящих вьючных ослов – все это заставило его отвлечься и утешиться. Гораздо глубже была печаль Берои. С рождения Даллы – а тому было почти двадцать лет – она не расставалась с воспитанницей ни на один день. И внимательный наблюдатель мог бы заметить, что, хотя Бероя добросовестно заботилась обо всех своих подопечных из княжеского дома, привязанность ее к Далле была сильнее прочих. Удивляться тут было нечему. Далла и Бероя были связаны иными узами, помимо тех, что роднят няньку и питомицу – узами чуда, Однако, как ни огорчала ее будущая разлука, верная прислужница понимала, что никому иному, кроме нее, Далла доверить сына не может. И Бероя осталась в Маоне блюсти княжеский дом.
Регем не зря беспокоился насчет тягот пути. Тревожась об отце, он хотел ехать как можно быстрее. Сам он, верхом или в колеснице, преодолел бы расстояние от Маона до Зимрана в считанные дни. Но присутствие женщин – а Далле никак не подобало ехать без сопровождения служанок – не могло не замедлить продвижения. Кроме того, Далла никогда не ездила верхом, а в колеснице пристало путешествовать лишь воинам, так предписывалось традициями Зимрана. Да и не будь этих традиций, на тряской дороге под палящим солнцем было бы просто мучительно.
Поэтому для Даллы были устроены конные носилки. Это так говорилось "конные", а на самом деле влекли их мулы. Носилки были крытые, со вех сторон занавешенные плотной тканью, что позволяло спастись от солнца, палившего в степях вокруг Зимрана нещадно. Правда, было душно, но тут уж ничего поделать было нельзя. В носилках размещалась только Далла, ее служанки ехали верхом на ослах, вслед за мулами, везущими госпожу. Может быть, они предпочли бы пойти пешком, но Регем слишком торопился, чтобы обращать внимание, каково трястись на ослах рабыням его жены.
Женщина с иным характером огорчилась бы, поняв, что из носилок ничего не видно. Далле это было безразлично. После первого дня в дороге, довольно тяжелого, она приноровилась к носилкам, и на протяжении всего дальнейшего пути целыми днями дремала, свернувшись клубочком. Регем ехал верхом, но в виду Зимрана перебрался в колесницу, ибо в столице, согласно здешним обычаям, знати приличествовал именно такой способ передвижения. Далла не стала откидывать завесу носилок, и до нее в полумраке доносились восклицания и оханья тех людей свиты, кто впервые зрел воспетый Зимран.
Было отчего охать. Зимран был выстроен из белого камня, а умелые зодчие украсили дворцы и храмы сколами горного хрусталя. И казалось, будто город на равнине, под лазурным небом, воздвигнут из снега и льда, слепящих глаза, и обретших чудесное свойство не таять под жарким солнцем. Но Далла, никогда не видевшая ни льда, ни снега, не поняла бы этого сравнения.
Немного задержались у главных ворот. Ибо, пусть Регем обладал правом беспошлинно въезжать в Зимрана, городская стража все равно не пропустила бы беспрепятственно так много людей. И отправились к большому, обнесенному высокой стеной родовому имению Иорама.
Регем поспешал напрасно – в живых он отца не застал. Почтенный Иорам тихо отошел во сне два дня назад. За порядком в доме следила старшая сестра Регема Фарида, переехавшая сюда, когда Иорам перестал вставать с постели. Она-то и послала гонца к брату, и намеревалась, сколь возможно, задержать погребение до его прибытия, хотя и вела соответственные приготовления. Так что тело Иорама, сына Ксенократа, все еще оставалось на этой земле.
Регем, конечно, был от всей души удручен, что не успел выказать отцу долг уважения. Но убивался не слишком – он успел подготовиться к неизбежному. Сейчас ему надлежало позаботиться о достойных Иорама похоронах, а также погребальных играх в честь покойного. Это также не оставляло времени для переживаний. Забот о наследовании имущества у него не было. Затруднения могли возникнуть лишь при наличии нескольких наследников мужского пола, так как закон определял право определять наследника за отцом. Право первородства не оговаривалось, и наследовать не могли лишь сыновья, рожденные наложницами и рабынями. Дочери получали свою долю полностью в качестве приданого, и в дальнейшем ни на что претендовать не могли. Таким образом, Регем оставался единственным законным наследником.
Как и Регем, Далла не плакала, хотя и понимала, какое горе постигло ее мужа – ведь ей тоже пришлось потерять отца. Но и тогда и теперь она встречалась со смертью в достойном, даже благородном облике. Это было горе, но не беда.
Регем отдал ее в эти дни на попечение Фариды. Они сидели в женских покоях вместе. Далла благожелательно слушала рассказы золовки об ее семье, о детях. Сама лишь изредка вставляла отдельные фразы. Ей было грустно и томно, она скучала по сыну, по Берое, по родному дому. Фарида догадывалась об этом и сочувствовала ей. Но он не могла понять, почему Далла ничего не делает, чтобы развеять эту тоску. Сама Фарида не так давно овдовела, у нее было трое детей, старший из которых – Бихри, скоро должен был достичь совершеннолетия и вступить во владения отцовским достоянием. Но он собирался, принеся присягу царю, служить ему вооруженной рукой, и следовательно, все бремя хозяйствования по-прежнему оставалось на плечах Фариды. Но она и до замужества приучена была не сидеть без дела, и коротала дни за прялкой, ткацким станком либо вышиванием. Вряд ли ее можно было принять за живой образ Мелиты, не утруждавшей себя никакой работой. А от Даллы можно было ожидать, что она в крайнем случае сделает несколько стежков, а потом выронит рукоделие или вовсе забудет о нем.
И все же Фарида была далека от того, чтобы осуждать ее. Не то, чтоб она, подобно жителям Маона склонна была видеть в Далле избранницу богини. Но Фарида была очень привязана к младшему брату, а тот любил жену, и похоже, жил с ней счастливо. За это Фарида простила бы ей и худшие недостатки, чем лень. Вдобавок Далла принесла за собой в приданое Маон, и родила Регему прекрасного здорового сына. Так что если ей нравится бездельничать, пусть бездельничает в полное свое удовольствие. В глубине души она была даже рада тому, что Далла не посягает на то, чтобы вести себя хозяйкой в их родовом доме, хотя ни за что бы не призналась в этом.
Меж тем близился день похорон. По исконному обычаю Нира умерших погребали в земле, а для людей состоятельных и знатных строили гробницы. В знак траура обрезали волосы, а бывало, что наносили себе порезы по телу, правда, до таких крайностей, что происходили в Шамгари, никогда не доходили. Там в знак особой скорби и траура исключительного, например, по царю, бывало отрезали себе уши. Приход завоевателей многое изменил. У них было принято сжигать умерших, а земляное погребение считалось низменным и рабским. Так отныне и повелось в столице, хотя за пределами Зимрана обычай этот плохо прививался. Были отменены также и проявления чрезвычайной скорби. Не рыданиями, посыпаниями главы пеплом и стрижкой волос подобало воздавать честь усопшему, но воинскими играми. Так заповедал Кемош-Ларан.
В прежние времена бои проводились у курганов, насыпанных над прахом героев. Так повелось еще с достославных веков, когда предки нынешних жителей городов-крепостей кочевали по бескрайним, оставшимся за морем равнинам. Теперь никаких курганов не было, пришельцы переняли обычай строить гробницы и склепы, где хранились погребальные урны. Семьи победнее хоронили урны в земле и обходились без воинских игр. Но для знати это было обязательно. И сожжение и бои проводились за стенами Зимрана, на так называемом Погребальном поле, отделенном тополиной рощей от Города Мертвых – кладбища, где располагались и могилы бедняков, и склепы аристократов. Только царских гробниц там не было – даже в месте последнего успокоения царям не подобало тесниться среди подданных. Гробницы царей строились к западу от города, на дороге в Калидну.
В баснословные времена курганов, да и много позже в поминальных играх принимали участие свободные воины и пленные, захваченные ими в боях. Последним оказывалась честь – им предоставлялось право погибнуть с оружием в руках, окропив кровью могилу героя, а не влачить тягостное существование в позорном рабстве. Поединки продолжались до тех пор, пока не погибал последний пленник. И отнюдь не редкостью было, что обреченные на смерть прихватывали с собой противников. Тем больше чести герою! Павших сжигали на том же месте, дабы они догоняли ушедшего ранее. В настоящее время бои до смерти практиковались только на царских похоронах. Если в распоряжении не было достаточно военнопленных, их заменяли преступники, приговоренные к смерти. Что касается похорон зимранских аристократов, то здесь смертные поединки превратились скорее в состязания, в которых участвовали как наемные бойцы, так и люди благородного происхождения, обычно из друзей покойного ( но не близких родственников). Возлияние кровью было заменено возлиянием вином.
Вряд ли стоит объяснять, почему все вышеуказанные обычаи относились лишь к похоронам мужчин.
Рано утром из дома Регема вышла похоронная процессия. Впереди шли флейтисты, за ними плакальщицы числом сорок. Они не рвали на себе волос и не царапали лиц, что считалось дурным тоном, но мерно и слаженно выводили скорбную песнь. Следом несли носилки с телом Иорама. Оно было полностью укутано драгоценной багряной тканью, расшитой золотом и пропитанной благовониями. За носилками неспешно катили две колесницы. Похороны относились к тем редким случаям, когда женщинам дозволялось в колеснице ездить, хоть и не править. В первой находились Регем и Далла, во второй Фарида с сыном Бихри. Мужчины (а Бихри, которому шел пятнадцатый год, уже считался мужчиной) были, как предписано – в белом, женщины – в желтом. Замыкали процессию воины Регема и домашние слуги. Они несли оливковые и тополиные ветви, венки, а также кувшины с вином и маслом.
Те, кто хотел почтить память усопшего – а их было немало, собирались прибыть прямо на Погребальное поле. там же ожидали бойцы, которых нанял Регем. Друзья усопшего, те, что здравствовали, из-за преклонного возраста не могли принять участия в погребальных играх. Регем тоже не мог этого сделать, хотя и по другой причине. Существовал особый закон, запрещавший сыновьям сражаться на погребении усопших, а при отсутствии сыновей – младшим братьям и племянникам. Запрет возник в давние времена смертельных поединков, чтобы излишняя родственная почтительность не оставляла род вовсе без мужского потомства.
Далла сидела, одной рукой держась за боковой борт колесницы, другой – подхватив край покрывала. Хотя на скамейку положили набитую шерстью подушку, сидеть было жестко, тряско и неудобно. Перед ней маячила спина мужа. Регем правил, как и подобает, стоя. Далла не хотела отвлекать его жалобами, и молчала. Ее угнетали высота и белизна построек, обступавших улицу, ей было душно, несмотря на то, что настоящая жара еще не наступила.
Когда выехали за городские стены, стало немного получше. Далла вздохнула, откинув покрывало. Нужно немного потерпеть, говорила она себе, и все кончится. Как хорошо, что женщинам не надо смотреть на эти глупые игры и участвовать в тризне…
Погребальное поле было сегодня оцеплено царской стражей – мрачными могучими парнями в кожаных латах и круглых шлемах с наушниками и надзатыльниками. Похожие шлемы носили стражники и в Маоне, но у этих знаком отличия служили бычьи рога. Далле это показалось несколько смешно, и она с трудом сдержала улыбку, вдвойне неуместную – из-за похорон, а также потому, что бык был животным божественным – посвященным и Хаддаду и Кемош-Ларану. Смеяться тут было нечему. Вооружение их составляли копья, за спиной висели луки и колчаны. Обилие стражи объяснялось тем, что почтить усопшего своим прибытием нынче собирался сам царь, и посему погребальное поле надлежало очистить от зевак. Люди Регема влились в ряды оцепления.
Колесница остановилась прямо напротив костра, сложенного еще накануне вечером – Регем лично за этим проследил. Костер был достоин знатного воина. Он был десяти локтей высотой и сложен из стволов кедра, сосны и можжевельника. Украшали его гирлянды из веток этих же деревьев.
Рабы подняли на вершину костра носилки с телом. Регем, передав поводья слуге, спрыгнул на землю. Пора было начинать церемонию, но в отсутствие царя этого нельзя было сделать. Он сделал знак, и флейтисты с плакальщицами выступили вперед. Пусть музыка и пение восполнят вынужденную задержку.
Флейтисты вновь вступили тонко и пронзительно. Кони фыркали и прядали ушами. Ведь это были боевые кони, а флейты нередко подавали воинские сигналы.
Мощный герой, возлюбленный Кемош-Лараном Нас покидая, уходит в жилища блаженных. Как нам теперь обездоленным жить и убогим? Мир без тебя – как развалины после пожара – пели женщины.
И под скорбный напев на похоронное поле выехала вереница колесниц. Первая из них, запряженная двумя белыми жеребцами, была окрашена в ярко-красный цвет, терявшийся, впрочем, из-за чеканных накладок. Сбруя коней и спицы колес были вызолочены. За возницей возвышалась мощная фигура в пурпурном плаще.
Ксуф, сын Лабдака, прибыл.
Все мужчины, собравшиеся на поле, приветствовали его. Точнее – все свободные. Слугам этого не было дозволено. Далла, откинув покрывало, которое ветер бросал ей в лицо, без особого любопытства взглянула на царя Зимрана. Он не показался ей ни уродливым, ни особенно привлекательным. Пожалуй, только рост и крупное сложение выделяли его из остальных. Он был тяжеловесен, даже грузен – в сорок лет более, чем Тахаш в шестьдесят, а тот был мужчина не из мелких. Однако толстым его тоже нельзя было назвать. У него была пышная русая борода и такие же волосы. Лица его Далла не смогла рассмотреть из-за дальности расстояния и солнца, бившего в глаза.
Когда смолкли приветствия, Ксуф в ответ слегка наклонил голову – то ли отвечал, то ли повелевал продолжать церемонию. Вслед за тем гости печального собрания стали подходить к костру и поднимались по одному (для этого в поленьях были устроены особые ступеньки), чтобы положить на носилки какой либо памятный подарок. В настоящее время это было чисто символическое действо, не то, что раньше, в эпоху кочевий, когда вместе с усопшим на костер отправляли все и вся, что могло понадобиться знатному воину в будущей жизни – оружие, колесницу, коней, собак, жен, рабов. Коней, правда, в жертву еще приносили, но только на царских похоронах.
Последним к телу отца поднялся Регем. В руках он держал большой золотой кубок, украшенный чеканкой и до краев наполненный густым красным вином из Калидны. Вином Регем плеснул на четыре стороны света, а кубок поставил в головах у отца. Затем медленно спустился и взял факел.
Дрова были пропитаны маслом и смолой. Пламя вспыхнуло быстро и в считанные мгновения добежало до вершины костра, скрыв носилки, и без того почти не видные из-за груды венков и погребальных даров. Лишь золотой кубок успел сверкнуть – ярко, яростно, до рези в глазах. Ветер был сильный, и дым костра протянулся пышным белым султаном. Это был хороший знак. Кемош-Ларан принимал благородного Иорама, чья душа возносилась к нему. Но хотя душа Иорама, может быть, уже вошла в царство блаженных, огню предстояло пылать еще долго. Пока костер не прогорит полностью, вместе со всем, что на нем находится. Тогда прах Иорама соберут в урну, и наследник перевезет его в семейную гробницу в Городе Мертвых – именно туда уже потянулась вереница плакальщиц и музыкантов. Но еще прежде, пока пламя бьется с рычанием, пожирая то, что надлежит пожрать, на погребальном поле состоится действо, ради которого, большей частью, и собрался здесь цвет зимранской знати.
Регем тихо подозвал племянника. Погребальные игры не разрешалось видеть женщинам и детям (рабы не в счет, они не люди, их присутствие не может никого оскорбить). И теперь Регем распорядился, чтобы Бихри отвез домой мать и Даллу. Вряд ли Бихри – серьезный долговязый юноша, светловолосый и голубоглазый, был этим доволен – пусть он и не достиг формального совершеннолетия, но в пятнадцать лет мало радости , когда тебя причисляют к детям. Однако возразить новому главе рода он не решился.
Далла, напротив, в глубине души была очень довольна тем, что возвращается, хотя приличия не позволяли ей этого выказать. Достаточно было и того, что когда она выходила из колесницы, чтобы пересесть к Фариде, ей пришлось подобрать длинное платье, чтобы не споткнуться. При этом покрывало от очередного порыва ветра соскользнуло с ее головы и оставило простоволосой. По частью, оно не успело улететь – Бихри перехватил его и подал свойственнице, и во избежание новых неприятностей подсадил в свою колесницу. Затем поднялся сам, принял поводья и тронул с места.
Теперь можно было начинать.
Регем выставлял на игры четыре пары бойцов. Две пары на мечах, две – на боевых топорах. Все бойцы были свободными людьми, учителями фехтования при царской гвардии. Погребальные игры были священным ритуалом, рабы могли на него смотреть, но никоим образом не участвовать (разве что военнопленные, но это уж статья особая).
Дрались одетыми – в легких льняных туниках, перехваченных широкими кожаными поясами, и сапогах военного образца. Нагота приличествовала лишь борьбе и кулачному бою, которые в Зимране чтили и много занимались, но на погребальных играх полагалось сражаться только с оружием в руках. И обязательно с боевым. Причем последнее правило относилось не к одним похоронным обрядам. Фехтовать на палках и деревянных мечах дозволялось только маленьким мальчикам, которые едва начинали изучать искусство боя. А дальше – никаких учебных мечей, никаких затупленных топоров и копий без наконечников. Разумеется, при таком обучении случались и ранения, и смертные случаи. Но для благородного человека лучше погибнуть от случайной раны, чем уронить свою честь, сражаясь неподобающим оружием, даже на состязании. Подумать только! До прихода завоевателей местные были столь дики, что воины у них – сказать противно – ездили на ослах! Сейчас их немного удалось научить уму разуму, но истинное понятие о воинском искусстве черни все равно недоступно. Так полагали в Зимране, и тщательно лелеяли свои традиции, презирая обычаи какого-нибудь Каафа, города торгашей и воров, где сражались затупленным мечом или вовсе на дубинках, не соблюдали правила "подобное против подобного" и в падении нравов дошли до того, что допускали женщин не только смотреть на состязания, но и участвовать в них.
Когда в погребальном поединке сходились представители знати, всегда можно было ожидать, что прольется кровь. Не из-за недостатка умения, упаси Кемош-Ларан. Но воспоминание о каких-нибудь давних счетах, или просто азарт могли привести ритуал в настоящий бой. Поэтому знать и любила съезжаться на погребальные игры. Правда, в таких случаях распорядитель должен был прекратить поединок до того, как произойдет смертоубийство. Но иногда – очень редко – не успевал. Так что такое зрелище изрядно увлекало и веселило сердца.
Сегодня собравшимся не выпало увидеть подобного. Сражались наемники, а они сделают все возможное, чтобы уберечь друг друга. Для них – это ремесло. Благородное, но ремесло. Тот, кто пытался подкупить наемного бойца, чтобы тот убил, покалечил или ранил противника, рисковал подвергнуться публичному поношению. Но и просто посмотреть на мастерство было приятно, а Регем не поскупился – нанял лучших из лучших.
Первая пара меченосцев уже выходила на середину поля. Они были вооружены фалькатами – широкими мечами с изогнутыми лезвиями, равно отличными и от старых нирских прямых мечей, и от клинков кочевников южного пограничья, у которых изгиб был круче, а лезвия к острию расширялись.
Обе фалькаты взметнулись одновременно, и солнце ослепительно заиграло на отполированных до зеркального блеска клинках. Совсем недавно так же огонь ослеплял сиянием золотого кубка, который сейчас плавился на костре. Все шло, как надо. Душа Иорама могла быть довольна. Она получала в дар самое драгоценное: чистое золото, чистое искусство бойцов. Даже если это, в конечном счете, всего лишь танец.
Был доволен и Ксуф, отметил Регем, а это случалось не часто. Но на тризну, которая состоялась после похорон, он не пошел. В тот вечер царь должен был принимать послов. Однако он обещал, что в ближайшие дни навестит своего верного подданного.
Далла тоже не была на тризне. Так велел обычай. И вновь ей оставалось порадоваться тому, что она не причастна к делам мужчин. Воистину, обычай мудр, а жизнь женщины гораздо легче. Вероятно, Фарида, которой по возвращении с погребального поля пришлось надзирать и за приготовлением кушаний, и за тем, чтоб их во время подавали в большую трапезную, думала по-иному. Но Далла не догадалась спросить ее мнения. Она была слишком утомлена ездой в тряской колеснице, ветром, жарой, и вернувшись, сразу легла спать.
Последующая неделя была траурной. Хотя, как сказано было выше, зимранские траурные обычаи были менее строги, чем изначальные, все же Регем должен был воздерживаться от развлечений – как-то: пиров, охот, посещения общественных бань по меньшей мере в течение семи дней. А жена его и вовсе не могла выйти из дому, даже в сопровождении родственников и слуг.
Даллу это нисколько не огорчало. Одной поездки по улицам Зимрана хватило, чтобы насытить ее этим городом по горло. Она надеялась, что по окончании траура Регем не станет задерживаться в столице и они отбудут в милый Маон.
Ксуф появился спустя два дня после похорон, и не один, а в сопровождении супруги своей Гиперохи. Это была большая честь. Царица крайне редко показывалась на люди, рассказывала Фарида, она даже родственников почти не навещала. Ради подобной милости пришлось пренебречь крайностями траура, и Далла вместе с мужем, как подобает хозяйке встретила царственных гостей в большом зале.
Ксуф, облаченный в присвоенное только ему двуцветное, пурпурно-красное одеяние, появился с громогласными приветствиями, заключил Регема в объятия. Рядом с ним Регем еще больше, чем обычно, напоминал заморенного мальчишку, и они с Ксуфом являли презабавное зрелище. Но, соблюдая правила приличия, никто не рискнул засмеяться или хотя бы улыбнуться. Гипероха поздоровалась с хозяевами тихо, почти шепотом, и вручила Далле подарок – янтарное ожерелье, оправленное в золото. Ксуф также одарил Регема дорогой перевязью для меча из тисненой кожи. После чего женщины удалились на свою половину, оставив Регема принимать Ксуфа и сопровождавших его близких придворных.
Фарида распорядилась, чтобы царице и Далле принесли фруктов, свежих и засахаренных, печений и сладкого вина. Затем ушла, чтобы заняться угощениями для большого зала.
И Далле впервые пришлось пожалеть об ее отсутствии. Как ни старалась она быть хорошей хозяйкой и занять царицу разговорами, ничего не получалось. Далла никогда не отличалась особой общительностью, и была сдержана в проявлении чувств, но по сравнению с Гиперохой могла показаться буйной и болтливой.
Далла не знала, сколько лет царице, хотя понимала, что та старше ее. Может быть, тридцать? Она была высокой, очень бледной (а синее платье и покрывало делали ее еще бледнее), как требовали каноны красоты – белокурой и голубоглазой. Но в кругах, залегавших вокруг глаз было больше синевы, чем в самих глазах, напоминавших тусклые лужицы дождевой воды, а волосы полностью утратили блеск и пышность. Оно и понятно – тридцать лет для женщины уже старость. Но у Адины и в пятьдесят лет руки так дрожали лишь на смертном одре, а у Берои, которая была еще старше, не дрожали до сих пор. У Гиперохи руки ходили ходуном, и Далла порадовалась, что на столе нет ножей, иначе царица непременно бы порезалась. Может быть, она была чем-то больна? Вряд ли, решила Далла, иначе Гипероха не отправилась бы в гости. Но что заставило ее это сделать? Ведь ей в доме Регема было совсем неинтересно. Она жалась куда-то подальше от света, и если нельзя было отмалчиваться, говорила тихо и по возможности кратко. Всякий шум, даже если это был стук переставляемого на столе блюда, заставлял ее вздрагивать. Далле приходилось встречать рабынь, державшихся с большей уверенностью, чем царица Зимрана. Казалось, она вот вот заплачет – за это говорили набрякшие влагой глаза, опущенные углы губ, весь ее жалкий вид. Но Гипероха не плакала.
Просто она несчастна, догадалась Далла. Несчастна, потому что у нее нет детей.
По большому счету догадка ее была верной. Более верной, чем Далла в состоянии была понять.
Общение мужчин тем временем проходило не в пример приятнее. Было изрядно выпито, и съедено тоже немало. Недавняя тризна крепко ударила по припасам дома Регема, но не уничтожила их, а скупиться перед царем было бы позорно. Траур не позволял призвать ни танцовщиц, ни музыкантов, ни шутов, однако изобилие вина с успехом заменяло их всех.
Насколько царица была тиха и бессловесна, настолько Ксуф шумлив и многоглаголен. У людей, не привыкших к обществу царя, в его присутствии закладывало уши. Здесь непривычных не было, а бдительная Фарида, не показываясь в зале, внимательно следила, чтобы кубки гостей не пустовали дольше того мгновения, когда их опорожнив в глотку, поставят на стол.
Так что обстановка в зале создалась самая непринужденная. Ксуф, сидевший рядом с хозяином, разгорячившись от вина, привычно бранил Шамгари и дурацкие обычаи этой страны. Там цари могут брать себе сколько хочешь жен. Не наложниц, как все порядочные люди, а жен! И хотя царицей из них называется только одна, все остальные тоже считаются законными. И дети от них, стало быть, тоже законные. И каждая, стало быть, науськивает своего сына, что именно он – наследник престола. И не успеет царь-папаша дух испустить, тут такая грызня начинается, что только клочья летят. Правда, нынешнему, Гидарну, этому сукину сыну, крупно повезло: он как-то сумел договориться со своими ублюдочными братцами – кому наместничество подсунул, кому еще что. Но дважды такая удача не выпадает, Гидарн – тьфу на него! – и сам это понимает свинячей своей башкой. Недаром же он, как подпаленный, бросается на все окрестные государства. Не иначе, хочет по царству на каждого своего выводка завоевать. Только не выйдет у него ничего. Раньше думать надо было, чем по изнеженности безобразной этакий гарем заводить.
Кое в чем Ксуф был прав. Редкое начало царствования в Шамгари обходилось без резни между кровными братьями, и зачастую подстрекательницами в этом становились многочисленные царские вдовы.
Роскошь, которой окружали себя шамгарийские правители, как в столичной Шошане, так и в многочисленных резиденциях, воистину стала легендарной, и удовольствия, коим они предавались со страстью, вызывала справедливое порицание.
Но и доводы против сказанного также имелись в избытке. Гидарн действительно присоединил к своей державе три царства и часть Дальних Степей. Но на Нир он вовсе не "бросался", это Ксуф напал на Шамгари – как раз тогда, когда Гидарн был в тех самых степях. Гидарн также сумел сплотить свою склочную родню (наместник, от которого потерпел поражение Ксуф приходился царю двоюродным братом, даже не родным и не сводным). И несмотря на репутацию женолюбца, армию Гидарн увеличивал куда старательнее, чем гарем.
Все это было известно и Регему, и придворным Ксуфа, сидевшими за столом. Но, сколько бы они не выпили, никто из них не высказал эти доводы вслух. Все кляли на чем свет стоит подлых шамгарийцев, причем совершенно искренне, поскольку участвовали в той войне, получали раны, пережили горечь поражения, а кое-кто и потерю друзей, которые до сих пор не были отомщены. Но Регему показалось, что, как ни бранил его повелитель Гидарна, о шамгарийских обычаях он говорил с некоей завистью.
Так или иначе Ксуф взял с него обещание по окончании траурной недели нанести ответный визит. После чего царь со свитой удалились.
Далла этим обстоятельством была чрезвычайно довольна, так как избавилась от тяготившего ее общества Гиперохи. Узнав же, что Регем должен навестить царя, несколько огорчилась. Стало быть, придется еще задержаться в постылом Зимране. Но сильно расстраиваться не стала. Зимран – не Шошана, где царские пиршества, говорят, растягиваются дней на двадцать без перерыва. Даже если Ксуф затеет какое-то празднество, в котором Регему придется участвовать, долго это не продлится.
Регем думал так же, и был благодарен жене, за то, что она не укоряла его за новое промедление. Он и сам был не рад внезапному царскому гостеприимству. За минувшие годы Регем успел отвыкнуть от зимранских порядков. Но царь есть царь. Если он приглашает, надо идти.
Если бы ожидалась охота или воинские состязания, Ксуф не преминул бы этим похвастаться. Но он ни о чем таком не сказал. И Регем не сомневался, что его ожидает пиршество – дело во дворце обыкновенное.
Он не ошибся.
Роскошь убранства царского дворца в Зимране могла бы поразить многих, но не Регема. Он с юных лет привык бывать за двойными стенами, и его не могли поразить ни мраморные фигуры быков и львов на лестницах и по фасаду, ни стены, то блещущие серебром и лазуритом отделки, то увлекающие яркой росписью по алебастру – всадники на колесницах сражались друг с другом либо поражали копьями разнообразную дичь, то кичащиеся богатым трофейным оружием, ни пестрыми коврами, ни чеканными светильниками. Что его действительно поразило и удивило – на парадной лестнице он увидел царицу Гипероху. Она выходила приветствовать гостей не чаще, чем сама выезжала в гости.
Ксуф, казалось, тоже был удивлен, но совсем по другой причине. Точнее, прямо противоположной.
– Где твоя жена? – спросил он. – Она что, заболела?
Регем ничего не понял. Дела женщин – это дела женщин. Хозяйка даже может выйти к гостям, если муж или отец повелит – вначале, когда они еще не захмелели и ведут себя благопристойно. Но она непременно удалится еще до того, как в зале появятся музыканты, певцы, танцовщицы и другие особы, к добродетельным женщинам не причисляемые. Добродетельные женщины не бывают на пирах, тем более в чужих домах. Конечно же, они могут посещать подруг, равно как и принимать, но он-то, Регем, здесь при чем?
Ксуф не стал дожидаться ответа. Он быстро обернулся к жене.
– Ты что, не пригласила ее?
– Я… я… – пролепетала Гипероха, не в силах больше вымолвить ни слова,
– Думала, я не узнаю? Ума нет, а туда же?
Гипероха задрожала так, что золотые бляшки, в изобилии нашитые на ее платье забрякали. Она прикусила губу, но это не помогло – слезы уже ползли по ее щекам. и тонкие ручейки грозили превратиться в потоки.
Регем взирал на это с недоумением. В его семейной жизни таких сцен не наблюдалось.
Перехватив его взгляд, Ксуф произнес:
– Прости, друг мой, ты же знаешь этих баб – ни мозгов, ни памяти, ничего поручить нельзя. Я ей велел отдать долг гостеприимства твоей жене, пригласить, стало быть, к себе. а она и позабыла.
– Я ничуть не в обиде.
– Ладно, что теперь делать… – Царь махнул жене рукой. – Ступай отсюда, нечего на гостя таращиться.
Гипероха понурившись, стала подниматься по лестнице – женские покои дворца располагались на верхнем ярусе. Плечи ее под покрывалом вздрагивали.
Ксуф и Регем проследовали, как и ожидалось, в пиршественный зал. И вскоре мужские разговоры и частые возлияния заставили Регема позабыть об этом неприятном эпизоде.
Пиршество было не столько многолюдным, сколько обильным. Большинство гостей составляли придворные, с которыми Регем был знаком и раньше, а также офицеры царской гвардии. Из князей – правителей городов, Регем сегодня был один. Что же касается купцов, то как бы ни были они богаты, за стол Ксуфа не допускались.
Что до кушаний, то здесь ничего похожего на то, чем угощались на женской половине, не наблюдалось. Мужчина должен есть мясо. И его было больше всего. На стол подали цельного кабана, жареного на вертеле. Свинину в столице любили, в отличие от Маона и южных городов, где предпочитали баранину. Впрочем, баранина и ягнятина тоже присутствовали, а также потроха, тушеные в остром соусе, говяжий рубец, гуси и утки, и пироги с фазанами, подстреленными на последней охоте. Рыбных блюд было меньше. Зимран стоял в отдалении и от моря, и от больших рек. рыбу разводили в садках, и это, само собой. ограничивало выбор. Но никто от этого особо не страдал. Ведь был еще разнообразный сыр, и нежный, и острый, и лук, сырой и печеный, и оливки, и перец, и чеснок – все то, что возбуждает жажду. И разумеется, было, чем эту жажду заливать.
Коренные жители Нира не имели привычки разбавлять вино водой, однако же, пили его в небольших количествах. Завоеватели потребляли вино во множестве, но пили его разбавленным.
При дворе Ксуфа совместили две древние традиции, и пили много неразбавленного вина. И обязательно привозного. В Нире имелись собственные виноградники, но производившееся там вино было не лучшего качества.
В странах, с которыми Нир поддерживал хорошие торговые отношения, также не везде было развито виноделие, например, даже в таком богатом государстве, как Дельта, предпочитали пиво. так что вино для царского стола привозилось из Калидны, а то и из-за моря, и стоило дорого. Но разве царь что-нибудь жалеет для гостей, говорил Ксуф. особенно для гостя, которого видит так редко?
Кресло со спинкой и подлокотниками за столом было поставлено только для Ксуфа. Оно было оббито слоновой костью – также привозной и очень редкой даже в Зимране. Гости помещались на резных скамьях, застланных ткаными покрывалами.
Ксуф велел Регему сесть по правую руку от себя. Они выпили, как и в прошлый раз, поминальную чашу в честь Иорама, затем почтили Кемош-Ларана, а дальше пошло одно возлияние за другим. Ксуф приглашал своего верного друга и подданного задержаться в Зимране подольше. Впереди ждет такое замечательное, развлечение как медвежья травля. Правда. ради этого придется ехать в горы. Какая жалость, что и медведей, и волков вокруг Зимрана уже перебили! Радость охоты лишь в опасности, а не в том, чтобы гоняться за глупыми ланями и оленями. Это и поставщики дичи, что трудятся за плату, сделать сумеют. Одно удовольствие, когда удается поднять кабана, но и оно выпадает все реже.
Регем согласно кивал, хотя и не мог припомнить, чтоб слышал от отца или еще кого-нибудь, будто возле Зимрана когда-либо водились медведи. Может быть, южнее, где-нибудь в Илае? В голове у него шумело от вина и от музыки. Он не заметил, когда появились девицы, призванные услаждать слух и зрелище пирующих, но свистение флейт, аккорды арф и звуки цитр сливались для него в общий гул.
Ксуф подливал ему и себе, плеская красным вином на узорчатое одеяние, расшитое пальмами и птицами.
– А еще лучше – оставался бы ты здесь, в Зимране, – говорил он. – Мне верные люди нужны не только в походах. А ты засел, как сыч, в своем Маоне, среди дикарей этих, которые и на людей-то не похожи. Брось ты его, поставь наместника и перебирайся всей семьей в отцов дом, благо он теперь пуст…
– Нет, – государь, – твердо отвечал Регем. – Если стал я князем в Маоне, стало быть, судьба моя этот город защищать, и о жителях его заботиться. Бросить их я не могу.
– Тебе, значит, маонские ткачи и красильщики дороже царя!
– Вовсе нет. Но за тебя, повелитель, есть кому постоять. Один Криос чего стоит. – Регем указал на военачальника, сидевшего слева от царя. – Да ты и сам никому себя в обиду не дашь. А моих, как ты говоришь, ткачей, кроме меня защитить некому. – Обнаружив, что его чаша вновь полна, Регем отпил и продолжал. – И не думай, что наш род долгом своим перед царем пренебрегает. Скоро придет черед сына моего приносить тебе клятву верности. Лет десять всего… Это быстро, оглянуться не успеешь, а он уже взрослый, и мы – старики…
Выпили и за это. Затем в памяти Регема наступил некоторый провал, а потом он обнаружил, что на пару с царем, бия себя в грудь, и призывая отческих богов в свидетели, они клянутся, что не пожалеют друг для друга самого дорого и заветного.
– Все слышали? – кричал Ксуф. – Вот он, мерзавец, не любит своего государя, не хочет ради него бросить этот свинячий Маон, а я все равно его люблю, как брата родного! И сейчас всем докажу. Икеш! – казначей, обретавшийся где-то в конце стола, мгновенно предстал пред царские очи. – Принеси, негодяй, из сокровищницы тот камень, что мой отец добыл в битве с князем Хатраля!
Кругом восхищенно загудели. Эта история уже стала легендой. Более тридцати лет назад южные соседи, решили, что способны на большее, чем обычные пограничные набеги. Несколько племен объединились под предводительством правителя княжества Хатраль, и пренебрегши обычным путем – через Кааф, сумели удачно обойти Илай и вторгнуться в центральные области Нира. Но здесь им дорогу преградил царь Лабдак со своим войском и нанес такое поражение, что ни в Хатраль, ни в Дебен не вернулся, как говорили, ни один человек. И с тех пор южане не осмеливались предпринимать ничего подобного. Правда, храбрые всадники пустынь не были приучены к долгим походам, и ко времени встречи с Лабдаком были измотаны, а их кони и верблюды во множестве пали в горных ущельях. Но это, разумеется, нисколько не умаляло значения одержанной Лабдаком победы. Хороший полководец знает свой час.
Среди добычи, взятой Лабдаком после того сражения, был рубин величиной с голубиное яйцо. Князь Хатраля носил его на шлеме, ибо был такой обычай в тех краях: мужчина не носит ни серег, ни колец, ни ожерелий, ни браслетов, предоставляя все это женщинам, однако покрывает драгоценностями оружие и доспехи. Теперь камень хранился в сокровищнице Зимранского дворца, но иногда на празднествах царь приказывал его принести, дабы полюбоваться.
Пока пирующие вспоминали эту историю, вернулся Икеш, человек со впалой грудью и выпуклым животом, остроконечной черной бородой и почти совсем лысый, торжественно неся на вытянутых руках маленький резной ларец, каковой он и протянул царю.
– Вот! – Ксуф распахнул крышку ларца, вынул рубин и поднял над головой. Свет факелов отразился в гранях, бросил на пальцы царя кровавый отблеск. Пирующие восхищенно загомонили, некоторые демонстративно прикрывали руками глаза, точно ослепленные сверканием камня. – Это самое дорогое и ценное из всего, чем я владею. Но клянусь, что для друга моего Регема не пожалею и самого дорогого. Прими от меня, Регем, этот камень в дар!
– Но, государь, я не достоин…
– Достоин, достоин. Бери, говорю тебе!
Регем изумленно смотрел на красный камень, который Ксуф чуть ли не силой вкладывал в его руку.
– Я не могу принять такой подарок…
– Хочешь оскорбить своего царя? Или, если ты такой гордый, можешь также дать клятву, что отдашь мне самое дорогое из своего имущества, по моему выбору.
– Хорошо. Я клянусь. – Регем вздохнул и взял камень. Ксуф выглядел необычайно довольным.
– Вы свидетели, друзья и подданные! Он поклялся и взял рубин. А теперь я хочу получить из имущества Регема то, что мне больше всего по нраву – его жену!
Хмель мгновенно покинул голову Регема. Он вскочил, бросив рубин на стол.
– Этого я не сделаю!
– Все слышали, что ты поклялся.
Пирующие смолкли. Регем озирался по сторонам, ища поддержки, но не находил. Ксуф поймал его в ловушку – это было очевидно.
– Что угодно, кроме жены!
– Я назвал свое условие и не отступлю! Я царь, а не торгаш!
Регем не мог возразить, что жена не имущество. Такая мысль никогда бы не посетила его. Но и уступить Ксуфу он не мог.
– Я тоже не торгаш, – раздельно сказал он. – Я воин, а воин по доброй воле не отдаст жену на позор, пусть даже и царю. Я клялся тебе, но большая клятва убивает меньшую. Клянусь всеми богами, что никогда не причиню матери моего сына такого зла! – И, оскалившись в ярости, добавил: – Потому что моя жена, в отличие от иных, не бесплодна!
Ксуф также вскочил, едва не опрокинув кресло. Они стояли друг против друга – огромный, мощный, широкоплечий царь и невысокий худой Регем, и на сей раз это было совсем не смешно.
На пир являлись без мечей, но вот ножи, чтобы резать мясо, были необходимы. Как бы ни был взбешен Ксуф, его налитые кровью глаза отлично видели, что Регем сжимает рукоять кинжала. Он видел Регема на войне и знал – лезвие вонзится в царское горло до того, как прозвучит приказ схватить преступника. Однако Ксуф был слишком упрям и слишком горд, чтобы признать свою неправоту.
Тем временем до притихших было гостей дошло, наконец, что именно сказал Регем. И Криос, начальник гвардии, поднялся, прижав руку к сердцу.
– Прости, государь, но сын Иорама сказал верно. Ты сам часто повторяешь, что здесь не Шамгари. Не стоит ссориться с верными тебе князьями из-за такой безделицы. На свете полно красивых женщин и девиц для твоего удовольствия, забудь же о матери чужих детей!
Ксуф грузно опустился в кресло. Отдышался.
– Хорошо, друг. Верно, я сегодня много выпил и забылся. Но и видеть за своим столом клятвопреступника не желаю! – заорал он.
– Я бы и сам здесь не остался – бросил Регем. Ему хотелось перевернуть стол и перешагнуть через него, но он сдержался. Молча направился к выходу. Царский рубин остался лежать среди объедков и винных луж – никто не решался прикоснуться к нему.
Регем вернулся в отцовский дом на рассвете и тут же поднял на ноги охрану, слуг и семью. Сестре и племяннику он велел немедленно возвращаться в собственные владения.
Сам он желал покинуть город как только откроются ворота. Ксуф мог к утру позабыть о ночной ссоре – такое бывало, а мог распалиться еще большей яростью. Регем не собирался этого дожидаться. Следовало как можно скорее укрыться в Маоне. Даже в открытой степи встреча с опасностью будет предпочтительней, чем на столичных улицах.
Далле он сказал, что поссорился с царем, но не открыл, по какой причине, а она не стала спрашивать. Мужчины на пирах пьют, а выпив – сварятся, она всю жизнь про это слышала, это обычное дело.
Но на сей раз не было никаких носилок. Регем велел ей закутаться в плотный плащ с ног до головы, чтоб на нее не глазели, и усадил в колесницу. Ради безопасности пришлось пренебречь обычаями. Регем отдал последние распоряжения по дому – Далла не знала, какие, и они тронулись в путь.
Город, против всяких опасений, они покинули беспрепятственно. А затем началась сумасшедшая скачка, для Даллы почти невыносимая. Весь опыт езды в колесницах для нее ограничивался церемониальными шествиями, а сейчас она чувствовала себя измученной, избитой до полусмерти, а скорость внушала ей ужас, Но она не жаловалась. Чем быстрее они ехали, тем ближе становился Маон, а с ним Катан и Бероя. Вдобавок она привыкла полагаться на мужа, на его опыт и знания. Степи сменились лугами, и в предчувствии встречи с домом видение льдисто-белого Зимрана начало исчезать из памяти. А увидев башни и стены Маона – такие грубые, приземистые, некрасивые, Далла впервые за время путешествия расплакалась – от радости.
Дома все было в порядке, и подросший за время ее отсутствия Катан радостно выбежал навстречу родителям. Бероя, все такая же надежная, сердечно обняла свою воспитанницу, и тут же увела ее мыться и отдыхать. Это было как нельзя более кстати – Далла совсем изнемогла в пути.
Регему было не до отдыха. Хотя погони за ними не было, он еще опасался мести Ксуфа, и готовился отразить удар. Стражи города были приведены в боевую готовность, а лазутчики, отправленные за городские стены, должны были в кратчайшее время предупредить о наступлении вражеских войск.
Но проходили недели, за ними месяцы, а тревожных сообщений не поступало. Фарида также не присылала гонцов к брату, а она не преминула бы это сделать, если б услышала нечто достойное его внимания. И постепенно Регем стал успокаиваться. У царей бывают дурные прихоти, так на то они и цари. В одном Регем мог бы поклясться с чистой совестью – он не появиться перед Ксуфом по доброй воле, разве что всему царству будет угрожать смертельная опасность. Но пока что об угрозе для Нира ни со стороны Шамгари, ни со стороны Дельты слуха не было.
Он так и не рассказал Далле о том, что произошло на пиру в Зимранском дворце. Слава богам, угроза миновала. Далла же словно забыла о случившемся, и за это Регем был ей благодарен.
Далла и в самом деле забыла. Жизнь в Маоне текла своим чередом, и ничто не тревожило установленного порядка. Правда, месяца через два, а может, через четыре после возвращения до нее дошел слух о смерти царицы Гиперохи. Но он не слишком потревожил Даллу. Гипероха производила впечатление женщины болезненной, что же удивляться ее ранней смерти? Нужно благодарить богов, что мы сами живы и здоровы.
Сходным образом мыслил и Регем. И решил, что он слишком долго медлил с закладкой храма Кемош-Ларана в Маоне. Как раз в то время объявился в городе жрец Кемоша, именем Булис, не какой-нибудь полоумный уличный прорицатель, а недавний служитель оракула Кемоша, что в Западных горах, на границе с Калидной. Лучшего служителя для Маонского святилища нельзя было пожелать. И при великом стечении народа был заложен новый храм. Весь Маон шумел и веселился. Но не прошло и двух недель, как фундамент храма обрушился. И так повторялось трижды. После чего вещий Булис предрек – не стоять храму, покуда князь вместе с наследником не отправятся в Западные горы и не встретятся с тамошним верховным жрецом. Из его рук получат они краеугольный камень, на котором воздвигнется храм. А что это за камень – ведомо одному жрецу, и более никому.
Случись это предсказание на полгода раньше, Регем бы поостерегся ехать. Но все было спокойно в Маоне и в Нире. И Катан, предвкушая поездку, просто прыгал от радости.
Далла сделала робкую попытку напроситься в паломничество вместе с мужем. Но Регем был неумолим – один единственный раз выехала Далла из города, и это навлекло несчастье на всю семью. Далла не очень поняла, что он имеет в виду, но не стала настаивать. Муж лучше знает, как поступить.
Так прекрасным весенним утром Далла простилась с мужем и сыном, и стала поджидать их возвращения. Городом правил наместник Регема, домом управляла Бероя, и кроме ожидания Далле ничего не оставалось. Иногда она вышивала, плела венки, а большей частью гуляла по саду, слушая птиц и журчанье воды, сбегавшей в пруд из каменной чаши фонтана. И это длилось до того дня, когда рабыня прибежала за ней в сад, и сообщила, что наместник просит разрешения увидеться с ней. Далла удивилась, но не стала напрасно медлить, и накинув покрывало, прошла через женскую половину в зал.
Наместник имел вид совершенно потерянный. Словно со вчерашнего дня, когда Далла встречала его, он состарился, или был сокрушен тяжелой болезнью. Руки его дрожали, и он был вынужден сжимать кулаки.

