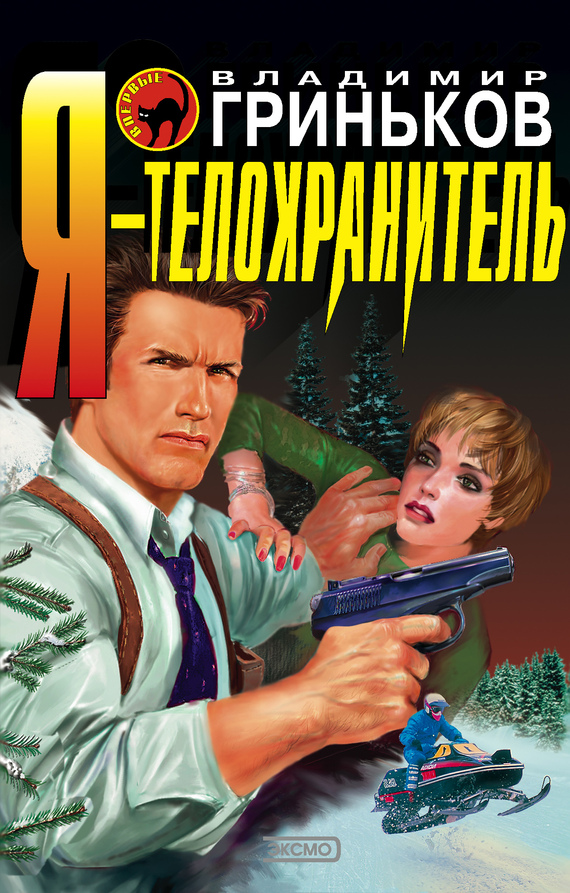Удар милосердия Резанова Наталья
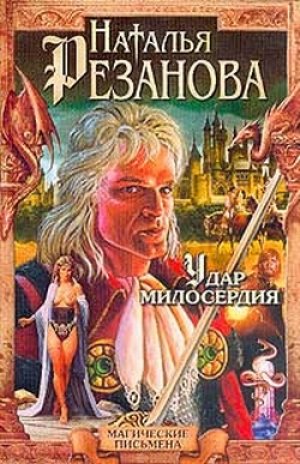
– Хватит! – крикнул он.
Гиро опустил бубен. Он выглядел уставшим, сильнее, чем женщина. Диниш махнул ему рукой – свободен – и обратился к беженке.
– Ты училась этому танцу?
– Я увидела, как она танцует, и мне захотелось сделать так же.
Диниш не склонен был верить, но чувство это было ему знакомо. Женщина тем временем успела подойти к нему, и теперь Диниш видел, что по возрасту, если не по каким либо иным признакам ее лучше называть девушкой. Более того, наружность ее оказалась не так неприятна, как померещилось ему вначале. Правильные черты лица, большие глаза… и при этом взгляду не за что зацепиться. Разумеется, вряд ли большинство жителей Эрда могло нынче похвалиться здоровой полнотой и ярким румянцем. Но блеклость собеседницы выглядела не следствием пережитого, а неотъемлемым свойством ее натуры.
– Садись.
Она, не смущаясь, последовала приглашению.
– Попробуем узнать, на что еще ты годишься.
Она не засмеялась и не возмутилась этими словами. Правильно, Диниш имел в виду совсем не то, что подумала бы любая женщина. Или почти любая. Он протянул ей лютню. Она покачала головой.
– А петь ты умеешь?
– Возможно.
Ответ ему не очень понравился, однако он сказал:
– Я начну, а ты подтянешь.
Он запел « Нет, я, дитя, тебя не стою». Эта песня, подхваченная Динишем на Юге, не слишком подходила к обстановке. Вернее, совсем не подходила. И в мирное время она не воспринималась публикой ни в деревнях, ни на площадях. Зато хорошо шла в бюргерских домах, куда актеров, бывало, приглашали на семейные праздники. Чувствительные купчихи прижимали руки к заплывшим жиром сердцам и промокали глаза, их суровые мужья задумчиво сопели, а к выплате актерам добавлялась жареная курица или кувшин вина, а то и звонкая монета. Здесь же, в сумерках, на пустынном лугу, песня была неуместна. Но Диниш выбрал именно ее, потому что она имела довольно сложную мелодию. Кроме того, никто в труппе не исполнял ее лучше Диниша, а ему, несомненно, хотелось прихвастнуть мастерством.
Нет, я, дитя, тебя не стою, Хоть видеть мне и тяжело, Как слезы мутной пеленою Туманят юное чело. Я стар, и зол и равнодушен, Мне жить привычней одному И, как твоя, невинным душам, Мое соседство ни к чему. Прости, что редко замечаю Твой взор, исполненный мольбы. Я слишком ясно различаю Шаги безжалостной судьбы. Мой путь в конце, а твой в начале Душа болит, а сердце спит. Не стою я твоей печали. Прощай, пусть Бог тебя хранит.
Дойдя до этого места, он вернулся к началу. Она подхватила. И – удивительно, второй голос не просто следовал за первым, он откликался, обтекал его, как река, отступал и заманивал. Диниш не понимал, как им удалось добиться, чтоб, их голоса звучали в нерасторжимом единстве – и с первого раза, без повторов , сбоев и неудачных вариаций. Он даже зажмурился от удовольствия.
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Песня смолкла, и Диниш снова взглянул на – как ее называть?
– Кто ты и как тебя зовут?
– Тебе это интересно?
– Нисколько.
– Тогда зачем спрашиваешь?
– Должен же я что-то знать о женщине, которую собираюсь принять в труппу.
– Разве я об этом просила?
– Словами – нет, но выразилась понятней некуда.
– Ты прав. Кто я… – она умолкла, но пауза была очень короткой. – Нашу деревню сожгли мятежники, их кони вытоптали поля, и я побираюсь Христа ради… Мы с мужем ехали на ярмарку, но разбойники разграбили наш обоз…а мужа убили. Мой замок конфискован, мой род вне закона, и я бегу от герцога.
– Врешь ты все, это ясно, как день.
Насчет деревни она врала безусловно. У нее были узкие ладони с длинными пальцами. Руки не испорчены грубой работой. У крестьянок таких не бывает. Однако и насчет замка… Конечно, есть знатные люди, потерявшие после войны свои земли, но по дорогам они не бродят.
Однако в этой лжи не было обмана. Словно она просто повторяла чужие слова.
– А имя… имя мне – Дагмар.
По эрдски «Дагмар» означало «ясный день». Опять она соврала. Но Диниша это не смутило. Правда жизни его не волновала. Он знал другую правду.
Дагмар осталась с «Детьми вдовы». Конечно, она стала женщиной Диниша. Иначе это было бы нелепо. Отношения их пылкостью не отличались, и много они друг от друга не требовали. Динишу пора было поберечь силы, а Дагмар… Несомненно, когда они играли или пели вместе, она испытывала – да и доставляла удовольствия больше, чем в постели. Можно было счесть, что молодая женщина скучает и тяготится стареющим сожителем, но Динишу хватало ума и опыта понять, что это не так. Ее силы, ее пыл принадлежали подмосткам. За их пределами Дагмар не волновало ничего: ни деньги, ни наряды, ни мужчины. Поэтому Зика, не отличавшаяся мягкостью и добросердечием, не ревновала и не завидовала Дагмар, оттеснившей ее с первых ролей. Обе они были актрисами, но Зика играла, чтобы жить. Дагмар жила, чтобы играть. Все равно, что. Не помня себя и не зная усталости.
Диниша эта жадность не отталкивала, хотя порой и удивляла своей безграничностью. Так и следовало жить комедиантам. А чтоб она не доходила до крайности, на то он и глава труппы. Но, как глава труппы, он обязан был решать не только за Дагмар. За всех остальных – тоже. И Матфре сегодня ему об этом напомнил. А это была тяжкая обязанность. Сумеешь ли набить брюхо и кошелек или потеряешь все, включая жизнь – порой зависит от того, какую дорогу выбрать. А для актера нет безопасных дорог. И нужно приучаться обходить опасности.
Многие актеры, опасаясь роковых ошибок, перед тем, как отправиться в путь, обращались с молитвами к образам и статуям святых и праведников, известных милостью к странствующей братии – Юлиану и Генезию, Козьме и Дамиану, а паче всего – царю Давиду и пресвятой деве Марии.
Ничего этого Диниш не сделал. Он был суеверен, как и подобает комедианту, но практические соображения взяли верх. Ночью, когда они отплясали и отпели перед постояльцами, он сказал остальным:
– Мы здесь засиделись. Пора искать новое место. Может, нам повезет при дворе…
Матфре нахмурился. Именно такого эффекта Диниш и добивался.
– … не при этом дворе. Не думаю, что в Эрденоне меньше веселятся, чем в Тримейне, а нравы там попроще. Нас не приняли у императора. Что ж, мы поищем милости герцога.
– Итак, вперед, на Север! – воскликнул Гиро, и брат подмигнул ему.
Матфре был настроен не столь восторженно, хотя сам это предложил.
– Дай Бог, чтобы это путешествие было лучше прошлого. – Так он выразил согласие.
Диниш повернулся к женщинам. Недовольства следовало ждать прежде всего от них. И он не ошибся. Хотя бы в отношении Зики. Она надулась.
– Опять застрянем до холодов… ненавижу снег!
– На Север так на Север, – сказала Дагмар. – Мне все равно.
3. Тримейн. Университетский квартал.
Если продвигаться по суше, то в столичный город Тримейн можно попасть через пять ворот. Не так уж много для такого большого города. С четверть века назад ворот в Тримейне было шесть. Но одни ворота – Южные – оказались лишними.
Тримейн был единственным городом империи, могущим похвастаться собственным университетом. Но похвалялись им разве что высокоученые доктора, судьи и авторы хроник. Для городских властей Тримейна университет был источником головной боли, а для простых горожан – рассадником всяческих безобразий. Нет, наверное, схолары не только пьянствовали, орали по ночам под окнами добропорядочных бюргеров и задирали юбки служанкам, но и науками занимались. Но происходили эти занятия в стенах факультетов, и видеть их горожане не могли, а вот вышеперечисленные действия созерцали ежедневно.
Студенты объединялись в землячества, и представители разных землячеств то и дело сталкивались между собой. Но все они забывали о внутренних распрях ради драк с мастеровыми, купеческими приказчиками или матросами с речных кораблей. Особым императорским эдиктом схоларам запрещено было владеть оружием. Не помогло. Дубинки, залитые свинцом или заточенные железные прутья официально оружием не считались, но действовали не хуже мечей и кинжалов. Особо ожесточенные драки происходили у патриотично настроенных схоларов с жителями соседних кварталов, где из-за близости Соляного рынка, издавна селилось много приезжих, как купцов, так и ремесленников, причем приезжих не только из других уделов империи, но также иностранцев. Из-за этих драк университетский квартал обнесли высокой кирпичной стеной. Однако вражда достигла такой степени, что и стена не спасла. То есть ею пренебрегли. Однажды схолары, спрятав под одеждой оружие, в течение дня небольшими отрядами покинули свой квартал и, дождавшись ночи, вполне профессионально сняли стражу у Южных ворот и ворвались на территорию ненавистных соседей. Лавки и мастерские были разграблены, хозяева жестоко избиты, женщины изнасилованы. Были и убитые. В довершение всего начался пожар. В церкви святой Айге ударили в набат, ему ответили колокола у святых Иеронима и Агилульфа. К месту побоища сбежалось едва ли не пол-города. Пожар, к счастью, удалось погасить, но урон, нанесенный ремеслу и торговле в Тримейне, был огромен. И если бы речь шла только об иностранцах! Захваченных на месте схоларов по приказу Городского совета препроводили в Приют Святого Леонарда, а особо рьяных, тут же, без суда, пока угли не остыли( в прямом смысле) вздернули на берегу Трима. Университетские власти возопили о беззаконии, о попранных древних и благородных вольностях, и потребовали освобождения томящихся в узилище. Власти городские ответили встречным требованием – выдать зачинщиков беспорядков, укрывшихся от правосудия в университетском квартале. На что было сказано, что те, ежели найдутся, будут судимы местным судом, ибо у университете, как известно всем, даже безмозглым профанам, заседающем в ратуше, есть право собственного судопроизводства, так же, как и право самоуправления. На что было отвечено, что университетскому судопроизводству, покровительствующему насильникам и убийцам, горожане не доверяют, а что до права на самоуправление, то проклятые латинисты могут вставить его себе вместо клизмы. Оскорбленные до глубины души профессора и студенты дружно покинули Тримейн и встали лагерем у монастыря сервитов, где аббатом был давний питомец богословского факультета, и заявили, что не вернутся в этот богопротивный город, и будут жить в единении с природой, пока синдикат[1] не принесет формальных извинений и не возместит понесенные университетом убытки. А поскольку синдикат и не думал этого делать, профессора обратились с жалобой к канцлерскому суду. В конце концов в дело вмешался сам император Ян-Ульрих, в те поры молодой и не утративший вкуса к государственным делам. По его настоянию тяжующиеся стороны пошли на мировую. Служители науки вернулись под сень факультетов, узники Приюта Святого Леонарда получили различные меры наказания, – в зависимости от степени виновности – от колодок и позорного столба до тюремного заключения и высылки из Тримейна.
О возмещении убытков – и выдаче зачинщиков – речи уже не заводили. А злосчастные Южные ворота, сквозь которые вошли буяны, велено было, во имя вящего спокойствия города, навечно замуровать (хотя лучше было поступить так с Новыми воротами университетского квартала). Впоследствии на этом месте была выстроена больница для неимущих, что под патронажем сестринской бегинской общины Марфы и Марии.
Но все это было давно. Участники событий умерли, либо стали почтенными мужами м вспоминали о подвигах молодости со смехом, а то и со слезой умиления. Теперь Тримейнский университет жил не более и не менее бурно, чем другие заведения, подобные ему, и ничего такого, что могло бы потрясти столичную жизнь, там не творилось. Тем паче – в пору летних вакаций, когда занятия прекращаются, и большая часть студентов покидает квартал. Конечно, не все они жили там в течение года. Были студенты родом из Тримейна, не покидавшие родительского крова и не хлебавшие бурду в казенных едальнях. Но таких презирали как неженок и слабаков, что боятся отцепиться от мамашиного подола – презирали, в глубине души завидуя. В основном же схолары были приезжими, и летом некоторые возвращались по домам, надеясь откормиться на год вперед. Однако иные родители возвращение изголодавшихся чад вовсе не приветствовали. Другим чадам и возвращаться было некуда. Такие просто пускались по дорогам, добывая пропитание нищенством, пением песен, воровством, разнообразными мошенническими проделками, и, в виде исключения, нанимались на какую-нибудь работу, не оскорблявшую их интеллектуального достоинства, например, писарскую. Те, кто не мог найти в Тримейнском университете чаемых знаний, или просто из непоседливости, использовали вакации, чтобы за это время добраться до чужестранных университетов или до карнионских юридических и медицинских школ. Само собой, и в Тримейн приходили такие же странники. У некоторых это паломничество превращалось в настоящую страсть и одновременно – образ жизни, и на дорогах империи, да и за ее пределами можно было встретить схоларов, разменявших четвертый десяток, но все еще не удостоенных ученой степени.
Однако и летом жизнь в университетском квартале не замирала полностью, ибо, что бы там не утверждали профаны, университетский квартал – это целый город со своими обычаями, законами и потребностями – со своей властью, наконец ! Жилище здесь предоставлялось и прославленным докторам и голоштанным голиардам. А то, что профессора, живущие при университете, обитают в благоустроенных квартирах, а студенты давят койки в вонючих дормиториях, так все зависит исключительно от научных заслуг и остроты ума! Ибо в аудиториях все равны – и сыновья вельмож, и дети ремесленников. И если говорят, что городской воздух делает свободным, то воздух университета воистину опьяняет.
В университете было три факультета – свободных искусств, богословский и юридический. В последние десятилетия иные университеты обзавелись и медицинскими факультетами. В Тримейне этого не было, но и без того университет располагал немалым количеством коллегий, при которых жили профессора и надзиратели. Для студентов имелись особые жилища, однако в дневное время там редко кого можно было застать. Теперь свободные от занятий схолары предпочитали проводить время в кабаках, либо на улице. Недавние первогодки, несколько месяцев назад бывшие несчастными желторотыми беанами[2], обижаемыми и унижаемыми старшекурсниками, теперь стремились блеснуть своей опытностью перед новичками будущего года, лелея сладкие надежды по осени всласть поиздеваться над этими молокососами, с потерянным видом бродящими по кварталу. А действительно тертые схолары собирались, чтоб обсудить свежие новости – кто и откуда прибыл, а кто покинул благословенный Тримейн, что слышно в городе и при дворе, и какая от этого может быть польза. Придумывали различные способы выкачивания денег, жратвы и выпивки из филистеров. А то и просто горланили песни, ибо схолары в Тримейне, как и повсеместно, были великие мастера складывать искусные вирши. Раньше сочиняли они исключительно на благородной латыни и предназначались сии творения лишь для слуха знатоков, но в нынешние времена все чаще звучали песни на вульгарном наречии. Пели о греховности этого мира, о глупости мужичья, о великом братстве детей Alma mater, и больше всего – о вине. И сейчас кто-то, тренькая на мандолине, выводил:
Ты в ученьи день и ночь, Поглощен трудами, Но кидай науки прочь И спеши за нами. Брось чиниться! Отпускай Душу на свободу. А профессора пускай Пьют одну лишь воду. Полюбуйся же красе Нашей нищей воли! Все равно там будем все, Как – не все равно ли…
– Эй, Райнер! А из причетников-то, говорят, тебя поперли!
Взлохмаченный парень, которого окликнули через улицу, осклабившись, выставил напоказ крепкие зубы, еще не успевшие почернеть от дурной еды.
– Ничего! В шуты наймусь до осени к кому-нибудь из наших вельмож. Пока в Тримейне есть двор, дураки всегда будут нарасхват!
Этим приработком схолары пока не брезговали. Позорно ремесло скомороха, кривляющегося перед вонючей толпой, но нет ничего дурного, чтобы увеселять просвещенного покровителя. К тому же, это не профессия, а так, мимолетный каприз гения.
Прервав разговор, студенты с достоинством поклонились шествующему по улице пожилому человеку, и тот ответил им сдержанным кивком. И пока он не скрылся из виду, схолары помалкивали, несмотря на то, что не сдерживали языки и в присутствии знати. Этот прохожий был облачен в мантию и берет того же покроя и цвета, что студенческий, и отличавшийся от них лишь лучшим качеством сукна. Однако ректора студенты узнавали и без торжественного эпомидема и серебряного жезла.
Бенон Битуан, доктор богословия, неизменно переизбирался на этом почетном посту уже четыре года, а преподавал в университете больше двадцати. Его никогда не посещал соблазн занять кафедру в другом городе, и тем паче – в другой стране. Таким образом, если считать годы учения, вся его жизнь, кроме несмысленного детства, прошла в этих стенах. И никакой другой жизни почтенный доктор не представлял. Честолюбив он не был, и не раз говорил, что коллега, к которому он направлялся сейчас, был бы лучшим ректором. Но тот никогда не выставлял свою кандидатуру на выборы, ссылаясь на то, что обязанности, которые он выполняет, помимо преподавания, забирают и время и силы. И тут возразить было нечего.
Ректор пересек площадь Трех Коллегий(мощеную, что составляло гордость университета) и так же, не спеша, обошел здание Коллегии Григория Великого. Он был невысок, от возраста несколько оплыл, гладко выбритое круглое лицо с подрагивающими щеками стягивала сетка морщин. И ходил он не торопясь не только ради соблюдения солидности, но и потому, что его мучило колотье в боку.
Обогнув здание, ректор вошел во внутренний двор, украшенный скудными цветочными грядками и чахлыми кустами и поднялся на крыльцо. Открыл ему Стуре, фамулус. Одной из обязанностей студентов было прислуживать профессорам, и некоторые на такой должности приживались. Стуре был из этой породы. Он еще не достиг возраста «вечного студента», но в двадцать с чем-то лет не стал ни бакалавром, ни лиценциатом – не в силу тупости или порочности, а по причине духовной, если не физической вялости. Белобрысый, с пухлым, что называется «непропеченным» лицом он, моргая светлыми ресницами, уставился на Бенона Битуана.
– Доктор у себя? – осведомился ректор.
– Да, ваша магнифиценция, – фамулус распахнул дверь, пропустив посетителя.
Доктор обоих прав Лозоик Поссар занимал в коллеги четыре комнаты – одну из самых больших квартир, предоставляемым университетским преподавателям. Но доктору Поссару и требовалось много места – для большой специальной библиотеки, но также и для обширной документации, проходившей через его руки. И при том, что на полках вдоль стен не видно было проемов, стопки книг лежали и на рабочем столе доктора, не тесня, впрочем, кожаных папок и шитых тетрадей.
Доктор Поссар встал, приветствуя ректора. Он был ненамного моложе Битуана, но гораздо крепче и энергичнее. Во всех смыслах. Успел поездить и по Европе, и по империи, а в Тримейне осел несколько лет назад, но за короткий срок приобрел высокую репутацию как среди юристов, так и среди богословов, прибегавших к его консультациям по многим спорным вопросам.
Доктор Поссар предложил ректору кресло и крикнул Стуре, чтобы подал вина.
– Только разбавленного, – поспешил добавить ректор. – Хоть я и богослов, но по-богословски[3] пить уже не в моих силах – печень…
– Слышал, что говорит его магнифиценция? Ступай.
Стуре, шаркая, как старик, побрел на кухню.
Сам Лозоик был сдержан в привычках, не не аскет. Не осуждал студентов, устраивающих по праздникам публичные спектакли и даже порой эти представления посещал. Мог пригубить – не более – вина. Хотя здоровье, наверняка, позволило бы и больше, подумал ректор без зависти. Странно, но он Лозоику Поссару никогда не завидовал. При том, что Лозоик и внешне был куда авантажнее доктора Битуана. Во время редких своих визитов в Новый Дворец ректору приходилось видеть скульптурные изображения языческих правителей и что-то в них (как ни грешно было такое сравнение) напоминало доктора обоих прав – правильные черты, раздвоенная морщина между четких бровей, глубоко сидящие глаза, тонкий орлиный нос, несколько заостренный, решительный подбородок. И сложен он был вполне соразмерно, и на здоровье не жаловался. Казалось бы, как не позавидовать – ан нет.
– Надеюсь, что не отвлек тебя от дел… – начал ректор.
– Ничего. Мне полезно немного отвлечься.
– …потому что я пришел без дела. Только для того, чтобы рассказать, что я сегодня был на обеде у архиепископа, и речь там зашла о твоем трактате…
– О котором?
– «Сравнение канонического и светского права». Его преосвященство отозвался о нем с большой похвалой. Он находит мысль о необходимости приравнять государственную измену к ереси весьма тонкой.
– Прежде всего, это разумная мысль. Если это положение будет принято, оно избавит правосудие от многих затруднений. Я не имею в виду явные случаи, когда еретики нескрываемо выступают бунтовщиками и ненавистниками светской власти вроде катаров или дольчинианцев. Но возьмем относительно недавний процесс тамплиеров. – В звучном ровном голосе Лозоика не слышалось горячности, но тема его несомненно увлекала. – Если бы трибунал принял указанное положение, отпала бы необходимость в длительном разбирательстве, и казнь, свершившася десять лет назад, могла бы произойти на семь лет раньше. А из-за проволочек многие виновные успели скрыться.
Вернулся Стуре с кувшином и кубками. Ректор принял кубок с разведенным на греческий манер вином (и вино-то было греческое) и стал пить мелкими глотками, как предписывала скельская медицинская школа. Доктор Лозоик продолжал.
– И как можно не видеть очевидного? Ведь и в основе ереси, и в основе государственной измены лежит одно и то же – предательство Господа, Спасителя нашего и предательство господина земного, который есть помазанник божий. А предательство, как учит нас богословие – один из самых тяжких грехов. Некоторые утверждают даже, что самый тяжкий, – он взглянул на собеседника и улыбнулся учтиво. Улыбка, кстати, ему не шла – она каким-то образом нарушала выверенную правильность его черт, и лицо на краткий миг становилось почти уродливым. – Но я утомил тебя своими рассуждениями. О чем еще толковали у его преосвященства?
– О разном… Епископский викарий и каноник от Св. Иеронима жаловались на засилье в городе иностранных купцов, в основном, итальянских, которые ввозят сюда свои греховные привычки. Не лучшая тема для беседы священнослужителей, но, по правде говоря, мне трудно осуждать их. Вечная беда Тримейна! Слава Богу, из столицы изгнали евреев, но не успели мы облегченно вздохнуть, как их место заняли итальянцы, и ведут себя столь же нагло! И карнионцы ненамногим лучше…
– Успокойся, ученый собрат. Сейчас не те времена, когда университетские воители штурмовали Южные ворота и сражались с заезжими купцами. – Доктор словно бы только что обнаружил перед собой бокал верначчи и отпил. – Тогда вражда и распря открыто ходили по улицам Тримейна, а правосудие гласно разбиралось, кто прав, кто виноват. Теперь же злодеяния совершаются под покровом ночи, преступление носит личину, а правосудие молчит.
Ректор поперхнулся и закашлялся, брызгая вином. Лицо его от натуги приняло багровый оттенок. Когда он, наконец, смог говорить, голос его дрожал.
– Не будем об этом, твоя магнифиценция… Лучше расскажи, над чем ты сейчас работаешь…если это не тайна…
– От ученого собрата мне таить нечего. У меня попросили высказаться каким образом следует судить членов бегинской общины – Доктор отодвинул в сторону тома «Пандектов» и Аккурсиевых глосс, и достал лист из кожаной папки. – Я нахожу, что бегины и бегинки, обвиненные в ереси и приведенные для того, чтобы давать клятву по этим обвинениям, не обязаны давать клятву перед прелатами и инквизиторами, если только дело не идет о вере и основных ее положениях. Item[4], прелаты и инквизиторы имеют право их допрашивать только по вопросам веры, заповедей и таинств. Если же вопросы касаются других вещей, то они не обязаны отвечать: не являются ли они мирянами и простецами – так по крайней мере они утверждают – ибо в действительности они хитры, лукавы и двуличны.
– Item, невозможно и не должно принуждать их под клятвою обнаруживать и раскрывать сообщников и сторонников, в подобных же случаях они не обязаны клясться: согласно их словам, это было бы против любви к ближнему и нанесло бы ущерб третьим лицам.
Item, они не будут подвергнуты отлучению за то, что представ перед судом они отказываются дать обычную клятву говорить правду и только правду, если дело не идет об основах веры, заповедях и таинствах, и также за отказ выдать своих сообщников, то подобное отлучение будет несправедливо и не будет иметь над ними силы, и они никоим образом не будут принимать его в расчет.
Доктор Битуан задумчиво кивал при каждом пассаже.
– Мягкое заключение, – сказал он, – может быть, даже слишком мягкое.
– Так, – согласился доктор Поссар, – но квалификатор Святого Трибунала и должен быть прежде всего милосерд.
4 . Пространство сна. Постоялый двор при дороге в Тримейн.
Они встали лагерем при какой-то деревне у опушки леса. И от кромки леса до дальнего края луга протянулись дымы костров. И там, если приглядеться, можно было различить, как роют траншеи, как пылят по бездорожью конные разъезды, и упираются в низкое небо пики подходящих пехотинцев. Оттого, что летние ночи были светлы, а дни прохладны, трудно было провести границу между днем и ночью – все сливалось в один нескончаемо длинный серый день.
При таком столпотворении тишина в деревне изумляла. Может, все-таки была глубокая ночь? Но и ночью должны были слышаться вой и проклятья крестьян, ибо при продвижении войск неизбежны всяческие контрибуции и реквизиции, иначе говоря, грабеж. А столь нищей деревни, где нечего отобрать даже в самый голодный год, на свете нету. Может, им заплатили? Трудно такое представить, но иногда случается – в виде исключения.
Но деревня все-таки была очень убогой. Наверное, поэтому жителей не выгнали из жалких хибар, служивших им жилищами. Погода позволила ночевать под открытым небом, и солдаты укладывались у костров и под телегами, а для рыцарей разбили палатки.
Один дом, однако, все же заняли – потому что он выглядел попрочнее и почище остальных, хотя отнюдь не больше. Оставалось лишь гадать, кому он принадлежал – крепкому хозяину, мечтающему выбиться из крестьян в торговое сословие, или приходскому священнику. Сейчас никого из хозяев не было видно. Вероятно, их потеснили в подвал, или в хлев. Тем удивительнее, что горницу занимали вовсе не важные господа. И не пленники. При том, что снаружи примостился вооруженный охранник.
В доме уже легли – наверное, это все же была ночь. Но не раздевались. На полу, рядом со столом, на охапке сена, устроился коренастый мужчина в коричневом кафтане. Он укрывался поношенным плащом, а под голову подсунул сумку. Его курносое лицо с редкими усами было не менее загорелым и обветренным, чем у любого рубаки, но была на нем некая печать, неизменно отличавшая людей, находящихся при армии, но не воинов. Может быть, лекарь? Или писарь?
На широкой постели примостились две женщины. Та, что лежала с краю – постарше. Темные волосы разметались, шнуровка на платье распущена. Наверняка, сама распустила. И не по какой дурной причине – а жарко ей. Таким всегда жарко. Нет, на шлюху она не была похожа, хотя для дела и переспит с кем надо. Но телом не торгует. Торгует чем-то другим – шерстью, холстом, мелочным товаром, пивом, всякой снедью. И недавно схоронила третьего мужа, или четвертого, убитого то ли на войне, то ли в драке.
Вторая была совсем юной. И она не спала. Даже не закрывала глаз. Прислушивалась. И когда снаружи послышались голоса, села, потревожив свою соседку, а потом и вовсе подтянувшись к изножью, выбралась из постели.
Соседка, конечно, проснулась.
– Наконец-то, – пробормотала она. – А то завлекут, наобещают невесть чего, а после забывают…
Девушка, не слушая ее, прошла к двери. Мужчина, лежавший на полу, приоткрыл глаза и проследил за ней. Возможно, он и прежде не спал, а притворялся.
Она вышла на крыльцо. Охранника там уже не было, то есть может, он и был, но скрылся из виду, резво и незаметно. А был там другой человек, который намеревался войти в дом, но остановился, когда появилась девушка. Какое-то время они смотрели друг на друга, потом он протянул к ней руки, и она пошла навстречу медленно, как завороженная. Пока не уткнулась лицом ему в грудь. И на лице этом были отчаяние и счастье.
– Ты должна ненавидеть меня, – сказал он. – Ради меня ты все бросила, а у меня нет для тебя времени.
Не поднимая глаз, девушка спросила:
– Все решится завтра?
– Да. Они близко. И выступят с рассвета.
– А до рассвета так недолго, – прошептала она.
– Но это время – наше, Я останусь с тобой.
По деревенской улице бежал, припадая на ногу, человек в кожаной куртке, оббитой бронзовыми бляхами. И лицо его было таким же усталым, как у человека, стоявшего на крыльце.
– Господин! – подсаженный голос с трудом вырывался из горла. – Там собрались… командиры… решить никак не могут…
– Тебя зовут, – сказала девушка.
– Пусть катятся к черту. Не хочу никого видеть, кроме тебя.
Она внезапно отстранилась.
– Нет. Так нельзя. – Она заговорила быстро, боясь, что иначе утратит решимость. – Без тебя они перережут друг друга… и…утро так близко… и тебе надо хоть немного отдохнуть… поспать… Я не хочу, чтоб ты проиграл бой из-за меня!
Может быть, она хотела услышать: «Мне все равно. Пусть погибнет войско – ты для меня дороже». Но он этого не сказал. Погладил ее по щеке и тихо спросил:
– А как же ты?
Она ответила – без улыбки:
– Я долго ждала. Могу подождать еще день.
Он наклонился и поцеловал ее. Целовал долго и жадно, а она припала к нему всем телом, точно хотела исчезнуть, раствориться в нем. Потом он отпустил ее, отвернулся, чтобы не видеть обращенного к нему лица, чистого, совершенного, высветленного изнутри огнем страсти, и твердо произнес:
– Еще один день.
Повернулся и пошел прочь.
Девушка вернулась в дом. Маркитантка, уже окончательно проснувшаяся, опершись на локоть, пыталась расслышать, что происходит снаружи, и когда девушка показалась в горнице, придвинулась к стене, высвобождая место, и с алчным любопытством зашептала:
– Ну, давай, рассказывай, как все было!
– Ничего не было, – ровно проговорила девушка. – Я не могу отнимать у него время. Сказала, что встречусь с ним завтра.
Она улеглась и закрыла глаза, показывая, что продолжать беседу не намерена.
Писарь на полу, кутаясь в плащ, сентенциозно заметил:
– Женщина должна очень любить мужчину, чтобы отказаться от него.
… И Джаред проснулся. И вышел из сна. Что не всегда происходит одновременно. Сон был чужой – это он определил сразу, как только вошел в него. Иногда это происходило непреднамеренно, хотя обычно он старался не нарушать границу, и по возможности искал уединенного ночлега. Но – ничего не поделаешь. Порой, под воздействием усталости, или иных причин, преграды падали, и не мешали не только мысленные, но и вполне материальные стены.
По привычке он попытался подвергнуть увиденное первоначальному исследованию, при том, что сейчас это было бесполезно. Хотя Джареду удалось заполучить отдельную каморку под крышей, постоялый двор был переполнен, и соседями своими Джаред не интересовался. И вовсе не предполагал, что узнает в ком-то из постояльцев героев сна. Опыта у него было достаточно, чтобы усвоить: пусть каждый сон являет собой отражение пережитого в действительности, чаще всего эти отражения были настолько кривыми, что требуется длительное время для того, чтоб распознать истину в искаженном образе. Затем, далеко не всякий спящий видит себя героем сна. Некоторые предпочитают роль наблюдателя. Так что вполне возможно, спящий или спящая видели события глазами писаря, маркитантки, или вестового. Или вообще отказались от зримого воплощения.
Однако, чей бы это ни был сон, у спящего дела были отнюдь не в порядке. Это Джаред мог утверждать с уверенностью. Положим, это странное освещение – ни ночь, ни день, могло быть навеяно летними ночами на севере Эрда. Джаред такое видел. Но ничего в этом в этом сне не могло принести определенности – а иная химера может выглядеть прочнее камня! Здесь же все разваливалось, растекалось, взгляд ни за что не мог зацепиться. Только на миг Джаред ясно увидел лицо девушки. Когда она в последний раз смотрела на своего возлюбленного, ее размытые черты стали четкими и такими совершенными, что у Джареда сжалось сердце. Лишний довод в пользу иллюзорности увиденного – в жизни подобной красоты не бывает.
Что ж, это его не касается. Если б попросили о помощи – другое дело. А так… ему показали трогательную любовную историю, что характерно – без развязки. Так даже лучше. Плохой конец, хороший конец – все едино. Жизнь не терпит законченности, а сон – это жизнь…
Впрочем, иные говорят, что жизнь – это дорога. Суждение, с которым согласились бы его приятели из бродячего племени, что за Южным мысом называют доми, иди зотти, или кала, а на пограничных землях империи на греческий манер – астиганос, в местном же произношении – цыгане.
Джаред открыл глаза, потянулся и сел. Уже рассвело, и комнатенка представала ему во всей неприглядности. Жилище, показанное ему во сне, тоже не блистало роскошью, но там хотя бы не было таких подробностей, как клопы и тараканы, кишевшие здесь в изобилии. Ничего, ночевал он в местах и похуже, да и этой конуры не получил бы, если б не представился лекарем, а жена хозяина не обожгла накануне руку сковородой. Мазь от ожогов у него при себе была. Слава Богу, ничего серьезнее этих ожогов в хозяйском семействе не наблюдалось, а то он мог бы попасть в неловкое положение. Джаред до неприличия плохо для человека, слушавшего курс в Скельской медицинской школе, разбирался в лекарственных травах, мазях и декохтах, и таскал с собой лишь самые необходимые, без которых его занятия медициной показались бы враньем или бредом.
Самое смешное, что он действительно был лекарь. И неплохой лекарь, если судить по делам. Только его целительские методы ничего общего ни с мазями, ни с микстурами не имели.
Джаред придвинул к себе лежавшую на столе сумку, не глядя, нащупал там среди склянок и свертков холщовый мешочек, достал его и развязал. Вынул оттуда два выточенных из камня шара, каждый величиной с крупную терновую ягоду. Камни были отполированы до зеркального блеска, и в то же время чернее, чем сама ночь. На первый взгляд они казались совершенно одинаковыми. Но человек искушенный заметил бы, что первый камень похож на каплю вязкой свежей смолы, а второй отливает серебром. Да и вес они имели разный. Первый шар был выточен из черного янтаря, или гишера, а второй – из вулканического стекла, из коего, как ведомо посвященным, делаются магические зеркала, и который так труден в обработке, что его называют черным алмазом. Джаред подержал камни в ладони, потом положил на стол.
Да, он не был знатоком в травах и экстрактах, хотя в школе Аль-Хабрии использовались определенные снадобья, в основном, коренья, чтобы погрузить сновидца в транс и вызвать чаемые видения. А уж при лечении больных усыпление с помощью таких снадобий, дабы облегчить страдания, было делом обычным для всех агарянских лекарей. И Тахир ибн-Саид посмеивался над франками, выращивающими коноплю лишь для того, чтобы изготовлять веревки да грубую пряжу. Но Джареду он прибегать к этим средствам запрещал. Отсутствие опыта ведет к излишествам, и может превратить в раба сновидений, – жалкого тирьякеша. А рабби Итамар , обычно воздерживавшийся от каких-либо комментариев при поучениях уважаемого хозяина, согласно кивал.
И Джаред не прикасался к «южной дури», как выражались в портовых городах. Ему это не было нужно. Тахир научил его, как с помощью блестящих камней достигать нужного уровня сосредоточенности, усыплять подлежащих излечению, и уходить в сон самому.
Сейчас утро, и человек, видевший сон про полководца и девушку, наверняка уже бодрствует. В этом состоянии соприкоснуться с его состоянием невозможно. Но Джаред мог бы сконцентрироваться, вернуться в сон, изучить его и определить, в чем состоит болезнь этого человека.
Но опять-таки, зачем? Ради одного лишь научного интереса? Прошли те времена, когда для него это было главным. Да и опасно. Здесь не Карниона и не Южное пограничье, где такие вещи хоть в диковинку, но не вгоняют окружающих в панический страх. А страх, как известно, ведет к ненависти. Нет, здесь в землях бывшего королевского домена, ныне столичного округа империи Эрд – и – Карниона, он всего лишь бродячий лекарь. Фигура, по местным понятиям, безусловно неуважаемая, а часто и презиравшаяся. В грубых побасенках жонглеров, равно как в изящных новеллах просвещенных литераторов любой медикус – ученый доктор или невежественный знахарь – это откровенный шарлатан, тупой и наглый, либо хитрый и вкрадчивый, однако всегда комический. Даже деревенские старухи-шептуньи внушают окружающим больше почтения. Но лучше, чтоб над тобой смеялись, шпыняли, в дороге забрасывали грязью, пролетая мимо на борзом коне, в доме и близко не подпускали к господскому столу, чем волокли в Святой Трибунал по подозрению в колдовстве, – а оттуда выход один – на костер.
Живя вблизи границы, Джаред в последнее время немного расслабился, но он никогда не при каких обстоятельствах не забывал, что чем ближе к Тримейну, тем больше вероятность столкнуться с фискалом Святого Трибунала. А он шел в столицу.
Кстати, неплохо бы и поторопиться. Пора вставать и раздобыть какой-нибудь еды. Умыться придется где-нибудь у ручья. На человека, который слишком часто умывается (привычка, усвоенная Джаредом на юге) здесь смотрят как на неведомого зверя. Еще один повод к подозрению…
Он встал, убрал камни в мешочек, и подошел к окну. Во дворе уже толпился народ, кудахтали тощие пестрые куры, обреченные в жертву состоятельным проезжим. Джареду наверняка придется довольствоваться – хорошо, если яичницей, а то и вареной репой. Слышался какой-то писк – показалось, что это кошка, но это хозяйка твердой рукой, излеченной Джаредом, крутила ухо одному из своих отпрысков, а тот размазывал по лицу слезы и сопли. Конопатый слуга придерживал ворота, пропуская выезжавшую со двора обшарпанную повозку, запряженную двумя тощими одрами. К задней стенке повозки почему-то был прикреплен увядший венок из хмеля.
Все-таки, чей же это был сон?
5. Дорога в Тримейн. Южное подворье. Дом – с – яблоком.
Погода стояла ясная, и это была в перспективе, единственная ясность. Но не следует искать разгадку, прежде чем узнаешь загадку. В том, что загадка будет, Джаред не сомневался. За все предшествующие годы Лабрайд ни разу не обращался к нему с просьбой. И он единственный человек в империи, который более-менее знает, что представляет собой Джаред…
А вот, что представляет собой сам Лабрайд? Это вопрос.
И сколько лет они знакомы? Сразу и не вспомнишь. С тех пор, как он покинул аббатство, на Святой неделе исполнилось… два последних года в Крук-Мауре, Аль-Хабрия, Скель… неужто полных десять лет? Точно. Впору бы это как нибудь отметить. Да только на Святой он был уже в пути.
Он обошел пешком большую часть империи, и немало времени провел за ее пределами. И везде приживался, где бы не пришлось остановиться, но, покинув очередное место жительства, никогда о нем не скучал и не стермился туда вернуться. Даже туда, где провел если не большую, то значительную часть часть жизни – в аббатство Тройнт.
Джаред родился в герцогстве Эрдском, в маленьком городке, прилепившемуся к подножию мощного замка Дагнальд, принадлежавшему благородному господину Гудлейфу Дагнальду, и был седьмым сыном кожевенника. Сколько он себя не помнил, семья никогда не ела досыта, но как-то держалась за счет ежегодных ярмарок. Потом стало хуже. На землях Дагнальда открылась какая-то хворь: жуткий, изматывающий кашель. От нее мало кто умирал, но переболели чуть ли не все. О Нантгалимском крае пошла дурная слава. Ярмарки прекратились. А вдобавок еще неурожай. Сеньер Дагнальд был добр, он раздавал хлеб беднякам из своих амбаров, но его не хватало. Лишние рты были ни к чему. Избавиться от них путем перепродажи было невозможно – Эрдское герцогство не знало крепостного права. И подданные Дагнальда должны были сами справляться с подобными трудностями.
Джареду было не то десять, не то одиннадцать лет – он точно не знал, когда отец привел его в аббатство святого Эадварда. Возраст достаточный, чтобы работать в мастерских или на землях аббатства. А помереть с голоду монахи не дадут из христианского милосердия – так, по крайней мере, говорили. Главное, чтоб сразу не вытолкали в шею. Джареда не вытолкали, и его отец покинул аббатство с легким сердцем, считая, что последышу повезло.
Джареду повезло больше, чем считал отец. Несказанно повезло. Примерно через полгода, когда к нему пригляделись, он стал учиться в монастырской школе, одной из лучших на Севере. И вскоре обогнал в успехах тех, кто начал учиться раньше него и был выше его по происхождению ( что не всегда совпадало) настолько, что преподобный приор Венилон, вопреки установившимся правилам, стал лично руководить его занятиями.
И где-то в это время в Тройнт приехал Лабрайд из Карнионы, и отец Венилон представил ему своего ученика. Ничего общего у высокородного и высокоученого гостя, прибывшего ознакомиться с некоторыми редкими манускриптами, хранящимся в аббатстве, с нищим эрдским подростком быть не могло. И Лабрайд не проявил к нему интереса. Однако когда они встретились вновь по происшествии немалых лет, оказалось, что Джареда он запомнил. Вероятно, отец Венилон, знавший Лабрайда давно, счел для себя возможным рассказать ему о способностях Джареда более откровенно, чем самому Джареду.
Старик внимательно наблюдал за ним. И потому прижившийся в монастыре юноша не приносил первоначальных обетов. В любой другой обители Джаред давно уже принял бы послушание, а то и постриг. Или…
«Или» было вполне вероятно.
Отцу Венилону хватало ума не смеяться над снами Джареда, как насмехались братья над Иосифом. И не хватало смелости признать эти сны господним откровением. Тем паче, что на последнем и не настаивал сам Джаред.
Аббатство Тройнт отличалось от монастырей Севера. Многое из того, что там сочли бы ересью, здесь допускалось и даже приветствовалось. Но не все. И не одна обитель не должна давать приют колдуну. Зачумленная овца портит все стадо. Если отец Венилон не разделял это воззрение, так могли подумать другие. А события последних десятилетий и в империи, и за ее пределами давали основание для тревоги. Зачем превращать Эрд в арену ересей, подобно Италии или Франции? Ибо ереси неминуемо ведут к мятежам, а мятежи к жертвам.
И настало время, когда отец Венилон должен был задуматься, дороже ли ему один ученик, пусть самый одаренный ( о, странное значение, которое придавали в Святых Трибуналах слову «Дар»!), чем все аббатство, заботе о котором он посвятил всю жизнь.
И он посоветовал Джареду покинуть Тройнт. Здесь его уже ничему не смогут научить, а молодому человеку полезно повидать мир. О, разумеется, его снабдят рекомендательными письмами, так что он не пропадет… Возможно, со временем он сможет вернуться, «когда поумнеешь, и научишься скрывать подлежащее сокрытию» – это не было высказано, но выражено достаточно ясно. Для Джареда уход из спокойного и безопасного пристанища в мир опасностей, голода и войн не стал катастрофой. Он бы не сильно опечалился, если б его принудили принять постриг, но подлинного призвания к монашеской жизни у него не было. Не то, чтоб эта жизнь его тяготила, но… И в восемнадцать лет опасности, сколько бы их ни было, чаще вызывают стремление потягаться с ними. Вдобавок, отец Венилон дал ему письма в некоторые карнионские обители. Значит, предстояло идти в Древнюю землю.
Но первое, что он сделал – направился домой. За минувшие годы отец и братья не навещали его и не давали о себе знать, однако они и раньше не выказывали к нему особой привязанности, и Джаред не томился тоской по родным. Все же он был бы рад их увидеть. Но на месте отеческого дома он нашел лишь груду мусора. От соседей он узнал, что окончательно обеднев, семья отправилась искать счастья в другие края. Так оборвалась последняя нить, связывавшая Джареда с Эрдом.
Он отправился на Юг, в Древнюю землю, первоначально в те монастыри, которые указал ему отец Венилон, а затем, повинуясь собственному выбору. У святого Эадварда ему успели привить стойкую неприязнь к светским университетам. При том, что сии учебные заведения были рассадником богословов, а преподавали там в основном духовные лица, по убеждению отца Венилона они уступали монастырским школам с древними традициями. И Джаред, сведя знакомство в городах Карнионы и со схоларами, и с профессорами, склонен был с ними согласиться.
За единственным исключением.
В монастырях Древней земли Джаред узнал много сверх того, чему его учили – или не мешали учиться – у святого Эадварда. Но его не оставляло чувство, что еще больше он не узнал. Возможно, все о чем он читал, имело лишь косвенное отношение к природе его дара. Или он просто не там искал. И опираться следовало не на предания, уходящее корнями в легендарную старину, а на те науки, что изучают устройство и функции человеческого тела?
Джаред отправился в Скель, где располагалась наиболее уважаемая в империи медицинская школа. Там и произошло его настоящее знакомство с Лабрайдом.
Возобновилось оно при обстоятельствах, не слишком для Джареда лестных. Будь он самолюбивее, то сказал бы – постыдных. До этого в Нессе он заработал толику денег, послужив секретарем у тамошнего графа, и в Скеле мог позволить себе снять комнату и жить не впроголодь. Будущие медики строгостью нравов не отличались, а определенные запреты, налагаемые на них уставом школы, на Джареда, как на вольнослушателя, не распространялись. И он сорвался. Молодость и здоровье требовали своего, и с чего ему вести монашескую жизнь, если он не монах! В подобный загул Джаред не пускался ни до того, ни после. Не то, чтоб в нем было что-то, поражающее воображение, но для монастырского воспитанника хватало. Прославленное скельское вино лилось рекой. На родине Джареда не каждый вельможа имел его на столе, а здесь по дешевизне распоследний ткач пил его вместо воды. Повод для праздника всегда находился. Полы в кабаках трещали от плясок, музыканты надрывались, терзая флейты и волынки, а женщины… Много их было, сколько – он бы не припомнил. При том, что шлюхи его не прельщали, да и он для них был неподходящим клиентом, ибо вино в Скеле было дешево, а девки дороги. Но он без труда находил себе подружек среди служанок, швеек, прачек, а то и скучающих купеческих жен – тех, кого в мужчинах неутомимость привлекала больше набитого кошелька.
Однажды, после бурной ночи в кабаке за торговыми рядами, Джаред проснулся от того, в лицо его с грубостью кредитора ударили лучи рассветного солнца.
– Какого черта? – просипел он и попытался протереть глаза. Это оказалось затруднительно. Он лежал на полу, и на левой руке у него раскинулась служанка одного старого скряги из соседнего переулка, а под правой кротко прикорнула судомойка здешнего заведения. Кажется, с вечера девочки поссорились, и Джаред взялся их помирить и утешить. Кругом, на столах и под столами мирно почивали другие жертвы ночного веселья. Дверь на улицу была распахнута, и снаружи ее кто-то услужливо придерживал. В проеме стоял стройный смуглолицый мужчина средних лет в дорогом плаще южного покроя.
– Ученик преподобного Венилона, если не ошибаюсь? – любезно осведомился он.
Джаред окончательно проснулся – уж очень странно прозвучало здесь имя приора. Он выпростался из-под девиц, сел.
– Мы раньше встречались? – его охрипший голос был прямым контрастом безупречному тону собеседника.
– Да, в аббатстве Тройнт. Меня зовут Лабрайд ап Руд из Тагмайла.
Тут Джаред его и узнал. И случись эта встреча сразу по выходе из монастыря, сгорел бы со стыда. А так… Неловко, конечно. Но не конец света. Так, надо думать, полагал и Лабрайд, который впоследствии никогда Джареду беспутством не пенял.
Но Джаред после того дня не то, чтобы вовсе забыл о вине и девицах, но поутих и занялся делом. Делом, помимо прочего, были и продолжительные беседы с Лабрайдом, которого Джаред стал посещать. Оказалось, что у того в Скеле есть собственный дом. Правда, живал он там нечасто, предпочитая загородные имения, расположенные дальше, к юго-востоку или странствия. А о том, что Джаред в Скеле, ему рассказал Девлин, ученик медицинской школы, также вхожий в дом Лабрайда.
Лабрайд принадлежал к так называемым «старым семьям», возводившим свою родословную к изначальным обитателям Карнионы, в отличие от других южан, давно смешавшимися с разными пришельцами и завоевателями. Представители «старых семей», независимо от того, где они жили, укоренялись только в Карнионе, и в браки старались вступать исключительно между собой. Однако с течением времени соблюдать подобное правило становилось все труднее, и все меньше оставалось тех, кто мог похвастаться чистотой древней крови как с отцовской, так и с материнской стороны. Однако в Карнионе к людям из «старых семей» относились с почтением, с каким в других краях, наверное, относились бы к потомкам ангелов господних, входившим к дочерям человеческим, и завести с ними дружбу, полагал Джаред, было не легче, чем с ангелами. При всей своей светскости эти люди всегда ставили незримую преграду между собой и остальными, и причиной тому была не только наследственная гордыня. Древние карнионцы считались народом магов, а в нынешнее время заполучить клеймо потомственного колдуна было небезопасно, независимо от богатства и древности рода. В Карнионе костры Святых Трибуналов пылали не так высоко, как в столице, но не угасали вовсе. А молва оказалась не столь беспочвенной, как обычно бывает. Хотя бы по отношению к Лабрайду. Ибо этот карнионский вельможа был не только богатым и начитанным хранителем древних знаний, но и человеком, наделенным определенными талантами, в обыденной жизни не применимыми. Джареду он их не демонстрировал, но и скрыть не особенно пытался. Поскольку Джаред сам был отмечен даром или проклятьем – при том, что древняя кровь в его венах не текла. Но Лабрайд был счастливей его тем, что сумел разобраться в природе своего дара, и понять, как с ним обращаться. Джаред, наслышанный о мудрости карнионцев, искал указаний в древних рукописях, но не нашел. На что и посетовал.
– Значительная часть карнионского наследия всегда будет тебе недоступна, сколько бы монастырских библиотек ты не посетил, – сказал Лабрайд. – Я говорю об устной традиции, сохраняющейся в старых семьях. Ее усваивают с раннего детства, и здесь я тебе помочь ничем не могу. Ты давно уже не малое дитя, даже если забыть о том, что ты не карнионец.
– И что же делать?
– Для начала – не отчаиваться. Древние карнионцы знали много, но далеко не все. Хотя мои предки, да и кое-кто из здравствующих родичей, уничтожили бы меня за подобные утверждения. И мудростью можно напитаться не только у них.
– Я был на Севере, в монастырях и школах Карнионы… Вряд ли Тримейнский университет способен дать мне что либо сверх того. Может быть… – Джаред помедлил, ибо даже в Карнионе он избегал говорить о некоторых вещах, – Заклятые земли?
– Я не вправе тебе что-то запрещать либо дозволять. Но туда я бы на твоем месте не ходил.
– Потому что это опасно?
– Потому это бесполезно.
– Следовательно, все, что рассказывают об этих краях – ложь?
– Не ложь. Скорее домысел, рожденный от недостатка достоверных сведений. И я не сильно расстраиваюсь из-за того, что людям эти сведения недоступны. Заклятые земли полны чудес. Но эти чудеса ничего не дают тому, кто хочет познать себя.
– Ты говоришь так, как будто убедился сам.
– Конечно, убедился. Иначе бы не стал заводить этот разговор. Ужас и соблазн Заклятых земель не в том, что они опасны. Там постоянно сталкиваешься с невероятным и необъяснимым, и может быть, не стоит его объяснять. Беда в том, что люди не соглашаются это признать. Им кажется, что отступив, они были всего на шаг от победы. Один шаг, одна попытка и еще одна, и еще… и человек принадлежит Заклятым землям, поглощен ими.
– Но ты ушел оттуда?
– Да, вырвался… как из зубов хищника, оставив на них куски собственной шкуры. Можешь считать это метафорой. Но я был старше и опытней, чем ты теперь. Впрочем, чужой опыт еще никому не помог. Решай сам. Я не утверждаю, что ты погибнешь. Но мне не хотелось бы, чтоб ты присоединился к неудачникам, считающих себя адептами, каковых мне приходилось встречать в Заклятых землях.
И помолчав немного, спросил:
– Кстати, ты прочел список, который я тебе дал?
– Да. Но мне кажется, что в переводе что-то утеряно. А языка арабского я не знаю. Да и недоступны нам арабские книги.
– Жаль. Хотя с моей точки зрения тебе полезней были бы не книги, а некоторые дисциплины. Скельская школа, при всем моем к ней уважении, не дает о них понятия, – он снова сделал паузу.
За время их общения Джаред успел усвоить, что Лабрайд ничего не упоминает просто так.
– А ты знаешь арабский язык?
– Недостаточно. Хотя кое-что из их учений усвоил.
– Значит, ты побывал в землях язычников?
– Прежде всего, усвой – мусульмане не язычники. В какой-то мере они строже нас блюдут веру в Бога Единого. Это рвение неофитов. – Он усмехнулся. – Да, пусть их вере немало столетий, в сравнении с каринионцами почитатели пророка – играющие дети. Но это умные, способные дети. И кое в чем обогнали своих учителей. Их нищенствующие монахи – они называются дервиши, создали свой орден раньше францисканцев, я не уговорю уж о слугах святого Доминика. И не их ли учением о преданности мюрида своему шейху и полном отказе от собственной воли вдохновились наши учителя, в особенности святой Франциск, создавая орденские уставы?
Это была совершенная ересь, но Джареду приходилось слышать от Лабрайда и не такое.
– У них есть разные школы, – продолжал Лабрайд, – но я слышал об одной, которая именует себя школой дервишей сна…
Совет был дан, и по прошествии некоторого времени Джаред решил ему последовать. Благо в те годы на южных границах империи, в отличие от северных, было перемирие. Возобновилась торговля, и купеческие корабли двигались вдоль побережья дальше, на юг. На таком корабле Джаред покинул Скель и пределы империи и высадился в торговой гавани Дандан, поскольку согласно условиям мирного договора, дальше путь христианским кораблям был закрыт. Джаред мог бы найти другой корабль, но он не спешил. Прежде чем отправиться на поиски дервишей сна он хотел выучить язык, и получше узнать, где находится. Для жителей империи, страна, куда прибыл Джаред, была просто языческим царством, и мнение их было ошибочное, даже если не учитывать того, что сказал о язычестве и единобожии Лабрайд. Не было царства, однако существовало множество княжеств, управляемыми разными владыками. А были земли вовсе без правителей, без городов, где скитались кочевые племена. И жили здесь люди разных народов, языков и обычаев – и это только если брать в расчет только тех, кто исповедовал ислам. Джаред увидел и узнал гораздо больше, чем предполагал, покидая Скель, но о первоначальной цели своей не забыл.
Дервишей сна он нашел не вдруг, но ближе к границам империи, чем можно было ожидать – в эмирате Зохаль, в городе, именуемом Аль – Хабрия. К тому времени Джаред уже знал, что они отделились от прочих последователей учения суфиев, которых, собственно, и называли дервишами. От прочих последователей пророка суфии сильно отличались, и Джаред вынужден был признать, что кощунственная мысль о святом Франциске не случайно пришла Лабрайду на ум. Но дервиши пошли гораздо дальше, чем францисканцы. Они утверждали, что для молитвы не нужно посещать мечеть, ибо истинная мечеть в сердце. Но и в силе молитвы они сомневались, говоря, что она не дает ничего, кроме напряжения тела. Они усмехались, рассуждая об аде и рае, полагая, что Всевышнего надобно любить свободно, на рассчитывая на награду, и без страха наказания. Наконец, среди их учителей почитались и женщины, а ведь пророк сказал: «советуйтесь с ними, но поступайте вопреки». Все вышеназванное относилось и к школе дервишей сна, однако особенностью их учения было то, что сон считался способом достижения состояния халь – внезапного озарения, и в конечном счете могло привести к фана – небытию, слиянию с Божеством, каковое есть цель каждого истинного суфия. Прочие дервиши посматривали на них косо, полагая, их чем-то вроде учеников шейха Баязида аль-Бистами, проповедовавшего «упоение Богом», и видя в их правилах опасные новшества. Те в ответ утверждали, что ни в чем не отступали от сущности учения, и что «новизна» их правил мнимая, насчитывая по меньшей мере четыре века.
В Аль-Хабрии находилась ханака, или община Тахира ибн Саида ас – Сули. Он пришел к выводу, что оппоненты его во многом правы, и фана , достигаемая путем сна, может быть иллюзией. Поэтому следует обратить взгляд внутрь, и искать озарения, способного осветить мрак собственной души. Опыт показал, что это позволяет достигнуть не только душевной чистоты, но и физического здоровья. Джаред опасался, что условия обучения будут для него неприемлемы, и напрасно. Искус мюрида, продолжавшийся тысячу и один день, отречение от собственной воли, испытания, долженствующие сломить гордость учеников – все это было только для правоверных. Остальные не могли стать истинными дервишами, но им позволено было прикоснуться к мудрости. Что касается платы за обучение, то Тахир ибн Саид брал ее с тех, кто способен был платить. Этим он заслужил множество нареканий, ибо дервиш давал обет бедности и нестяжания. Тахир оправдывался тем, что получаемые деньги, иногда весьма значительные, он тратит не на себя, а на ханаку. Что было правдой.
Тахир ибн Саид в некотором отношении напоминал Лабрайда, хотя сходства между ними не было никакого, не говоря уж о том, что Тахир был значительно старше. Он, например, чтил устную традицию выше письменной (что, как понял Джаред, вообще было свойственно дервишам сна, хотя никто не запрещал им записывать свои труды). И если Лабрайд называл детьми мусульман, то Тахир относился так же к христианам. Только для него это были злые, жестокие дети.
– Вы, – говорил он, – изгоняете, грабите, убиваете иноверцев, а наш пророк заповедовал брать их под покровительство. И никогда не было у нас такой мерзости, как ваши Святые Трибуналы.
Действительно, в эмирате, не опасаясь за свою безопасность, жили не только «люди писания» – евреи, христиане и последователи Заратушры, но и самые настоящие язычники. То же относилось и к ханаке.