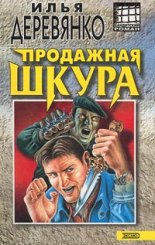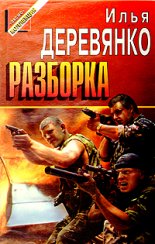Предначертание Давыдов Вадим

– Ай-яй-яй, товарищ Черток. На прогулочку направлялись, никак. Проучить белогвардейскую сволочь. А ведь не на своей территории. Здесь ведь подобные улики могут очень, очень плохую службу сослужить. Не по-военному как-то воюете, товарищ Черток. А?
– Можете меня расстрелять!
– Ну, началось, – поморщился Гурьев. – Семён Моисеевич. Здесь некому оценить ваш геройский пыл. Если бы я хотел вас, как вы выражаетесь, расстрелять, я бы это уже сделал. Прошу только учесть один маленький нюанс. Расстреливают по приговору суда, пускай хоть и военно-полевого. А у нас комиссаров и коммунистов просто ставят к стенке и шлёпают. Совершенно, кстати, справедливо, по-моему. Но, впрочем, для вас я придумал кое-что поинтереснее. Что, страшно?
Черток смотрел на Гурьева бешеными глазами на белом лице. Лоб его был мокрым, волосы прилипли к коже.
– Вы… не смеете… С пленными…
– О, – Гурьев вытянул губы трубочкой. – Прочтите мне лекцию о духе и букве Женевских конвенций. Золотко моё. Пленных мы отпустили, переписав имена и фамилии, взяв с них расписки, что воевать с русскими людьми они больше не будут. Нам лишние рты ни к чему. Если ещё раз придут сюда, будут считаться не пленными, а бандитами, и поступят с ними надлежащим образом. А вы не сдавались, вас поймали, как козла в огороде. Так что извините, товарищ Черток.
– От… От… Отпусти-и-или?!.
– Мы – Русская Армия, а не палачи, – резко, словно пощёчину закатил, бросил Гурьев. – Мы с безоружными не воюем. В отличие от вас, кстати.
Черток переваривал обрушившуюся на него новость минуты, наверное, две. Офицеры уже отошли от горячки боя, а Гурьев – так тот, кажется, и не волновался вообще никогда. Теперь все с торжеством наблюдали за совершенно сбитым с толку комиссаром, который, судя по всему, готовился не к вежливой беседе с приятным молодым человеком, а к матерщине, пыткам и неминуемой смерти. А вышло – иначе.
Черток, наконец, опомнился:
– Всё равно я ничего не скажу!
– Да пожалуйста, – Гурьев вздохнул. – А с чего вы взяли, что мне интересно получить от вас сведения? Пленные всё доложили в таких подробностях, что просто сердце радуется. А вы что можете рассказать? Содержание последней передовицы в газете «Правда»? Так я не читаю советских газет, от них, как известно, цвет лица портится необратимо. И пытать вас не станут, не бойтесь. Не дадим вам такого козыря в руки. Много чести.
– А как вы с отрядами товарищей Фефёлова и Толстопятова?!. Думаете, я не знаю?!
– Так это ведь замечательно, что знаете. Только это были вовсе не отряды товарищей, как вы изволите выражаться, а банды убийц, извергов, насильников и мародёров. Ни формы, ни знаков различия. Вооружённые преступники. Вот, посмотрите на нас – всё честь по чести, как полагается. Офицеры, рядовые, отдание воинской чести, знамя с наименованием воинской части. И дисциплина, конечно, – он посмотрел на казаков, которые при этом опять вытянулись. – И вы потерпели от нас поражение в бою. Да и с вами лично обращались, насколько я могу судить, вполне корректно. Хотя вы, строго говоря, не разбери-пойми, что за птица. Комиссар – это кто? Солдат? Офицер? По-моему, это тюремный надзиратель. Так что никаких оснований для претензий не наблюдаю.
– Я…
– Не понимаете. Это же чудесно, – Гурьев пожал плечами и улыбнулся. – Удивил – победил, как говаривал граф Суворов-Рымникский. – Он кивнул казакам: – Накормить от пуза и запереть до утра. И смотрите в оба, чтоб не утёк, он мне нужен. Охранять, как любимую невесту.
– Есть!!! Пшёл, с-с-сука!
Комиссара увели, а к Шерстовскому, наконец, вернулся дар речи:
– А… А он вам зачем?!.
– А вот скажите, Виктор Никитич, – улыбнулся Гурьев, – что будет, если мы его повесим?
– Одним жидом меньше!!! – рявкнул Шлыков. – Ой… Извини, Яков Кириллыч. Сорвалось.
– Так что? – продолжая улыбаться и словно не замечая выходки полковника, снова спросил Гурьев.
– Иван Ефремович совершенно правильно заметил, что, – проворчал Шерстовский.
– А какой в этом для нас резон?
– То есть?!
– То есть ориентирую вас, Виктор Никитич. Скажите, вам часто попадали в плен батальонные комиссары Красной Армии?
– Нет.
– И мне ещё никогда так не везло. Поэтому шанс нужно использовать на всю катушку. Ответьте, как пострадала Советская власть от расстрелов комиссаров и прочих жидов, Виктор Никитич? Только честно.
– Никак, – помрачнел Шерстовский.
– Правильно, – вкрадчиво подтвердил Гурьев. – И не пострадает. Скорее, наоборот. И сидя здесь, в Маньчжурии, время от времени постреливая и подвешивая заблудившихся жидов с комиссарами, вы никак не можете приблизиться к какому-нибудь результату. Ни вы, ни глубоко уважаемый мною атаман Семёнов. А уж тем более это не получится ни у китайцев, ни у японцев, – он быстро развернулся и церемонно поклонился Такэде, – извините, Сабуро-сан, вы ведь понимаете, о чём я, – Гурьев снова перевёл взгляд на Шерстовского. – А меня интересует результат. Куда меньше, чем процесс. Поэтому мне нужны союзники. Повешенный комиссар – плохой союзник, Виктор Никитич. А вот живой комиссар, которого не били, не пытали, а распропагандировали и отпустили на все четыре стороны – это, доложу я вам, бомба почище отпущенных пленных и перевязанных раненых. Комиссар, который вдруг увидел, что враг может быть симпатичным во всех смыслах, великодушным и щедрым, перестаёт быть вполне комиссаром. Он становится человеком, который понимает, что его собственная система взглядов – отнюдь не единственно возможная и к тому же не абсолютно неопровержимая. И начинает думать. А думать – это и есть самое важное. Конечно, в обычных условиях он вряд ли задумался бы. Но в том-то и дело, что предложенные обстоятельства обычными не являются. Тут уж хочешь, не хочешь, – задумаешься. Вот этой всей совокупностью моментов я и собираюсь воспользоваться. И не позволю мне помешать.
– После всего?!
– Когда-то начинать необходимо, – пожал плечами Гурьев. – Я не стану сейчас распространяться о личных обстоятельствах, – просто поверьте, что поводов и оснований для мести у меня не меньше, чем у вас или полковника Шлыкова. Только мы так никуда не уедем. А двигаться просто необходимо. Выхода нет.
– Куда? Двигаться – куда?!
– Вперёд. У меня большие планы, Виктор Никитич, – тихо, но внятно проговорил Гурьев. – Для их осуществления мне требуются люди. Всякие люди, желательно – с принципами и лично мне обязанные. По возможности – обязанные всем, в том числе и жизнью. У меня такое чувство, что нам попался человек именно с принципами. Ещё раз повторяю – нам требуются союзники. Они не лежат готовые на складе, словно обмундирование. Нет у меня глиняной армии, как у первого императора династии Цинь, которая только и ждёт звуков боевых барабанов, чтобы ожить и броситься в сражение. Армию требуется изготовить. Изготавливать её можно только из подручного материала. Только из того, что имеется в наличии. В наличии же, как вы имели возможность неоднократно убедиться, былинных витязей, всех из себя в сверкающих ангельских доспехах, почему-то не наблюдается. Всё больше народец, на войне так или иначе пообтёршийся, и выпить не дурак, и реквизицию без особых душевных терзаний произвести, и на бабу чужую взгромоздиться, если случай подвернётся. Если у вас имеются какие-нибудь запасы означенных витязей, соблаговолите поделиться. Или новые, уникальные идеи на этот счёт. Я готов со всем возможным вниманием их выслушать. Молчите? Ничего удивительного, – Гурьев повернулся, посмотрел на Шлыкова. – Именно потому я буду действовать так, как я сам считаю нужным и правильным. Уж извините.
– Удивил – победил.
– Совершенно точно именно так, – кивнул Гурьев. – Но такую ювелирную работу я, как вы понимаете, ни вам, ни полковнику, как бы ни был он любезен моему сердцу, доверить не могу. Посему отправляюсь немедленно спать, чего и всем остальным, кстати, желаю, – Гурьев поднялся и сладко, с хрустом, потянулся. – Да вы ведь и не станете мне мешать, господа?
Сказано это было таким тоном, что Шерстовский мгновенно уяснил – совещание закончено, решение принято, и командира мнение подчинённых более не интересует. Командира?! Командира, командира. Тут уж – хочешь, не хочешь… Ротмистр знал, что такие вещи не на земле и не в штабах решаются. Если положено человеку судьбой – командовать, значит, так тому и быть. Он кивнул, поднялся, и щёлкнул каблуками, отработанным жестом прижимая шашку к бедру:
– Разрешите откланяться, Яков Кириллович.
– Разумеется. Спасибо и спокойной ночи, господа.
А что, подумал, выходя по нужде, Шерстовский. Во всяком случае, на это забавно будет поглядеть. А повесить – дурная работа нехитрая. Но каков же… шельмец, а?! До такого додуматься! Конечно, не Цесаревич он, это, как Божий день, ясно. А – кто?!
Поставив перед безгранично обалдевшим Чертоком чугунок с дымящейся, политой топлёным маслом, посыпанной свежей зеленью и крупной солью картошкой и заперев амбар, один из конвойных казаков вздохнул и перекрестился:
– Во. Видал?! А ишшо говорят. Как разговариват! И смотрит-то! Как же, не царевич. Так мы и поверили. Царевич. Как есть, доподлинный царевич. Во!
– А зачем же говорят-то, что не царевич?! – жалобно сказал другой. – Это ведь народу какое облегчение-то было б…
– Курья башка, – ласково проговорил старший. – Конь… Конь-спирация. Нельзя покудова. Силёнок маловато.
– Так ведь не крестится ж… И с жидами… Не велит…
– Потому как Царём будет, – посерьёзнел старший казак. – Не крестится, верно. Говорю ж – конь-спирация! Царь наш православный – он всем Царь, помазанник Божий. И нам с тобой, и жидам, и татарам. С кажным человеком, каков он есть, на егойном языке разговариват. С япошками – по-японски, с китайцами – по-китайски, а с жидами – по-жидовски, известное дело. Понял?! Он всех своих детей любить должон. Скока есть, все его. А то это ж не по справедливости выходит, не по-христьянски, – один – сынок, а другой-то – пасынок?! У Царя сердце большое должно быть, курья башка. Его на всех хватить должно!
Утром комиссара снова привели к Гурьеву. Офицеры уже позавтракали, и перед Чертоком снова поставили чугунок с картошкой:
– Поешьте, – гостеприимно-радушно улыбнулся Гурьев.
– Могу я узнать, что вы собираетесь со мной делать? – спросил Черток, глядя в стол. После ночи на тёплом душистом сене на сытый желудок и при виде кипящей в станице жизни умирать совсем не хотелось. Так что от вчерашней запальчивости комиссара Чертока оставалась лишь бледная тень.
– Ну, напрягитесь, Семён Моисеевич, – вкрадчиво проворковал Гурьев. – Для чего мне вас кормить и ублажать, если я душегубство задумал? Вешать и стрелять надо товарищей с пустыми животами. А то очень уж негигиеничное зрелище происходит, – Гурьев смешно наморщил нос. – Полный конфуз организма приключается, знаете ли. Так что не тревожьтесь. Останетесь живы. Выдавать Советскую Военную Тайну тоже не требуется. Хотя на некоторое благоразумие с вашей стороны я всё же рассчитываю.
– А Жемчугов? – хмуро спросил Черток. – Его-то вы…
– Ну, Семён Моисеевич, – Гурьев вздохнул. – Вы уж извините, я ведь тоже живой человек. Каким это не покажется странным. А здесь – не охотничьи угодья для гепеушных палачей. Здесь люди живут, которых я защищать взялся.
– Но… Это вы его… так?
– Как? – с интересом посмотрел на Чертока Гурьев.
Черток не ответил, только дёрнул плечами, – мол, сами знаете. Гурьев кивнул и улыбнулся, как ни в чём ни бывало. И спросил:
– Так что? Принимаете правила, Семён Моисеевич?
– Принимаю, – буркнул Черток, по-прежнему не поднимая головы.
– Отлично. Насыщайтесь. День долгий.
Когда Черток наелся и напился чаю, Гурьев сел напротив, подперев голову ладонью:
– Бегать, как заяц, ведь не станете? Не солидно. Да и стреляю я недурно.
– Не беспокойтесь, – угрюмо сказал комиссар.
– Ну, идёмте тогда, голубчик.
Гурьев провёл его по всей станице, завёл чуть ли не в каждый двор. Везде их привечали – Гурьеву кланялись, кое-где – так и вовсе в пояс, на Чертока смотрели без радости, но и без злобы, – скорее, с любопытством. Комиссар, всё ещё не понимая, какую цель преследует Гурьев, взирал на всё удивлённо-растерянно. Посетили и школу, где дружно хлопнули крышками парт, вставая, ребятишки, и улыбнулась, зарделась и запечалилась при виде Гурьева юная и прелестная Милочка Неклетова… Закончив экскурсию, Гурьев снова привёл Чертока в штаб.
– А теперь, Семён Моисеевич, расскажите мне своими словами, что вы видели.
– Что?!?
– Я хочу услышать от вас, что вы увидели у нас здесь. Понравилось ли вам?
– Что… Что Вы хотите этим сказать?!
– Ну же, расслабьтесь, – терпеливо, как маленькому, сказал Гурьев и улыбнулся улыбкой многоопытного врача. – Просто представьте, что нет никакой войны. Ничего нет. Только то, что вы видели. Что вы увидели? Расскажите.
– Я не понимаю…
– Не нужно сейчас ничего понимать, – мягко сказал Гурьев. – Вот совершенно. Подумайте. Хотя у меня и не так много времени, я не тороплю.
Черток задумался. Его поразило то, что он увидел. Он увидел нормальных, здоровых, вполне добродушных людей, которые знают, зачем они живут. Не горят, а именно живут, – каждый день, из года в год. Крепкие, чистые курени, ухоженный скот, умытые дети, спокойный, достойный быт, достаток. Ни оборванных батраков, надрывающихся от непосильного труда, ни кулаков, мироедов-злодеев, ни бедноты беспорточной. Ни «белоказаков», ни разбойников ему не встретилось. Крестьяне как крестьяне. Живут только уж очень зажиточно. Собственно, Чертоку не так уж часто доводилось видеть в своей жизни людей, занятых крестьянским делом. Если откровенно, то практически не доводилось вовсе. Он был городским человеком, его детство и юность прошли в Могилёве – вестимо, не Париж, но всё же. Крестьянские парни, с которыми ему приходилось сталкиваться с той поры, как его бросили на укрепление партийного актива РККА, казались ему непонятными, недалёкими, он никак не мог подобрать к ним ключик. Хотя и старался. Он всегда старался делать то, что делал, правильно. А здесь… И эта учительница в школе. А Шнеерсон?! Просто поверить невозможно! И этот высокий юноша, – несомненно, враг, конечно же, враг, и враг убеждённый. А если он враг, если правда за нами – почему он тогда так спокоен и… И так красив?! И все они?! Да что же это такое, подумал Черток. Чего же ему от меня надо?! Кто он вообще такой?! Неужели…
– Я вижу, до вас начинает доходить понемногу, – тихо проговорил Гурьев. – Спросите себя, Семён Моисеевич, положа руку на сердце: есть вам, за что ненавидеть этих людей? Просто будьте честным. Здесь нет ни партийной ячейки, ни трибунала. Мы одни, и никто нас не слышит. Так что?
– Мне – нет, – откровенно признался Черток. – Но…
– Но?
– У нас нет другого выхода, – словно боясь посмотреть на Гурьева, заговорил Черток. – Партия и руководство Коммунистического Интернационала… Нам требуется современная промышленность, технологии. Нам просто необходимо это – любой ценой, и как можно скорее. Мы не можем больше плестись в хвосте индустриального мира. Чтобы создать первоклассную военную промышленность, мы вынуждены действовать только так и не иначе!
– А зачем вам военная промышленность? – ласково спросил Гурьев. – Так быстро, да ещё и любой ценой?
– То есть как?! – Черток посмотрел на него с неподдельным изумлением. – Как это – зачем?!
– Я понимаю, что революцию пора нести на кончиках штыков, – усмехнулся Гурьев. – Это я как раз очень хорошо понимаю. А вы спросите этих людей, нужна ли им ваша революция. И не только этих. Вся беда в том, что вы никого никогда не спрашивали. Кроме себя. Вам самим очень нравится и ваша революция, и ваши идеи. Проблема в том, что вы не одни на этом свете, Семён Моисеевич. А ведёте вы себя так, словно кроме вас и нет никого. А среди тех, кому ваши идеи вовсе не по душе, отнюдь не исключительно сплошь сатрапы, супостаты и кулаки. Если вы не любите и не понимаете людей, ради которых вы якобы делаете революцию, грош цена всем вашим начинаниям. Я догадываюсь, что вы не собираетесь со мной соглашаться, особенно прямо сейчас. Но вот просто подумайте над этим.
– Я…
– Погодите, – прервал его Гурьев. – Я знаю, что вы можете сказать. Я почти всю свою жизнь прожил в Москве, оказавшись здесь совершенно случайно, по воле ваших товарищей, кстати. Мне ваши басни так в зубах навязли… Там, за речкой, в СССР, почти не осталось таких, как эти люди. Вы всех их убили или выгнали прочь. Зачем? Вы ведете себя исключительно глупо. Нерационально. Не по-марксистки. Ненаучно, в конце концов. Вот представьте себе. Подъезжает ваш поезд, – тот самый, который «паровоз, вперёд лети! В коммуне – остановка!» – к месту, где рельсы заканчиваются. И что делают большевики? Они не слушают инженеров-путейцев со стажем, которые твердят, что необходимы рельсовые бригады, выдержанные, хорошо промасленные шпалы. Но на это требуется время, которого у большевиков, вроде бы, нет. И решает машинист дерзновенное новаторство учинить. Большевики вместо шпал укладывают пассажиров. Как будто им невдомёк, что по такому пути долго не поедешь, да и рассыплется эдакий путь позади состава, потому что люди – не шпалы, не брёвна, не щепки, как бы этого большевикам не хотелось. Хорошо, проехали по костям. И что? Вагоны пусты, ехать некому, везти – некого. Ну, и зачем? Кому всё это было нужно, комиссар Черток? Кому из людей такой сценарий выгоден?
– Это софистика.
– Это именно то, чем занимается ваша партия взапуски с Коммунистическим Интернационалом. Из всех возможных решений вы выбираете самое дикое и кровавое. Любой ценой. Почему? Для чего? Для кого? Не отвечайте мне сейчас. Мне не нужен ваш ответ, да вы его и не можете знать. Мне вовсе не нужно, чтобы вы перековались в мгновение ока и встали под мои знамёна. Я хочу, чтобы вы начали думать, Черток. Перестали полыхать революционным гневом и начали думать. Не больше. А теперь – следующая картина балета, – он посмотрел на часы. – Вставайте.
Они вышли за ворота как раз в тот момент, когда на улице показался отряд, возвращающийся с учений. Увидев Гурьева, Котельников встопорщил в улыбке усы и скомандовал:
– Ярошенков! Песню!
Молодой, звонкий и чистый, как родник, голос, поплыл над станицей:
- По-над речкой Аргунь, у лесистых отрогов Хингана,
- Осеняем крестом, стан казачий Россию хранит.
- И мудры, и сильны, и отважны его атаманы,
- Наша воля к победе крепка, как амурский гранит.
И следом почти две сотни лужёных казацких глоток яростно громыхнули припев:
- Эй, казак, седлай скорей коня!
- На врага помчимся, шашками звеня!
- Ты не плачь, Маруся, я к тебе вернуся.
- Здравствуй, мать-Россия, милая земля!
Шерстовский, который этого тоже ещё не слышал, вытаращил глаза. А запевала вдохновенно вывел, явно гордясь и песней, и собой, второй куплет:
- На маньчжурской земле, возле самых ворот Поднебесной,
- Здесь, в преддверье Великой Китайской стены,
- Путь России родной защитим мы бесстрашно и честно,
- Как положено войску великой и славной страны.
Не Пушкин, не Пушкин я, подумал Гурьев. Ох, не Пушкин. Не меня благословил, сходя во гроб, старик Державин. Вот совершенно точно не меня. Даже близко я там не стоял. Ну, да за народно-казачью песню сойдёт. Как-нибудь, Бог попустит, чай.
Ещё дважды прозвучал припев. Это что же такое делается-то, едва не взвыл Шерстовский. Это… Это… Он посмотрел на комиссара, на лице которого отображалась такая буря эмоций, что ротмистру едва не стало его жаль. Уже почти окончательно поправившийся Шлыков, тоже вышедший встречать отряд, заметив замешательство Шерстовского, весело ему подмигнул.
О, Боже, подумал Шерстовский. Но ведь этого просто не может быть!
Проезжая мимо офицеров и Гурьева, Котельников рявкнул:
– Налево р-ра-авняйс-с-сь!!!
Казаки, как один, повернули головы и вскинули руки к папахам. Гурьев ответил таким же жестом. Когда отряд миновал их, он повернулся к Чертоку:
– А это – армия, смысл существования которой – защищать людей от всякой мрази, которая рыщет вокруг. Лица эти вы видели, Семён Моисеевич?
– Зачем вы мне всё это показываете?!
– Я думаю, у вас ещё осталось немного совести. Только поэтому. Идёмте дальше.
– Куда?
– Увидите.
Он привёл Чертока на могилу Пелагеи. У изголовья стоял временный деревянный крест. Гурьев достал из кармана кителя небольшую фотокарточку – старую, ещё дореволюционную, на которой Пелагея, с уложенными короной на голове блестящими косами, улыбаясь и глядя вдаль, совсем ещё девочкой, позировала перед камерой:
– Смотрите внимательно, Черток. Очень внимательно…
– Кто это? – спросил Черток, глотая противный кислый комок в горле.
– Это – женщина, которая погибла, защищая меня, Семён Моисеевич. Толстопятов разрубил её почти пополам. Она принимала роды у сотен, наверное, здесь, в округе. И она любила меня, а я – её. Теперь её больше нет. Скажите мне, Черток, – ради чего?
– Я… – Черток, чувствуя, что не стоит ничего говорить, захлебнулся готовыми вырваться из него словами.
Гурьев кивнул:
– Я вас отпущу, Семён Моисеевич. Завтра. И позабочусь, чтобы вы невредимым перебрались за речку. Но вы поклянётесь мне, что ни на минуту – больше никогда в жизни – не перестанете думать. С этой минуты – больше никогда. Вы же видите – я ничего не говорю вам, не агитирую вас, не заставляю ни от чего отказываться. Я просто предлагаю вам задуматься и предоставляю такую возможность. Ещё одна ночь у вас есть, Семён Моисеевич. Всего одна ночь, чтобы подумать. Зачем вы делали революцию, комиссар Черток? Чтобы у людей была новая, яркая жизнь. А что вместо этого вышло? Думайте, Черток. Больше ничего от вас не хочу, вот совершенно.
– Почему я? – одними губами прошептал Черток. – Почему именно я?
– А с кем мне разговаривать? – усмехнулся Гурьев. – С Толстопятовым? С Фефёловым? Вы хотя бы читать умеете. У вас есть дети?
– Есть, – кивнул Черток.
– Сколько?
– Двое… А… А… У вас?
– Вряд ли у меня когда-нибудь достанет смелости на такой подвиг, как завести собственных детей, – Гурьев усмехнулся снова. – Ладно, хватит на сегодня.
– Вы… Вы действительно… Собираетесь меня отпустить? – всё ещё боясь поверить в то, что уцелеет, спросил Черток.
– Воин Пути никогда не нарушает обещаний, – спокойно сказал Гурьев.
– Воин Пути?! – растерянно переспросил Черток. – Что это означает?!
– Не забивайте себе голову ненужными сведениями, Черток. Когда-нибудь, возможно, узнаете. Сейчас это вам лишнее.
– А казаки?
– Что – казаки? – Гурьев приподнял брови.
– Они ведь не позволят.
– Мои приказы и решения не обсуждаются, – мягко, как ребёнку, сказал Гурьев. – Кажется, у вас была возможность в этом убедиться.
– Я… Я не понимаю… – жалобно проговорил Черток. – Нет, нет, я совсем не понимаю… Кто же вы такой?!.
– Думайте, Семён Моисеевич. Думать – это полезно. Идёмте, у меня ещё дел полно.
Эту ночь Черток провёл, ни на минуту не сомкнув глаз. Ещё не рассвело, когда он вдруг забарабанил в дверь своего «домзака[13]». Один из караульных казаков, матюкнувшись, поднялся с лавки и подошёл к двери:
– Ну? Чего надо?
– Мне… – Черток проглотил комок в горле. – Я должен срочно поговорить с вашим… командиром.
– Делов у атамана других нет, тока с тобой лясы точить, – хмыкнул казак. – Спи, людей зря не булгачь. Утром нагутаришься.
– Мне необходимо с ним поговорить. По… Пожалуйста, – тихо добавил Черток.
Гурьев проснулся мгновенно. Выслушав сбивчивый доклад вестового, коротко кивнул:
– Хорошо. Приведите.
Гурьев несколько секунд смотрел на явно не знающего, куда себя девать, комиссара, потом наклонил голову чуть набок:
– Вы чувствуете, что должны что-то сделать. Но не понимаете, что. Я прав?
– Да, – хмуро сказал Черток, не поднимая глаз.
– Кто-то из латинян сказал – делай, что должен, и да случится то, чему суждено. Но вот только… По-моему, происходит совсем не то, что суждено. А это значит – мы все делаем вовсе не то, что должны делать на самом деле. Что скажете, Семён Моисеевич?
– Вы знаете, что нужно делать? Что мы все должны делать?
– Нет. Пока нет никакого плана, Семён Моисеевич. Пока.
– А будет?
– Не знаю.
– Но тогда…
– Делай, что должен, – Гурьев вдруг усмехнулся. – Чем вам не план? По-моему, просто отличный план. Великолепный. Вы не думайте, что я на вас случайно набросился. Вы ведь не военный по сути своей человек, вы – учитель. Толкователь. Не так?
– Так…
– Вот видите. Вас использовали, мой дорогой. Вас – и таких, как вы. Использовали, как таран, как кистень, чтобы сокрушить империю. Использовали как силу, внешнюю по отношению к империи и народу, который её создал. Сначала империю последовательно и целенаправленно стремились отвадить от решения вашей проблемы. Делали всё, чтобы пар в котле создал давление взрыва. А потом – взрыв. Пока эта империя представляла собой помесь тюрьмы и казармы, её существование терпели. Даже то, что она расширялась, было им на руку. На более или менее сносное управление таким колоссом должны были уходить все ресурсы, все без остатка – и людские, и материальные. Но вот посудите сами. Как только начались перемены… Как только империя перестала пожирать ресурсы и начала ими пользоваться… На нас обрушился целый град ударов. И мы не выдержали. Мы повалились. Видите эту картинку? Я – вижу.