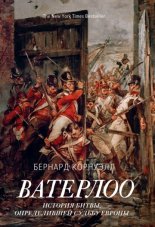Повелитель вещей Чижова Елена
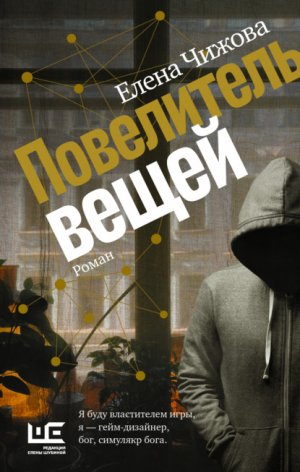
© Чижова Е. С.
© Мачинский В. Н., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
Эта странная история началась ранним мартовским утром 201… года, хмурым и пронизанным такими злыми ветрами, будто они, псы заморские, сорвались с поводков. В такие дни с самого утра ломит голову, а в висках собираются диковинные мысли, – идешь, бывает, и думаешь: кто мы, мокрохвостые кулики, чья судьба истирать это самое умышленное, достоевское и прочая, и прочая пространство? Или потомки и наследники? – и, поскреби любого из нас, найдешь не татарина, и даже не мужика, поротого на конюшне самовластной барыней, а Его Самог, пресветлейшего и вседержавнейшего, морехода и строителя, повелителя Великия, Малыя, Белыя и прочая, и прочая, прклятого на веки вечные царицей Евдокией; и нам, Его безвестным потомкам в двунадесятом колене, это проклятие нести…
I
В то хмурое мартовское утро, когда Анна Петровна, женщина далеко не первой молодости (впрочем, зеленый китайский пуховик, купленный на вещевом рынке в начале девяностых, кому угодно добавил бы возраста), вошла в вестибюль торгово-офисного центра и направилась к стойке охраны, она – прямо из рук охранника вместе с офисными ключами – получила нежданно-негаданное известие и, осознав его, как свое, личное, испытала давно забытый прилив счастья, будто не судьба ее огромной страны, а ее маленькая судьба – сухая плеть девичьего винограда – вдруг ожила и пустила верхушечную почку, обещая что-то радостное и светлое, от чего Анна Петровна была давно и прочно отлучена.
То, что в роли вестника судьбы выступил не суетливый балагур Пал Палыч и не одышливый толстяк Игнатий Максимыч, а солидный Петр Федорыч – всю когорту нижних охранников она знала по именам и в лицо, но его единственного побаивалась, – казалось не такой уж важной подробностью. И только дойдя до своей подсобки, где у нее хранится рабочая одежда, моющий пылесос и запас чистых тряпочек, Анна Петровна поняла: именно он, пожилой подполковник запаса, от которого в иные дни и «здрасьте» не дождешься, мог вот так, будто с хрустом, улыбнуться и проронить два коротких слова, истинного значения которых она по утренней рассеянности не осознала, пока он мановением густых бровей не указал на телевизор, бормочущий в глубине охранницкой, в углу.
Все еще во власти суровой, повелевающей бровями улыбки, она сняла с крючка черный рабочий халат, но не надела, а села и сложила руки, впервые за много месяцев не заметив, до чего же они увяли, поблекли, побежали мелкими морщинками-трещинками. Ее мамочка любит повторять: «Ничто так не выдает женщину, как ее руки». Последнее время, заходя к матери в комнату, Анна прячет руки в карман или под передник, чтобы не выдать себя немым вопросом: «Что будет со мной, когда мамочка умрет?»
В первый раз этот вопрос ожег ее прошлой осенью, когда Анна проснулась среди ночи и ей – во тьме, между сном и явью, – вдруг представилось, будто она не лежит в своей кровати, а стоит в ночнушке, босиком перед высокой белой дверью, за которой таится что-то темное, бесформенное, и ее пронзило острое желание: открыть…
Тут Анне почудилось, будто она не думает, а говорит вслух. Спохватившись, она сделала себя потише, словно подкрутила звук старого, еще советского телевизора – черно-белого «Рекорда», который лет десять уже как прозябает на даче, уступив свое законное место новому импортному «Филипсу»; но с ним, услужливым иностранцем, Анна так и не свыклась. Всякий раз, переключаясь с канала на канал с помощью удобного пультика, она чувствует напряжение в мышцах: ей хочется встать и сделать два шага вперед с протянутой рукой – как в те, рекордные, времена, когда Анне порой мечталось, что оттуда, из глубины экрана, ей навстречу протянется другая рука – как на картинке из журнала; сколько Анна себя помнит, эта картинка, пришпиленная к стене железными кнопками, висит над скособоченной тумбочкой, которую мамочка по старой памяти называет «телефонной» – в честь телефонного аппарата, такого сонного и недвижного, что казался жабой. Анна еще не ходила в школу, когда жаба, лупнув круглым глазом, сползла со своей насиженной тумбочки и перебралась из коридора в прихожую – где снова замерла на годы: по телефону им никто не звонил.
Там, где черная жаба сидела раньше, остались цифры на обоях. Как-то раз, ночью, заслышав шаги в прихожей, Анна подкралась и, приникнув к дверной щели, увидела, как мамочка стирает их ластиком (карандашные поддавались, чернильные упорствовали). Наутро они исчезли без следа – спрятались, скрылись под картинкой, которую мамочка перевесила пониже.
Тем же утром, подозвав ее к себе и указав пальцем на картинку, мамочка сказала: «Слева – Адам, справа – Бог-Отец».
В те времена Анна понятия не имела, кто такой Адам, а тем более Бог-Отец. А переспросить побоялась. Все равно не ответит, скажет: «Поела, попила – марш к себе». Это – если в дурном настроении. А в хорошем: «Подумай. Догадайся сама». Когда, уже школьницей, Анна наконец догадалась, Бог обратно не вернулся, остался просто отцом. О котором Анна знает только то, что он умер незадолго до ее рождения. В звании подполковника.
Однажды мамочка обмолвилась: «Твой отец любил отдыхать в Крыму», – и сейчас, словно ее давняя мечта об отцовской руке наконец исполнилась, Анна, закрыв глаза, пряча теплую радость под веками, шепчет:
– А ведь я знала… Знала, что рано или поздно…
Остается только удивляться, почему известие, полученное от Петра-охранника, застало ее врасплох. Ведь были, были же предвестники. Начать с того, что прошлой весной у них на даче зацвела вишня, лет двадцать как выродившаяся и не дававшая плодов. В то утро Анна вышла на крыльцо и замерла, любуясь белым невесомым облачком, – и тут мальчонка лет шести, соседский внук, как крикнет из-за забора:
– Бабушка, бабушка! Смотри! Как в Крыму!
Не зря говорят: устами младенца глаголет истина. Вот и не верь после этого пословицам…
Впрочем, было и другое, осенью, когда Анна пошла в лес и заблудилась. Притом что знает наизусть все окрестные дорожки, но тут словно бес запутал, водил ее по кругу – пока не встретила незнакомую, из чужого поселка, женщину, с которой они вышли прямиком к станции, а по дороге разговорились: про дожди, мол, давненько не выпадало, вот и, пожалуйста, совсем не грибное лето (Анна сказала: «И хорошо, что не грибное. Грибное лето – к войне»); потом про смородину: Анна перетирает ее с сахаром, а женщина закладывает в морозильную камеру («Зимой чудо как хорошо! Смородиновый морс»); потом про ложные белые – нынче их расплодилось видимо-невидимо: серые шляпки с розоватым исподом, – опытные грибники знают, не берут. Анна сказала: «Ложные грибы горькие. Если сомневаешься, надо лизнуть», – а женщина: «Это у нас горькие, – и рассказала историю, которая приключилась с нею не где-нибудь, а именно в Крыму: – У них все грибы сладкие. Ну я и сварила. Слава богу, сама попробовала, а если б дети? Пару ложек съела…» – и дальше во всех подробностях: и про рези в желудке, и как потом наизнанку выворачивало. Анна ей, конечно, посочувствовала, хотя и усомнилась: ну как это – сладкие? Сама небось не лизнула, а теперь жалуется…
Бросив взгляд на часы, Анна спохватывается: «Рабочее время, а я сижу!» Встает, торопливо приглаживает волосы; путаясь в рукавах, надевает сатиновый халат.
Как бывший школьный учитель, Анна Петровна знает главную педагогическую мудрость: посеешь поступок – пожнешь привычку; посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь судьбу.
Поступок она совершила, устроившись на ставку уборщицы. И пожала стойкую привычку: начинать с кабинета начальника, а дальше идти по нисходящей: бухгалтерия, плановый отдел, отдел сбыта, коридор. В конце коридора туалет, который Анна моет в последнюю очередь. Раньше она об этом не задумывалась. Но сейчас ей приходит в голову резонная мысль: уж если сама судьба протягивает ей руку помощи, обещая по возможности восполнить упущенное, не пора ли бросить вызов диктату привычки? Пойти поперек. Проверить, что из этого получится. Вдруг из новой првычки вырастет новый характер? Гордый и смелый – не чета ее нынешнему…
Захваченная этой мыслью, Анна оставляет пылесос в подсобке – и, шуруя жесткой щеткой под закраиной унитаза, трет особенно долго и добросовестно, словно ждет, когда из-под желтого налета глубоко въевшейся ржавчины проступит ответ на главный вопрос ее, чего уж греха таить, неудавшейся жизни: «Как я до этого дошла?»
Не дождавшись ответа, она ополаскивает щетку, подходит к зеркалу; достает из кармана аэрозольный баллончик, распыляет по зеркальной поверхности средство для мытья стекол на основе нашатырного спирта – самое, на ее взгляд, эффективное; берет чистую сухую тряпочку, намереваясь стереть беловатые потеки… Вдыхает слабый запах нашатыря – и, словно очнувшись от обморока, в котором пребывала все последние годы, принимает простое и ясное решение: «Всё. С меня хватит». Наскоро, отдавая прощальную дань глубоко въевшейся привычке, она протирает зеркало – и как была, с влажной тряпочкой в руке, направляется к кабинету начальника. С твердым намерением: подать заявление об уходе.
Секретарша начальника занята: разговаривает по мобильному телефону. Анна стоит, терпеливо дожидаясь, пока та закончит разговор и обратит на нее внимание. Секретарша оборачивается; смотрит с недоумением, будто пытается вспомнить, кто эта женщина в черном халате.
Анна растерянно улыбается, словно ей тоже не вспомнить, кто она и зачем сюда пришла? И вдруг замечает мусорную корзинку, набитую доверху. Анна полна решимости ее не заметить – но злокозненная привычка (вкупе с добросовестностью, составляющей основу ее характера) побуждает достать из кармана черный пластиковый мешок, и, пока Анна перекладывает из корзинки в мешок скопившийся за вчерашний день бумажный мусор, она успевает осознать, что своим необдуманным решением ставит под удар благополучие собственной семьи. Не говоря уже о том, что столь скороспелого решения ее мамочка никак не одобрит.
Не прерывая оживленного разговора, секретарша отъезжает назад в кресле. Услышав скрежет колесиков, Анна вздрагивает. И окончательно приходит в себя – с отчетливым чувством, будто она только что, буквально минуту назад, стояла на краю пропасти. И лишь чудом спаслась.
Она подает секретарше знак, что сейчас вернется, торопливо выходит из приемной – коря себя за то, что пошла на поводу у своих поперечных желаний. Нет бы прислушаться к голосу разума. Или к мамочкиному голосу. Что, впрочем, одно и то же.
Полная искреннего, неподдельного раскаяния, она возвращается к себе в подсобку, выкатывает в коридор пылесос, но вместо того чтобы отправиться назад, в приемную начальника, открывает ближайшую дверь с табличкой «Бухгалтерия» – и оказывается в эпицентре яростного спора.
– Ах, не понимаете! Прямое нарушение международных законов – вот что это такое! Думаете, сойдет нам с рук?
– Руки, уважаемая Виктория Францевна, вовсе ни при чем. Есть результаты референдума!
– Не смешите меня! Не референдума, а имитации референдума!
– А Шестой флот! А американская база в Севастополе! Тоже, скажете, имитации?!
Замешкавшись в дверях, Анна пытается понять, о чем они с утра пораньше спорят, – тем более так, с громом и молниями. По счастью, их мечет не начальник, а главбух Виктория Францевна и ее молодой, но подающий надежды заместитель Василий.
– Ну пошло-поехало! – Виктория Францевна кривится. – Про фашистскую хунту не забудьте!
– Не беспокойтесь, не забуду! Все вам припомню!
– Интересно знать, кому это нам?!
– Кому?! Либералам, вашим единомышленникам!
Анна морщится: «Опять про политику. Делать им больше нечего. Чем спорить, лучше бы работали. И мне не мешали!»
Придя в крайнее раздражение, она шаркает по жилистым ногам главбухши жестким, как железная щетка, взглядом: «Референдум ей подавай, ишь, курица!» – включает пылесос на полную мощность; водит по полу широкой насадкой, всасывая мелкие бумажки и клочки пыли – вперемешку с клочками спора, летающими по комнате.
– В гробу я видал эти ваши международные законы!
– Не мои, Васенька, общие!
Анна думает: «Откуда берется столько пыли? Каждый день убираю, а все равно копится…»
– Не понимаю! Что значит «общие»?!
– А то и значит, что нельзя нарушать!
Держа палец на кнопке пылесоса, Анна чувствует нарастающее желание высказаться. Не про базы или американский флот, до которых ей нет никакого дела. А по вопросу о нарушении.
Спроси ее кто-нибудь прямо: можно или нельзя нарушать законы? – она бы ответила: нельзя. Но про себя бы подумала: иногда можно. Если закон противоречит справедливости. Справедливость выше закона. Но в том-то и дело, что ее никто не спрашивает. Для людей, за которыми Анна убирает, она – невидимка, приложение к пылесосу, ведрам и тряпкам.
Впрочем, сегодня ей не хочется думать о плохом. Она торопится домой, чтобы прямо с порога обрадовать мамочку. С этой волнующей мыслью Анна заканчивает уборку, закатывает пылесос обратно в подсобку, развешивает по батареям мокрые тряпки – и выходит на улицу, стараясь не обращать внимания на обрывки неприятного спора, которые, как пыль под батареей, собрались у нее в голове.
У пешеходного перехода Анна ждет, пока загорится зеленый человечек, ступает на проезжую часть – и тут откуда ни возьмись прямо ей наперерез выскакивает машина и, чуть не сбив ее с ног торчащим из бокового окна трехцветным российским флагом, мчится на красный свет.
Анна – не иначе каким-то чудом – успевает отшатнуться. Она поправляет съехавшую на лоб шапочку и в тот же миг забывает и о секретарше, и о яростных спорщиках – их всех будто сдуло мощным потоком воздуха заодно с клочками и обрывками спора, от которого остается одно-единственное слово: «нарушение»; и пока Анна идет к метро, оно вертится у нее в голове, как пластмассовый шарик в игрушечном лабиринте. Понадобилось спуститься под землю и проехать пару остановок, чтобы шарик упал наконец в лунку, – и Анна обнаружила себя не в душном вагоне, а в своем собственном (казалось, давно забытом) прошлом.
К ее изумлению, там все осталось по-прежнему: и государственные экзамены, и распределение – обидное: не в математическую школу, как у Мишки Вербловского, а в самую что ни на есть простую – только и радости, что пять минут от дома. Не на общественном транспорте, пешком.
К тому же, как вскоре выяснилось, на птичьих правах: под грядущее в конце августа увольнение Саломеи Марковны. Но та увольняться передумала. Объявила, что остается. Тогда, пригласив Анну к себе в кабинет, директриса предложила ей временно – «Я подчеркиваю, временно» – согласиться на младшие классы, хотя и признала, что это прямое нарушение Трудового кодекса (в части прав и обязанностей молодого специалиста, выпускника педагогического вуза, направленного по месту работы по распределению). «Но если вы, Аннушка Петровна, дадите свое добровольное согласие, я уж как-нибудь договорюсь с роно. – А потом, глядя ей в глаза, добавила: – Придет день, и вы окажетесь в том же положении… – директриса запнулась, – в смысле, перед пенсией, хотя вам-то…» – и махнула рукой куда-то вдаль, будто речь не о времени, а о дороге, по какой Анне, молодому специалисту, еще идти и идти. (Тогда дорога и впрямь казалась длинной. Вернее, бесконечной. Теперь, оглядываясь назад, – нет.)
Словом, так и получилось, что первым шагом на этой дороге стало нарушение – и дело даже не в нарушении, на которое Анна дала хотя и вынужденное, но добровольное согласие, а в том, что месяца через два (в школьном коллективе секреты живут недолго), перед самыми ноябрьскими праздниками, выяснилось, что Саломея осталась не ради себя, а ради дочери с зятем: те не то в августе, не то в сентябре подали заявление на ПМЖ в Израиль, но вместо того чтобы спокойно доработать, «они, видите ли, уволились – сели матери на шею», – так, сочувствуя Саломее Марковне, говорила Зинаида Васильевна, химичка, с которой Саломея делилась своими семейными проблемами как с самой близкой подругой, а та в свою очередь делилась с коллективом. Зинаида же и объяснила Анне, что ей, говоря объективно, пришлось поступиться своим законным местом не ради пожилой женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а ради каких-то неизвестных лентяев. Химичка называла их трутнями.
Сама Анна об этом не подумала, но после Зинаидиных объяснений стала смотреть на все иначе: как на обидную историю, в которой обе, и директриса, и Саломея Марковна, воспользовались ее молодостью и неопытностью, – а с другой стороны, не идти же за справедливостью в роно.
Тем более что работа с младшими классами ей неожиданно понравилось, к детям она привязалась, трудилась честно, как в те годы говорили, с отдачей, и даже потом, когда Саломея Марковна наконец уволилась и отбыла с семьей в Израиль, Анна своих «первенцев» не бросила, довела до пятого класса, хотя другая на ее месте наверняка бы воспользовалась своими законными правами (у предметников и часов меньше, и ставка – не сравнить с начальными классами, плюс доплата за классное руководство, не много, а все равно прибавка к зарплате), – однако Анна на это не пошла, не поставила личное выше общественного.
Впрочем, четыре года пролетели незаметно. Но не для директрисы – Валентина Дмитриевна прекрасно все заметила, а главное, Аннину порядочность, и потом много лет ее «благодарила» – предоставляла удобное, без лишних «окон», расписание, да и просто, по-человечески, старалась по возможности идти навстречу, будто хотела, чтобы Анна сделала правильный вывод: бывает так, что несправедливость пусть не сразу, а со временем приводит к справедливости.
И в другом, деликатном, отношении директриса всегда ее поддерживала. И в те времена, когда Анна, как принято говорить, сидела в девках («Не смешите меня, ну какие ваши годы!»), и потом, когда Анна в свои тридцать пять родила без мужа, Валентина Дмитриевна не лезла к ней в душу, просто обняла и сказала: «Вы, Аннушка, счастливая женщина… Я вот, ох, как жалею! В свое время не решилась: люди, начальство, коллектив…» – с намеком на то, что в прежние годы на матерей-одиночек смотрели косо. Тогда – но не теперь.
Что и говорить, директриса детей любила. Анна тоже детей любила. Всех, никого при этом не выделяя (справедливость по отношению к каждому ребенку – основа основ педагогической деятельности). Но только родив Павлика, она поняла: никакой учительской любви не сравниться с этим, всепоглощающим, день и ночь настороже, щемящим чувством, которое она назвала бы материнским – если бы перед глазами не стоял другой пример: ее собственная мать.
С отчуждением, временами накатывающим на мать, Анна так и не свыклась. Холодные, будто остановившиеся глаза; жила – кажется, яремная, вспухающая на шее. Анна знала, что за этим последует. С той же тщательностью, с какой в обычные дни мамочка пережевывает пищу, она будет пережевывать подробности чьих-то неизвестных Анне жизней: кто на ком женился или развелся, отсудив чужую жилплощадь, хотя этот кто-то и раньше ловчил и подличал. Вырастая среди призраков, которых мамочка черпала из своей еще довоенной памяти, Анна мало-помалу догадалась, что эти грозные вспышки объясняются не ее дочерним своеволием, непокорством или, того хуже, ленью. А тем, что ее мать – что-то вроде живого магнита, притягивающего плохих людей.
Быть может, в пику матери сама Анна если и замечала в знакомых людях что-то не вполне приглядное, предпочитала рисовать их светлыми красками – словно тянула одеяло справедливости в противоположную от матери сторону, туда, где человек не сводится к его действиям и поступкам, пусть даже плохим.
Голос против голоса – верный способ прекратить злое карканье. Выслушав Анну, мать едко усмехалась. Но шейная жила потихонечку светлела, а потом и вовсе уходила под кожу – до другого раза, когда, точно обо что-то споткнувшись, мать призовет из глубин памяти своих знакомых призраков, чтобы перебирать и взвешивать их неприглядные дела и поступки, укрепляя дряхлеющую плоть моральными доказательствами заслуженности их судьбы.
С годами такие – призрачные – периоды становились всё продолжительней. Ко времени, когда Анна закончила школу, они включали в свою орбиту не только умерших, но и живых людей – с которыми мамочка не была знакома, а значит, говоря об этих людях, не могла рассчитывать на память. Но это ее не останавливало. Теперь – словно перепутав внешний вид с моральным обликом – мамочка полагалась на глаза: теша недобрый нрав, она рекрутировала своих недругов из телевизора (тогда еще старого советского «Рекорда»), и, возвращаясь из института, Анна уже не удивлялась странным (на чужой взгляд) вопросам: «Как фамилия – ну этой, карлицы?» – и если Анна пыталась возразить: «Почему сразу карлицы? Просто невысокого роста…» – мать окорачивала ее противным вороньим карканьем: «Карлицы, карлицы. К тому же долгоносой».
Сосредоточиться на внешности какого-нибудь актера или актрисы, чью фамилию она никак не могла вспомнить, но и оставить так не могла – эта странная привычка понуждала ее бродить по комнатам, хмурясь, кусая сухие, точно вырезанные из пергамента губы, – и, кажется, сто раз уже зарекшись, Анна наконец не выдерживала: «Ну где она, эта твоя карлица, снималась?» – и мать, тут ей память не изменяла, начинала перечислять названия фильмов, и на третьем-четвертом фамилию вспоминала, и, успокоившись, продолжала жить и властвовать как ни в чем не бывало.
Плохо то, что в памяти Анны каждый такой случай оставлял недобрый след. Теперь, узрев эту самую актрису на экране, она видела не актерский талант и даже не женские, пускай и сомнительные стати, а злосчастную долгоносость – словно мать, спасаясь от провалов собственной памяти, переводила фокус ее, Анниного, зрения. Из доброго в злой.
Когда в доме поселился новый «Филипс», Анна всерьез опасалась, что теперь, с его-то десятью или сколько там программами, по которым крутят бесконечные мексиканские сериалы, мать утратит последнюю связь с реальностью. Но та, напротив, как-то стихла.
Впрочем, вскоре выяснилось, что латиноамериканские страсти ни при чем, виновата прогрессирующая катаракта; эта болезнь – как Анне объяснил врач – на первых порах затемняет краски, одновременно сужая поля зрения; со временем, если не принять неотложных мер, это может привести к полной слепоте. В качестве такой меры он рекомендовал операцию в институте офтальмологии – «Удовольствие, конечно, не дешевое, но, думаю, потянете». Анна готова была тянуть, вернее, затягивать пояс – но мать отказалась категорически: дескать, где ж такое видано, чтобы ножом глаза резали.
– Да не будут они резать… Пинцетиком подцепят – снимут, как сухие корочки…
– Знаю я их пинцеты! Оставь меня в покое. Отвяжись! – Будто надеясь посрамить прогрессирующую болезнь своим упрямством и несгибаемой волей, мать садилась перед телевизором, но по тому, как, уставясь в одну точку, она внимательно и напряженно вслушивается, Анна понимала: время слепоты настает.
Сперва ей представлялось, будто счет идет на месяцы. Но оказалось, мир в материнских глазах меркнет медленно, и к этому новому меркнущему миру мамочка успела приспособиться: теперь, бродя по квартире, она держала руки врастопырку; мало того, шевелила пальцами – словно ощупывала пространство квартиры, в котором заперта, как птица в клетке.
Для Анны эти растопыренные руки стали завершением птичьего образа – и все-таки она изумилась, когда Наталья (ее сослуживица, учительница русского языка и литературы, – в те времена Анна, случалось, приглашала ее в гости: обсудить школьные дела да и просто поболтать), глядя вслед матери и, видно, перепутав слепоту с глухотой, сказала довольно громко: «Твоя мама похожа на птицу с поломанными крыльями».
Анна чуть было не спросила: почему с поломанными? Но, прислушавшись и не услышав материнского шарканья, свернула опасный разговор.
Тем же вечером – Наталья давно ушла – мать явилась, шаркая как-то особенно грозно. «Ну все, сейчас начнется…» – готовясь отразить воронью атаку, Анна привычно съежилась. Но вопреки дочерним ожиданиям мать заговорила нормальным человеческим голосом: «Твоя приятельница кажется мне разумной». Говоря о Наталье, мать избегала слова «подруга», словно заранее знала, что их дружба – дело ненадежное; и этим сдержанным словом указывала путь отстпления на случай, когда то, что ее дочь именует «дружбой», себя изживет.
Сама Анна в такой исход не верила и, стремясь доказать материнскую неправду, охотно поддерживала «доверительные» разговоры – вернее, выслушивала Наташины жалобы: на родителей, на деда с бабкой, которые с утра до вечера скандалят, причем по самым нелепым поводам: «Вчера, прикинь, бабка холодильник оттаивала, выкинула помидоры. Гнилые, с пятнами. А мать хотела их в суп. И – понеслось! До ночи лаялись, пока соседи по башке не настучали…» – «Кому?» – «Не кому, а по батарее». – «А потом? Помирились?» – «Помирятся они – жди! В детстве, – Наталья усмехнулась, – я думала, у всех так. А потом поняла: нет. Вы вот мирно живете, не ругаетесь…»
Анна не нашлась с ответом. Разве скажешь: «Уж лучше бы ругались…»
В представлении Натальи идеальная семейная жизнь выглядела так: мать с самого младенчества заботится о ребенке, кормит, одевает, следит за уроками; бабушка и дедушка ей дружно помогают; отец работает, обеспечивает семью материально, но потом, когда ребенок вырастает, именно отец дает ему путевку в жизнь. Другими словами, ставит на крыло. И хотя ее нынешняя семья была далека от воображаемого идеала, Анна с подругой соглашалась. В надежде, что, когда она сама выйдет замуж, ее собственная семья станет ровно такой.
К сегодняшнему дню животрепещущий вопрос – подслушала или не подслушала? – снялся сам собой: начать с того, что их дружба с Натальей давным-давно расклеилась; да и мамочка еле ходит – через силу, лишь бы дойти.
Теперь, когда Анна прислушивается к шаркающим шагам, ей представляется, будто мамочка бредет какой-то лесной дорогой, спотыкаясь о корни. Временами она даже слышит хруст песка – такой явственный, что, дождавшись, когда мамочка скроется у себя в комнате, Анна берется за швабру и, что самое удивительное, наметает изрядную горочку. Понятно, что песок наносят с улицы (раньше солью посыпали, нынче новая мода – песком; да и Павлик – вечно ноги не вытирает), но Анне все равно чудится, будто песок наносит мать – и не в переносном каком-нибудь смысле: дескать, старуха, песок из нее сыпется, – а в самом что ни есть прямом.
Эту пустую дорогу Анна не раз видела во сне, но во сне этой дорогой идет не мать, а она сама. Замирая и прислушиваясь. Лес отвечает ей сумрачным молчанием, будто грозит завести в такую непролазную чащобу, из которой уже никогда не выберешься, сколько ни кричи.
Она совсем было отчаивается. И тут в просвете между деревьев открывается пустошь. Анна всходит на пригорок, поросший низким кустарником. И слышит какие-то стоны вперемежку с хриплыми уханьями. Приглядевшись, она понимает, что так, с нутряными хрипами, орудуют дровосеки.
Но ужас, обуявший ее во сне, был не в том, что деревья падают (они и не падали, а лежали высокими скрипучими штабелями – этот натужный скрип она и приняла за стон), а в том, что на этой призрачной пустоши все было не так.
Ни пней, ни корней, ни опавшей хвои – одна голая земля, иссеченная глубокими змеящимися трещинами; земля без верхнего дернового слоя, будто присыпанная серым, чем-то вроде цементного порошка.
Эта пепельная пустошь являлась ей и потом (голых, обескоренных стволов становилось все больше и больше), но уже никогда ее сон не достигал той гравюрной четкости, как в тот, самый первый раз, когда, проснувшись в холодном поту, она кинулась в ванну, под горячий душ, чтобы смыть с себя весь этот ужас, забыв, что, услышав шум воды в неурочное время, мамочка проснется, закричит: «Протечка! Протечка!» – и, если ее не успокоить, будет бродить по квартире, щелкать собачками выключателей, будто надеясь застать врасплох злоумышляющую стихию.
Анна знает: ее мать панически боится вышедшей из-под контроля воды. Почему именно воды, а не огня? – но факт остается фактом: однажды – не то в конце девяностых, не то в начале двухтысячных – от свечи на подоконнике загорелась кухонная занавеска (новые русские, скупавшие квартиры у них в доме, навезли стиральных машин, микроволновок и прочих энергоемких приборов, и покуда им не поменяли электрический щит и старую проводку во всех парадных, приходилось держать наготове запас свечей). Анна кинулась звонить по «01», но пока она срывающимся от испуга голосом диктовала адрес, мать преспокойно влезла на стул, сдернула полыхающую занавеску вместе с карнизом, затоптала остатки пламени и ушла к себе, предоставив дочери разбираться с черными пятнами и запахом гари, тошнотворным – хуже только сбежавшее молоко…
Помянув сбежавшее молоко, Анна вспоминает, что молока-то она и не купила. Мамочка наверняка уже проснулась и, хотя сама молоко не пьет, все равно спросит. И рассердится, будто это вопрос жизни и смерти, как в ужасном девяносто втором, когда родился Павлик и у Анны, так толком и не придя, перегорело молоко.
За молоком пришлось бы идти обратно на Московский, но Анна решает не возвращаться, понадеявшись, что ошеломляющая новость, которую она принесет матери, станет оправданием ее забывчивости.
– Мамочка, я тут, я пришла!
Так повелось с детства: мать неизменно требовала, чтобы дочь именовала ее мамочкой. Анна помнит: сперва это было нелегко; со временем слово обкаталось, прилипло к языку.
Прислушиваясь к материнскому молчанию (которое могло иметь самые разные оттенки), она вошла в комнату и прямо с порога – слово в слово, как срочную телеграмму, – передала то, что узнала от охранника, и теперь ждала, что мамочка этому обрадуется, но та переспросила слабым со сна голосом:
– Наш? А был чей?
– Раньше, мамочка, Крым входил в состав Украины…
– А Украина?
– Украина не наша.
Оторвав голову от подушки, мать остановила на дочери полуслепые, затянутые беловатыми пленками глаза.
– А который теперь год?
– Четырнадцатый, мамочка…
– Не пори ерунды, – мать фыркнула презрительно. – По-твоему – что? – я не родилась?
– Ты, мамочка, родилась… – Анна подумала: «И даже состарилась». – Ну давай, вставай потихонечку, сейчас мы с тобой умоемся, зубки твои наденем…
Раздраженно махнув на нее рукой, мать откинулась на подушку, будто презрение, которым она обдала непонятливую дочь, отняло у нее остаток сил.
Минут через десять, когда Анна, заварив овсяную кашу – «Вчера манка, сегодня пускай овсянка», – возвратилась в комнату, мать так и не соизволила подняться. Лежала, разглядывала свои руки, сморщенные, похожие на куриные лапы. Анна подошла к кровати – хотела поправить подушку, но мать досадливо дрыгнула ногой и каркнула сварливым голосом:
– Детский крем мне принеси.
– Детский крем в ванной, давай мы сперва встанем, оденемся…
– Я сказала принеси.
Анна вздохнула, но, решив не прекословить – стоит вступить в этот лабиринт, до вечера не выберешься, – сходила и принесла; переложила кашу в чугунок, – в чугунине дольше не остывает, – накрыла чистым вафельным полотенцем и, машинально прощупав содержимое сумки: кошелек, телефон, карточка, пестрый икеевский мешок (этих, пластиковых, не напокупаешься), – объявила громко, через дверь:
– Мамочка, я ушла. Каша под полотенцем, пультик на кресле… – И, так и не определив оттенка ответившего ей молчания, направилась в прихожую, по пути раздумывая, не заглянуть ли к сыну. Ладно, пускай поспит, опять всю ночь за компьютером – манера, которую она как мать не одобряет: где это видано, чтобы по ночам бегать по клавишам, а днем спать.
Но его разве урезонишь! Послушает, дернет плечом – и за свое.
Было время, когда Анна на этот счет переживала. С годами привыкла к тому, что сын словно бы живет на другой планете. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что на этой планете еще и зарабатывают. Притом немалые деньги. Как-то раз, пару месяцев назад, Павлик сказал: «Завязывала бы ты со своей уборкой. Сколько там – тридцатник? Ну дам я тебе».
Сейчас, спускаясь по лестнице, Анна думает: «Может, зря я отказалась…» С другой стороны, уволиться просто. Хочешь – увольняйся, удерживать никто не будет. На место уборщицы полно желающих. А потом? Мало ли как жизнь повернется – мамочку в больницу положить, да и сама в таком возрасте, когда приходят всяческие болячки; врачи, лекарства… Этой стороны жизни Павлик не знает, да и рано ему знать. Все равно приятно, когда сын тебя жалеет.
Не то что мать. Говорит, женщина должна работать. Покуда ноги носят. Я, говорит, всегда работала. Сколько она там работала! Стажа – кот наплакал, если бы не блокадная надбавка, пришлось бы вещи продавать. «Хотя, – Анна дает волю свой давней обиде, – можно было и раньше продать, ведь как бедствовали: белый хлеб – и тот лакомство, и в школу черт-те в чем ходила, у других девочек нарядные туфельки, а у меня тапки…»
Вещами мамочка называет их домашнюю коллекцию. Старинные картины, мебель красного дерева, хрустальные люстры, столовое серебро и все прочее, в чем мать души не чает. «Скорее с голоду умрет, чем с ними расстанется. Держится за них, как черт за грешную душу. Пыль вытереть – и то не позволяет. Не трогай, кричит, я сама! Где уж там – сама… По комнате еле ходит. И с головой не в порядке», – Анна вспоминает сегодняшний разговор, когда мамочка спрашивала, который теперь год. Участковая называет это мозговыми явлениями, которые имеют тенденцию заканчиваться плохо. В лучшем случае помрачением. В худшем – реактивными состояниями. Но это, говорит, не ваш случай. Мамаша у вас тихая, спокойная. И сердечко у нее слабое, аритмийка наблюдается. Так что давайте, говорит, надеяться, что до эксцессов не дойдет.
Анна утешает себя тем, что сбои с памятью случались и прежде: смотрит, бывало, на внука и спрашивает: «А это кто?» Или тот, прошлогодний, случай, когда мамочка не узнала бронзовую лампу с ангелом: «Не наше. Убери». Хорошо хоть Павлик не обижается. Другой бы на его месте разозлился, а Павлик знай посмеивается: «Оставь, – говорит, – бабку, не видишь, что ли, она тебя троллит…» На языке сына это означает: нарочно злит. Издевается.
Вот непонятно – за что?
За этими мыслями, похожими на застарелые обиды (сегодня к ним добавилась свежая: «А я-то торопилась, думала ее обрадовать, а она – крем мне принеси»), Анна не заметила, как дошла до парикмахерской и даже успела переодеться.
Сунув в карман рабочего халата резиновые перчатки, она вышла в зал и направилась в дальний угол – к пластиковому ведру, куда девушки-мастерицы, заметая после клиентов, бросают волосы (здесь, в парикмахерской, где Анна работает на полставки, она пожала другую стойкую привычку: начинать с ведра), – и пока шла мимо кресел, прислушивалась, будто надеясь вернуть себе утреннее счастье, подточенное разговором с матерью.
Болтали о чем угодно: о краске, хорошо ли покрывает седые пряди; о собаке-пекинесе: паразит, писает в тапочки, третью пару выбрасываем; о каком-то новом фильме, – короче, обо всем, кроме главного. На мгновение Анна даже подумала: «А вдруг охранник перепутал…» – но тут из переднего зальца, где сидит хозяйкина заместительница Аделаида Ивановна (отвечает на звонки, рассчитывается с клиентами и ведет запись), грянула бравурная музыка, и мужской телевизионный голос, едва сдерживая ликование, произнес заветные слова.
Завороженная этим ликующим голосом, Анна – вмиг забыв про ведро – не заметила, как оказалась в зальце. Но ничего нового для себя не почерпнула; мелькнуло слово «референдум», потом, сменяя друг друга, замелькали счастливые лица местных жителей. Что они в точности говорили, Анна толком не расслышала – нарвалась на хозяйку, даму лет пятидесяти, которую не то чтобы побаивалась, но старалась не попадаться ей на глаза.
Эта, на Аннин вкус, вульгарная женщина (с другой стороны, вульгарная не вульгарная, а сумела организовать дело и другим работу дает) любила рассказывать о своем славном трудовом пути – от ученицы парикмахера до владелицы собственного салона, – всякий раз завершая повествование непреложным выводом: «Кто в советские времена добросовестно трудился, тот и в нынешние не пропадает, если, конечно, не дурак», – и на этом основании, видимо, прозревая «дураков» в своих подчиненных, обращалась ко всем на «ты» – без оглядки на возраст.
Вот и теперь она напустилась на Анну:
– Ну, чего встала?! Стоит – хоть дой! Сколько раз повторять, волосы сперва замети, не вози волосья по полу…
Анна хотела возразить, что нет никаких волос, девочки сами заметают, но не успела. Милостиво кивнув заместительнице, хозяйка прошествовала к себе в закуток. Как сама она его называла: в кабинет.
Анне ничего не оставалось, кроме как выполнить хозяйское распоряжение. Но, выбитая из колеи откровенной грубостью («Как коровой мною помыкает»), она забыла надеть резиновые перчатки, волосы просыпались мимо – и даже потом, когда Анна тщательно, по локоть, вымылась под краном, все равно ей казалось, будто обрезки чужих волос прилипли к коже, – брезгливое чувство, от которого бежали мурашки по спине.
Борясь с желанием почесаться – и одновременно кляня себя за слабохарактерность, – она думала: «Ну почему – так? На Варвару небось не напускаются», – имея в виду Варвару Тихоновну, которая моет соседнюю, дверь в дверь, «Кулинарию»: та как глянет на хозяйку, да как огрызнется! – и хотя работает спустя рукава, хозяйка за нее держится.
Однажды, пришлось к слову, Анна сказала: «Вы молодец, никому спуску не даете», – а Варвара: «И ты не давай. Все равны друг перед дружкой. Не нравится – пускай увольняют. Мне ихние деньги до лампочки, если что, и на пенсию проживу, а это, считай, приварок. На конфеты зарабатываю, а конфеты – кило, ну два кило, больше-то не съешь».
Вроде бы ничего такого, а осадок остался: «Будто не о себе говорит, а меня обвиняет… Хорошо ей рассуждать – ни родителей, ни детей, ни внуков, одна как перст, вот и живет для себя. – Раньше Анна бы на этом и остановилась, но сегодня – словно у нее с души сняли тяжелый амбарный замок и открыли на узенькую щелочку – вдруг подумала: – А я? Что бы я сделала, если бы могла пожить для себя?»
Удивившись нелепости вопроса, она вырвала его, как сорняк из грядки; обошла окрестные магазины, наполнила икеевский мешочек свежими продуктами (привычно прикидывая, что бы такое приготовить – сперва на обед, потом на ужин, – а что может полежать в холодильнике до завтра) – и мало-помалу составила примерное меню, из которого мамочка наверняка что-нибудь вычеркнет: опять, дескать, борщ, в прошлую субботу варила, а щи в понедельник, – во всем, что касалось еды, материна память давала фору любому календарю.
А ведь сколько раз предлагала: «Давай обсудим с вечера», – но нет, ни в какую: «В моем возрасте загадывать? Загадаю – а ночью умру».
Заранее зная, что будет дальше, но всякий раз спотыкаясь об этот камень, Анна горячо уверяла: «Ты не умрешь, мамочка!» – «А ты откуда знаешь? Ты, что ли, Бог?»
Раньше она думала, что мамочка боится не смерти как таковой, а того, что умрет и оставит без присмотра вещи. Но после прошлогоднего случая, когда та не узнала бронзовую лампу с ангелом, Анне стало казаться, что мамочка, забыв о вещах, переключилась на содержимое своего огромного, в полстены, шифоньера, куда всю жизнь складывает всяческий никому не нужный мусор: магазинные чеки, ключи от несуществующих замкв, разрозненные бусины от рассыпавшихся бус; тряпки, застиранные до полупрозрачности; бумажки, истершиеся на сгибах (в призрачной материной жизни эти клочки бумаги, пожелтевшие от времени, играют роль каких-то важных документов).
По вечерам, прислушиваясь к тихому шебуршанию в соседней комнате, Анна представляет – ясно, будто видит сквозь стекло, – как мать, выдвигая тяжелые скрипучие ящики, перебирает свои убогие сокровища, которые хранит как зеницу ока – притом что ее собственные зеницы меркнут.
Ключ от шифоньера мамочка держит при себе. В детстве Анна его видела: маленький, на длинной замызганной бечевке. Уходя из дома, мать вешала его себе на шею – как в общественной бане, где не полагается оставлять без присмотра ключи и ценные вещи; оставишь – украдут. Где она прячет его сейчас, Анна не знает, но до боли в сердце жалеет беспомощную, полуслепую старуху, которой осталась единственная радость – съесть что-нибудь вкусненькое.
Память об этой ежевечерней боли, ослабевающей в дневное время, дает ей сил безропотно сносить материнские капризы, сглатывать комки обиды и раздражения, разве что вздыхая укрдкой, когда та, даже не попробовав, выносит приговор свежесваренному супу: «Опять капуста недоварена – жесткая», – и (не принимая дочерних оправданий: «Да как же жесткая, целый час ее варила») отодвигает от себя тарелку тем вздорным жестом, от которого на чистой клеенке остаются капустные ошметки и липкие жирные следы.
«В крайнем случае дам творог. С вареньем или со сметаной, как сама захочет…» – прикидывая, что она будет делать, если мать и сегодня откажется от супа, Анна заглянула в кухню и, обнаружив нетронутый – так и стоит накрытый полотенцем – чугунок, отправилась к матери с намерением ее пожурить: «Как же так, мамочка, надо кушать, иначе совсем ослабнешь…»
Открыла дверь и обмерла. Увидев, что мать сидит в кресле перед телевизором, но не прямо – затылком к засаленной подушке, а уронив на плечо маленькую голову, локти прижаты к подлокотникам, пальцы растопырены. Не в силах ни осознать, ни сделать шаг навстречу неизбежному, Анна стоит, переводя взгляд с седого, покрытого редкими волосиками затылка на мамочкины пальцы – и снова на затылок, будто ей надо выбрать что-то одно и принять за доказательст-во смерти; мелкая дрожь, сотрясающее тело, не дает сосредоточиться – взять себя в руки, обойти высокое кресло, заглянуть матери в лицо – словно проглотить ее смерть одним огромным куском.
Непроглоченный кусок встает поперек пищевода. Анна чувствует резкую боль, судорожно сглатывает – и в тот же самый миг, будто мать только и ждала, чтобы непутевая дочь выдала себя этой непроизвольной, рефлекторной судорогой, растопыренные пальцы вздрагивают и впиваются в подлокотники, маленькая птичья голова, отлипнув от плеча, принимает вертикальное положение – мать оборачивается к дочери морщинистым, словно сдувшимся лицом.
– Ну? И кто был прав? Фашисты орудуют! Ничего! – Она грозит кому-то сухоньким, крепко сжатым кулачком. – Дайте срок, погоним фашистского зверя с нашей ридной Украины! Задавим в его проклятом логове!
От этой безумной – воистину реактивной – речи Анна слабеет и, жалко вскрикнув: «Паша, Пашенька!», бросается к сыну; пытаясь объяснить ему, моргающему со сна, метаморфозу, случившуюся в голове его бабушки, она перескакивает с пятого на десятое: то про детский крем, который бабушка потребовала сегодня утром, то про нетронутый чугунок с овсяной кашей, то про каких-то, господи прости, фашистов, якобы захвативших бабушкину «ридну Украину».
– Погоди. Чо-то я не вкуриваю… – Окончательно проснувшись, сын поддернул пижамные штаны и направился к месту событий, но, послушав бабкины речи (к ужасу Анны, там появились еще и каратели, сжигающие мирные деревни и уводящие на расстрел ни в чем не повинных жителей), нисколько не испугался, а вроде даже обрадовался.
– Сильна бабка! Патриотка. За наших топит.
– Пашенька, сынок, кого топит, ну скажи ты мне, объясни по-человечески… Может, все-таки врача вызвать?
– Ты, это… погоди с врачом. – Павлик обводит комнату уже не сонным, а наоборот, собранным взглядом.
«Вырос мальчик. Совсем мужчиной стал», – с этой утешительной мыслью Анна идет на кухню, чтобы накапать себе пустырника или валерьянки, и, пока шарит по полкам, убеждает себя в том, что с врачом и правда успеется – а вдруг, поговорив с внуком, мамочка опомнится, преодолеет реактивное состояние…
Когда Анна, проглотив двойную порцию валерьянки, возвращается в комнату, она застает мирную сцену. Мамочка как ни в чем не бывало сидит в своем кресле, Павлик – на старом, растрескавшемся от времени диване. Мамочка о чем-то ему рассказывает.
– Сперва, – говорит, – свист. Тоненький такой! Как от фугаски. Когда на крышу падает. Да что я вам, доктор, объясняю! Вы небось лучше моего знаете. Помню, что ранило, а что было дальше… Не помню…
Стоя в двух шагах от смертельно напугавшего ее кресла, Анна напряженно прислушивается. Мало-помалу она догадывается, что речь о каком-то военном госпитале, мамочке кажется, будто ее доставили сюда после ранения. И сейчас, приняв внука за доктора, она спрашивает про операцию, которую ей вроде бы уже сделали, но зрение все равно не возвратилось; на что доктор отвечает: «Не было операции», – а она: «Разве не сразу делают?» – а он: «Бывает, что не сразу». А та ему не верит: «Как же, – говорит, – не было!» – А он: «Иначе наложили бы повязку». Осторожно взяв сухое, птичье запястье, Павлик водит кончиками бабушкиных пальцев по ее сморщенному от страха и старости лицу.
И что самое удивительное, это работает: мать прямо на глазах успокаивается – и хотя Анна совершенно уверена, что ни госпиталя, ни тем более ранения никогда не было, все равно она чувствует огромное облегчение: «Пусть уж лучше так, чем все эти крики про фашистов». Что называется, меньшее из зол. Анна думает: «Должно быть, Пашенька прав – главное в таких случаях не противоречить…»
Лишь поздним вечером, отойдя от пережитого – перехода от смерти к какой-никакой, но жизни, Анна вспоминает: когда мамочка посреди разговора, прямо на полслове задремала (но не ужасно, а обыкновенно: пару раз клюнув носом, уронила голову на грудь) и она потянула сына на рукав: мол, пора, дадим покой измученной старухе – эта самая старуха открыла один глаз, затянутый беловатой пленкой, и, усмехнувшись половиной сморщенного лица, подмигнула внуку.
А он обернулся от двери и подмигнул ей в ответ.
О том, что у нее родится мальчик, Анна узнала заранее. В районной женской консультации, куда она пришла, заметив странные перебои в работе своего женского организма, ей, как старородящей, настоятельно рекомендовали пройти специальный генетический анализ (побочным результатом которого стало определение пола ее будущего ребенка), но, как потом выяснилось, небезопасный, чреватый дурными последствиями, вплоть до самопроизвольного выкидыша, – так, во всяком случае, говорили опытные, бывалые женщины, с которыми Анна, благополучно произведя на свет Павлика, оказалась в одной послеродовой палате. Поводом для разговора послужил вопиющий случай – рождение младенца-дауна, слава богу, не у них, а на соседнем отделении.
Обсуждая эту печальную новость – к ним в палату ее принесла нянечка, тетя Дуся, – матери пришли к единому мнению, которое сама же тетя Дуся и сформулировала:
– Уж лучше выкинуть здорового, чем родить и повесить себе на шею урода.
Дня через два, когда страсти улеглись, тетя Дуся огорошила их новым известием:
– Отмучилась позорница. Отказные бумаги подписала – и всё, и хвост трубой. Ищи ее свищи.
Тут матери снова заспорили. Что страшнее: отказаться от больного урода и знать, что он, кровиночка, где-то там живет и мучается, или поставить крест на своей единственной жизни, что называется, принести себя в жертву?
В этом споре тетя Дуся участия не приняла. Только сказала:
– С генетикой с этой не поймешь… Бывает, отец с матерью молодые-здоровые, а черт-те что у них родится… А бывает наоборот. Уж какие из себя возрастные, а младенцы ихние мало что здоровые, так еще и горластые. Ох, не зря, видать, говорили: генетика эта – продажная девка империализма… С прозрачным намеком на жену кооперативщика, которой муж-богатей оплатил отдельную палату, где для них, для богатеев, созданы особые условия: электрический чайник, ежедневная смена постельного белья, а подкладные и вовсе без счета, сколько потребует, столько и извольте ей выдать; плюс ко всему прочему халат – свой, собственный, махровый, а не как у бесплатных матерей – фланелевый, казенный.
Когда на пятый день, ровно накануне выписки, горластый младенец вдруг взял и умер (не иначе сестры-засранки уронили – да теперь разве дознаешься), матери, от души посочувствовав, пришли к окончательному и непреложному выводу: от судьбы деньгами не откупишься, а тем более дорогими вещами; на то-де она и судьба, что хоть в пять, хоть в десять махровых халатов разоденься – все равно тебя найдет.
Когда Анна, ошеломленная тем, что услышала, слезала с кресла, все у нее в глазах расплывалось: белые стены кабинета, плакат о вреде искусственного вскармливания (на него, стесняясь своих ответов, Анна поглядывала украдкой, пока докторша, прежде чем приступить к осмотру, заполняла ее медицинскую карточку), белая фигура за столом, которая, беззвучно шевеля губами, о чем-то ее спрашивала. Пытаясь собраться с мыслями, Анна смотрела на эти губы – точно две маленькие гусеницы, они шевелились на пригорке подбородка, пока сама Анна, путаясь в мыслях и колготках, искала, но не находила ответа на главный, вернее, единственный вопрос: что она скажет дома?..
– Отец здоров?
– Отец? Он… умер.
Докторша нахмурилась:
– От чего?
– Я… я не помню…
Гусеницы, от которых Анна не могла оторвать глаз, вытянулись в тонкую улыбку.
– Не ваш. Ваш тут ни при чем. Отец ребенка.
– Ах… да, здоров.
Но то ли ответила не слишком уверенно, то ли докторша так и так бы ей не поверила и все равно предложила бы сделать анализ (чтобы, как она деликатно выразилась, «исключить любые генетические случайности») – так или иначе, Анна свое согласие дала. Главным образом потому, что привыкла доверять врачам.
Мать – иного Анна и не ожидала – приняла известие в штыки: задыхаясь, сводя на шее пальцы, будто ее душат, кричала хриплым, срывающимся голосом:
– Не понимаешь! Ни-че-го не понимаешь!
Не найдя лучших доводов, Анна залепетала про генетический анализ. Мать не дослушала, крикнула:
– Да что он, этот твой анализ покажет!
А поскольку терять ей было нечего, Анна не стала деликатничать, сказала, как сама это поняла, прямо:
– Болезни, которые передаются по наследству.
Ее слова будто вырвали шнур ярости из штепселя – мамочка села и заплакала (никогда ни до, ни после Анна не видела свою мать плачущей) – и с этого дня больше ни о чем не спрашивала: ни про результаты анализа, ни про отца своего будущего внука.
И потом, когда Пашенька родился (на удивление легко, даже нянечка, тетя Дуся, ее похвалила: как кошка-де родила) и Анна, вызвав по телефону такси, привезла его домой, мамочка – с неделю, а то и больше – делала вид, что ее это не касается. Бегая из комнаты в кухню и обратно то за соской-пустышкой, то за баночкой для сцеживания, Анна страдала молча.
Однажды, вернувшись из магазина, она застала мать у Павликиной кроватки. Склонясь над внуком, та вглядывалась в его красноватое сморщенное личико – так внимательно и пристально, будто что-то высматривала. И Анна поняла, что мамочка своих криков не забыла: «Боится, что я урода родила».
Видно, что-то такое высмотрев, мать сказала: «Молодец. Не в вашу породу», – Анна еще долго ломала голову, пытаясь понять, что значит «ваша порода» и кто из них двоих молодец – она или сын; и от этих горьких, как хлористый кальций, мыслей молоко у нее в груди сворачивалось. Маленький Павлик заходился в крике, худел с каждым днем, хоть косточки пересчитывай, – и если бы не банки со смесью, которые выдавали в поликлинике, датские, поступившие по линии гуманитарной помощи, так бы и угас. (Теперь, глядя на здорового, чуть не на голову выше нее парня, в этот страшный исход верилось с трудом.)
Бывало, мать посмотрит на Павлика и скажет: «Что-то волосы у него темнеют»; или – еще обиднее: «Глаза – как у китайца. Раньше вроде бы пошире были». Сдерживая себя, Анна отвечала примирительно: «Дети, пока растут, меняются. Павлик сто раз еще изменится», – но мать ее перебивала: «Не пори ерунды! Что родилось, то и вырастет», – не замечая, что противоречит сама себе. Впрочем, и волосы, и глаза – это еще цветочки. Ягодки созрели потом, когда выяснилось, что Павлик левша. И тут такое полилось, хоть стой, хоть падай: и что левши эти, дескать, слабоумные, а если не слабоумные – то коварные и злые, не зря их в Средние века сжигали на кострах.
Тут уж никакое сердце не выдержит. Стыдно вспомнить, как она кричала на мать. И что самое обидное, через неделю, буквально день в день (если б раньше, предъявила бы матери, сунула ей под нос), нашла в почтовом ящике брошюрку и, полистав из любопытства, обнаружила статью, в которой автор, оперируя бесспорными историческими фактами, опровергает замшелые мамочкины предрассудки, приводит целый список великих людей – как на подбор левшей. Юлий Цезарь, Наполеон, Леонардо да Винчи, Александр Македонский…
Хорошо, что мамочка ее простила. И, надо отдать должное, смотрела за Павликом, когда Анна, отсидев в декрете неполные полгода, вернулась обратно в школу, где пропадала с утра до вечера, взяв дополнительные полставки: троих, к тому же без алиментов, на ставку не вытянуть. Тем более когда вокруг сущее безумие: утром идешь – один ценник, после работы – другой; но мамочке разве объяснишь: то ей сосиски подавай, да не абы какие, а вкусные, то курочки свежей, мол, надоели ножки Буша — нет бы о внуке позаботиться, а то не ребенку лучший кусочек, а себе. Анна так себя не ведет: самое вкусное и полезное – сыну. Вот и сейчас, открыв холодильник, она отодвигает тарелку с жареной печенью, богатой витаминами и железом, необходимым молодому организму для укрепления иммунитета и выработки красных кровяных телец, и достает пару слегка заветренных сарделек – Павлик их терпеть не может, – чтобы разжарить с остатками вчерашних макарон.
Шевеля шкворчащие макароны, она возвращается мыслями к матери: смотреть – смотрела, но гулять с внуком отказалась: дескать, сил никаких нету «кулек этот твой» носить. Так и получилось, что лет до полутора Павлик гулял на балконе, лежал в коляске, пока не приноровился садиться – расстегивать ремешки. И тут уже опасно стало. А матери хоть бы что. Уперлась – ни в какую, пока «своими ногами не пойдет».
Своими – значит, крепкими. На молочных смесях не очень-то окрепнешь – и хотя пошел он сравнительно рано, но «своими ногами» лет с пяти. С этих пор мамочка с ним уже гуляла, но не в парке Победы – ведь, казалось бы, от дома рукой подать, – а на дальнем пустыре, проплешине между сталинскими домами. В брежневские годы ее грозились застроить, да так и не собрались.
В редкие дни, когда Анна не пропадала на работе, она, стоя у кухонного окна, наблюдала, как маленький Павлик тянет бабушку за руку, надеясь затащить ее в парк, где играют дети, а потом, понурив голову, идет за ней к пустырю, где нет ни песочницы, ни детей, ни качелей.
Со временем привык – больше не тянул. Даже отказывался, если Анна, гуляя с ним в свой единственный выходной, предлагала: «А давай пройдемся по парку», – супился и глядел исподлобья: «Не. Не пойдемся. Баба не велит».
Спросишь: почему? – молчит.
И добро был бы послушным мальчиком – так нет. Стоило бабке, перенося свой материнский опыт на внука, стукнуть кулаком по столу: «Поел – марш к себе», – он, вскинув голову и выпятив подбородок, шипел ей в лицо: «С-сама малс-с, з-злая матиха!»
Понятно, что не сам придумал, а почерпнул из сказок – но ведь и вправду уходила: сгорбившись, шаркая войлочными тапками. И Анна, если оказывалась свидетелем, строго, по-учительски, выговаривала сыну: «Нельзя так разговаривать с бабушкой», – а сама, глядя матери вслед, ее нисколько не жалела, чувствуя себя отмщенной за свои детские горькие вечера.
Против тех вечеров, пахнувших ее сухой кожей (пока не научилась читать, она сидела у себя в комнате, положив голову на руки), Анна восставала, читая ребенку вслух.
Наряду со сказками в круг ежевечернего чтения входили стихи – сначала детские из книжек с цветными картинками; когда сын немного подрос, пришла пора настоящих, из потрепанного, с пожелтелыми страницами сборника, который Анна получила в подарок в тот далекий счастливый день, когда ее, одну из первых в классе, приняли в пионеры: Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя, – и еще одно, от которого растапливались ее сухие ладони: Я стреляю – и нет справедливости справедливее пули моей! – этот жар ей хотелось передать сыну.
В такие минуты Анне представлялось, будто она и сын – единое целое.
Однажды, мотнув головой, сын прервал ее взволнованное чтение:
– Неправильно читаешь. Дай. Я сам.
На том и завершилось. Сам Павлик не читал.
Пытаясь пробудить интерес ребенка к военной тематике, Анна приносила из школьной библиотеки книжки про пионеров-героев, которыми зачитывалась в детстве (воображая себя то Зиной Портновой, юной партизанкой, опознанной предателем; то Галей Комлевой, разведчицей, снабжавшей партизан всякими важными сведениями; то Ниной Куковеровой, разбрасывающей советские листовки в оккупированном врагами родном селе), – но все эти мальчики и девочки оставляли Павлика равнодушным.
Равно как и Аннины воспоминания о том, как ее вместе с классом водили к стоматологу и она, терпя невыносимую боль, представляла себя советским партизаном-подпольщиком, над которым глумятся проклятые фашисты: высверливают здоровые зубы.
Выслушав ее рассказ, сын пожал плечами:
– Не могла, что ли, им сказать, пусть бы заморозили.
Но это бы еще ничего. Куда больше тревожило другое.
Быть может, сказались прогулки на пустыре один на один с бабкой или она, как мать, что-то в его воспитании упустила – но Павлик так и не научился заводить друзей. Пока другие дети бесились на переменках, стоял, прислонясь к стене, чертил в коленкоровом блокноте (картонных обложек Павлик не признавал сызмала: словно предчувствовал появление планшетов, запаянных в плас-тик). По опыту работы в младших классах Анна знала о детях-изгоях, которых одноклассники жестоко и самозабвенно травят, и боялась за сына. Но оказалось, ее мальчик умеет постоять за себя.
Однажды (сама Анна этого не видела), когда кто-то из задир, рисуясь перед другими мальчишками, толкнул его намеренно и больно, Павлик, подняв глаза от блокнота, смерил обидчика таким ледяным взглядом, что тот даже попятился. (Географичка, свидетельница этой сцены, описывала ее так: «Ты, Ань, не представляешь – прям холодом повеяло, чисто Северный полюс».)
Наглядного урока, какой сын – в свои восемь лет – преподал одноклассникам, хватило класса до шестого. Все эти годы – как ни больно в этом признаваться – дети его чурались, и, страдая, что ни Павлик не ходит на дни рождения, ни детей к себе не зовет, Анна, по наитию, словно что-то ее толк-нуло, купила сыну компьютер, да не старенький, с вислозадым монитором, а самой последней модели – выложив кучу денег, которую собрала тайком от матери, взяв (опять-таки втайне) еще одну ставку – уборщицы в офисе, куда ее приняли без записи в трудовой книжке. Однако зарплату – серую, «в конверте», но вполне сопоставимую со школьными заработками – платили исправно и без сбоев; накопив искомую сумму, Анна из офиса ушла. Этот недолгий опыт пригодился ей много позже, по выходе на пенсию, когда, помыкавшись от безденежья, она устроилась уборщицей на постоянной основе: после покупки дорогого компьютера у нее не осталось предрассудков, которые пришлось бы преодолевать.
Еще в компьютерном магазине, выслушав объяснения продавца-консультанта, в которых сама она – даром что дипломированный математик – не поняла ни слова, Анна, объяснив, что покупает это чудо техники не для себя, а в подарок тринадцатилетнему сыну, договорилась о частных занятиях – пусть консультант придет и все как следует расскажет; даже взяла у него номер телефона. Но сторонней помощи не потребовалось. Получив в свое распоряжение картонные коробки, сын распатронил пластиковые, запаянные намертво пакеты, отрешенно улыбаясь, рассовал концы шнуров по правильным гнездам, нажал на кнопку и как ни в чем не бывало уселся за компьютер – будто так и родился: с мышью в левой руке.