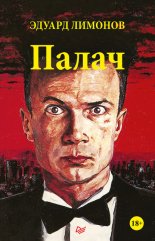Не забывай меня, любимый! Туманова Анастасия

Тёплым майским вечером 1917 года в трактире станицы Черномызской Ростовской губернии шла крупная карточная игра. Весь большой зал трактира был забит офицерами полка Второй Конной дивизии, который накануне расположился возле станицы. В окна просовывались чубатые казачьи головы, никто давно не пил и не ел, и сам хозяин, бросив ценные бутылки с местным вином без присмотра, бродил вокруг сгрудившейся у стола толпы, безуспешно пытаясь заглянуть поверх голов.
Игра шла уже несколько часов. За длинным некрашеным, в пятнах от пролитого вина столом сражались двое. Штабс-капитан Авалов, первый картёжник батареи, невысокий загорелый человек, казался невозмутимым, хотя проигрывал уже второй час. Его противник, цыган лет тридцати, чёрный, как жук, с острыми «голодными» скулами, покрытыми густой щетиной, играл успешно. Возле него на столе уже лежали смятые ассигнации, пятисотрублевый романовский билет, золотая цепочка с медальоном и часы Авалова, и узкие, сощуренные глаза цыгана блестели из-под падающих на лоб волос запальной искрой.
У дверей трактира, сидя на грязных, затоптанных половицах, ожидали двое. Один был парнишка лет семнадцати, в линялой голубой рубахе, взъерошенный, смуглый до черноты. Он озабоченно поглядывал на сгрудившихся около стола офицеров и казаков, вытягивал длинную шею, стараясь хоть что-то рассмотреть, но это ему не удавалось. Несколько раз парень порывисто вскакивал, намереваясь подойти ближе, но сидящая рядом молодая цыганка удерживала его за руку.
Девушка, в отличие от парня, казалась совершенно безмятежной; её большеротое, забавное, очень живое, коричневое от загара и природной смуглости личико усиленно выражало скуку и усталость, но из-под мохнатых ресниц то и дело вымётывался острый, пронзительный взгляд.
– Да со ёв кэрэла, авэла, чеинэ тэ лэс ловэ да уджас!..[1] – не выдержал, приподнимаясь, мальчишка.
– Бэш, бэш…[2] – сердитым шёпотом осадила его цыганка. Несколько лиц повернулись к ним. Девчонка тут же снова скроила безразличную гримасу, ленивым движением смахнула выбежавшую из-под платка на лоб струйку пота и, поднявшись, отправилась во двор, где привязанные к коновязям стояли лошади.
Цыганский табор пришёл в Черномызскую на следующий день после того, как в ней расположился полк, – к дикому восторгу военных, начиная от полковника и кончая последним денщиком. В таборе оказалось несколько молодых девчонок, готовых за небольшую плату спеть и сплясать для господ офицеров; цыганки постарше, в вылинявших кофтах и цветастых юбках, обвешанные крикливой детворой, шныряли по домам, предлагая погадать. Их услугами охотно пользовались: шёл третий год войны, которая изрядно всем надоела, было интересно, когда же наконец кончится это мучение, а поскольку от начальства вразумительных объяснений не поступало давным-давно, то уставшим солдатам годились и цыганские обещания скорого конца «всей этой глупости с немчурой». Мужчины же цыгане не отходили от лошадей полка, любовно подобранных по гнедой и рыжей масти, сильных, сытых, успевших отдохнуть от долгого перехода. Цыгане неуверенно предлагали менять скакунов, но солдаты со смехом отказывались: менять было не на что. Цыгане возвращались с ярмарки в Новочеркасске, где успешно продали всех мало-мальски годных лошадей, и теперь единственным на весь табор пристойным конём оставался высокий чубарый жеребец невероятной красоты, принадлежавший Митьке по прозвищу Мардо.
Сам Митька сейчас сидел за столом трактира напротив штабс-капитана Авалова с веером мятых карт в руках, и весь офицерский состав, сгрудившийся вокруг, не спускал глаз с рук цыгана: его везучесть казалась подозрительной, да и испорченная шрамами физиономия была абсолютно разбойничья. Но Мардо, похоже, играл честно.
– Авалов, остановитесь, – наклонившись к штабс-капитану, тихо сказал молодой ротмистр. – Успокойтесь, это безумие. Вспомните, что с вами было в Житомире, повторяется та же история… Придите в себя, ещё не поздно закончить… Посмотрите на его морду, это же бандит! Нашли с кем садиться играть, право!..
– Стадницкий, подите прочь, – без всякого выражения ответил штабс-капитан. – Первый раз в жизни вижу цыгана, понимающего в серьёзной игре, не лишайте меня удовольствия.
И в этот миг Мардо выложил каре из королей. Зрители взвыли, казаки заорали от восхищения, мальчишка-цыган и цыганка у дверей обнялись.
– Всё, барин, или ещё изволите? – с величайшим почтением осведомился Мардо, подгребая к себе ворох ассигнаций.
– Боюсь, брат, что на этот раз всё, – сухо, ничем не показывая своего разочарования, проговорил Авалов. Ротмистр Стадницкий облегчённо вздохнул… и тут же отвернулся с досадой, пробормотав: «Идиот…»: штабс-капитан снял с пояса револьвер.
– Впрочем, нет. Ещё раз, на все! Ставлю оружие!
– Авалов, вы с ума сошли! – взорвался Стадницкий. – Господа, да уймите же его, он этому чёрту через полчаса проиграет батарейные орудия и пойдёт под трибунал!
– Револьвер мой собственный, – не поворачивая головы, процедил Авалов. – А если вы, ротмистр, ещё раз позволите себе вмешаться в мою игру, я сделаю из него последний выстрел. Догадайтесь, в чью голову.
– Болван… – сердито произнёс ротмистр и отошёл в сторону.
Цыган обнажил в усмешке острые белые зубы, как мог, погасил бешеный огонь в глазах и начал сдавать.
– Успокойтесь, Стадницкий, – сочувственно сказал обиженному ротмистру светловолосый казачий сотник. – Вот увидите сейчас феномен собственными глазами: игра переломится. На моей памяти Авалов ставит этот свой револьвер шестой раз, он у него вроде талисмана, и…
– Поверьте, сотник, мне наплевать, – сухо ответил Стадницкий, достал портсигар и вышел на улицу.
Сотник между тем оказался прав: после того, как револьвер штабс-капитана лёг на стол, придавив денежные билеты, везти цыгану перестало. Довольная ухмылка пропала с его испорченного, нечистого лица, густые брови съехались на переносице в одну сплошную линию. Молодая цыганка, давно вернувшаяся в трактир, подойдя вплотную к столу (офицеры с улыбками расступились, пропуская её), наблюдала за тем, как деньги и золото перекочёвывают обратно к Авалову. Она молчала, но её блестящие, чёрные, как переспелая вишня, глаза не моргая смотрели на летающие над столом карты. Мальчишка подошёл тоже и несколько раз робко заговаривал с Мардо на своём языке, но тот отмахивался от парня как от мухи и продолжал игру, глядя на карты так, словно собирался прожечь их глазами.
– Ну вот, брат, и всё, – спокойно произнёс штабс-капитан, когда на стол трактира лёг широкий луч закатного солнца, и, аккуратно разложив по карманам деньги, поднялся из-за стола. – Спасибо за игру, ты действительно молодец. И везло тебе долго, надо было вовремя остановиться. Стадницкий, где вы там? Обижены? Ну, простите, мой милый, я во время игры утрачиваю здравый смысл, не сердитесь.
– Много чести – сердиться на вас, – буркнул Стадницкий. Офицеры пожали друг другу руки, вокруг засмеялись, заговорили… и в это время цыган, опрокинув табуретку, вскочил из-за стола.
– Ваша милость, ради бога! Ещё раз! Ради Христа, ещё раз! Один раз только!
– Боже, тебе так понравился мой револьвер? – рассмеялся Авалов. – Изволь, один раз можно, но что поставишь? Как я вижу, ты пуст…
– Пуст, барин, пуст, не слушайте его! – тревожно забормотал мальчишка, заглядывая в лицо Авалова. – Пустой, как торба рваная, идите себе с богом, с удачей вас…
– Не лезь, – тихо, с угрозой велел Мардо.
– Морэ, со кэрэса, пошун ман…[3]
– Джя яври, умарава! Дылыно![4] – зарычал сквозь зубы Мардо. Цыганка с силой дёрнула мальчишку за рукав, и тот неохотно отошёл к порогу.
– Садитесь назад, ваша милость, я коня ставлю!
– Что? Своего чубарого? – Авалов, не сводя недоверчивых глаз с лица цыгана, медленно уселся за стол. – Изволь, только смотри, обратно потом не отдам.
– Небось и не попрошу, – хрипло буркнул Мардо, хватая колоду и лихорадочно перетасовывая карты. – Цыганское слово крепкое, выиграете – будете на чубаром ездить да меня добрым словом поминать. Деньги мне не нужны, револьвер ваш ставьте!
– Мардо!!! – снова не выдержал мальчишка. – Кай тыро шэро?! Кицык мол адава железка?![5]
– Джином со кэрав, закэр муй![6] – сквозь зубы процедил Мардо, и больше парень не сказал ни слова.
Через пять минут всё было кончено: цыган проиграл. Хрипло, тяжело дыша, что-то бессвязно бормоча сквозь зубы, он уронил встрёпанную голову на стол, несколько раз ударил кулаками по некрашеной столешнице. Было видно, как его трясёт, и столпившиеся рядом офицеры смотрели на сгорбленную фигуру с жалостью. Но в это время с улицы донеслись истошные, раздирающие душу женские вопли, и офицерский состав, толкаясь, выбежал из трактира прочь.
Молодая цыганка выла в голос посреди двора, валяясь в жёлтой пыли и обхватив голову руками. Мальчишка склонился над ней с совершенно несчастным лицом. Красавец чубарый стоял спокойно, помахивал хвостом, косил влажный фиолетовый глаз на кокетливо перебирающую ногами кобылу Стадницкого, даже не подозревая о грядущих переменах в своей судьбе. Конь был явной, несомненной породы: маленькая сухая голова на изящной шее, длинное подтянутое туловище, великолепной формы тонкие ноги с точёными бабками.
Мардо, шатаясь, вышел из трактира и, обхватив руками шею чубарого, несколько раз содрогнулся всем телом. Вышедший следом Авалов сочувственно похлопал его по спине.
– Понимаю, брат… великолепная лошадь. Что ж, тебя никто не принуждал, не правда ли? Вперёд будь осторожней, серьёзная игра не любит горячки, голова должна быть ясной. Поверь, только это тебе и портит игру. А для твоего чубарого гораздо лучше будет возить кавалерийского офицера, чем таскать вашу разбитую колымагу. Этот конь не для упряжки, к тому же…
– Ай, ваше сковородие-е-е!!! – вдруг раздался пронзительный крик такой силы и надрыва, что Авалов, вздрогнув, не закончил фразы. Молодая цыганка кинулась к нему, чудом не сбив штабс-капитана с ног, и, повалившись в пыль перед ним, обхватила исцарапанными грязными руками его сапоги.
– Ваша милость! Господи! Господин генерал! Да что же это, боже мой, что же это такое! Ведь вы не знаете, не знаете, миленький… – запрокинув искажённое, залитое слезами лицо, цыганка захлебнулась рыданием.
Донельзя смущённый Авалов нагнулся к ней:
– Встань, дура, ты с ума сошла, какой я тебе генерал…
Больше сказать он ничего не успел: цыганка снова зашлась диким воем. С тополей вокруг трактира, панически каркая, сорвалась стая ворон, а несколько казачьих верховых, проезжавшие мимо, спешились и побежали во двор.
– Шо тут?
– Цыганка воет…
– Спёрла, што ль, чего? Споймали?
– Не, муж коня в карты продул…
Вокруг цыганки сгрудилась целая толпа солдат; двое или трое, присев на корточки, пытались успокоить её, но какое там… Заливаясь слезами, вцепившись обеими руками в растрёпанные косы, колотясь о землю головой, она закатывалась в истерике:
– Боже мой, барин, генера-а-а-ал… Да что ж нам делать, что же нам делать теперь?! Ай, пропала я, пропала, бедная, что ж со мной станется?! Ай, умереть мне теперь, жилы порвать, нутро всё вывернуть кишками наружу! Ваша милость, ведь один конь у нас был, он телегу возил! Господин генерал, да ведь муж-то теперь меня, меня в телегу впрягать станет! У цыган закон такой: коли лошади нет, жена всю семью везёт! Ай, ваше сковородие, ай, пропала я, лучше прямо сейчас помру, чем телегу на себе потащу, а за мной мои кишки по грязи поползу-у-ут…
– Да что ты несёшь, глупая, успокойся… Перестань завывать, говорят тебе! – рявкнул совсем сбитый с толку Авалов и опять попытался было поднять цыганку с земли, но та лишь снова уцепилась за его сапог, набрала воздуху и наддала.
– Господа, надо бы что-то делать… – неуверенно сказал Стадницкий. – Муж её уморит.
– Кто просил его играть? – нервно возразил Авалов.
– Слов нет, он дурак, но за что же отвечать этой девочке? – запальчиво вмешался молодой прапорщик. – Господа, я немного знаю цыган, с женщинами они себя ведут совершенно по-свински… Держу пари, что он и в самом деле её запряжёт!
При этих словах цыганка в корчах забилась на земле. Авалов в сердцах сплюнул, выдернул наконец из её рук свой сапог и широко зашагал по двору.
– В жизни не попадал в такое идиотское положение! – ворчал он, искоса поглядывая то на голосящую цыганку, то на её мужа, который по-прежнему обнимал за шею чубарого коня и, казалось, вовсе ничего не слышал. – Стадницкий, в кои-то веки мне нужен ваш совет, а вы теперь молчите! Придумайте хоть что-нибудь! У меня от её визга лопается голова!
– Позвать казаков, пусть уберут? – неуверенно предположил ротмистр.
– Да нет, другое… Может, дать ей, в конце концов, какую-нибудь клячу взамен? – внезапно остановившись, с надеждой спросил Авалов. – Болтаются ведь за вашей батареей эти одры с рёбрами гармошкой? Я давно предлагал пристрелить их, а ваши донцы не дают! Так пристройте этих кляч хотя бы к цыганам, всё равно на позициях от них не будет никакого толку!
– А ведь здравая мысль, Авалов! – обрадовался Стадницкий. – Разумеется, это не лошади, а мешки с навозом, но всё же… Черпаков! Черпаков! Черпаков, чёрт возьми, где тебя носит?!
Прибежал молодой казак со сбитой на затылок фуражкой, который минуту назад что-то обсуждал, давясь смехом, со своими товарищами у коновязи.
– Черпаков, приведи этих заморышей, которых вы прикармливаете. Они ещё не подохли?
– Никак нет, ваше благородие! Цыганке отдадите? – блеснул зубами с загорелого лица казак.
– Отдам что угодно, лишь бы она не вопила, – искренне сказал Стадницкий. – Милая, успокойся, не кричи больше. Мы всё сделаем, чтобы тебе не пришлось самой возить телегу!
Цыганка затихла, но продолжала часто-часто всхлипывать, скорчившись в пыли и обхватив голову руками. Авалов, с опаской поглядывая на неё, на всякий случай встал подальше.
Чепраков вернулся через несколько минут, ведя в поводу двух кляч, в глазах которых читалась явная надежда поскорее издохнуть. Это были измученные, едва стоящие на ногах лошади с отчаянно выпирающими рёбрами и тусклой, истёртой, запаршивевшей шкурой. Осмотрев их, Авалов поморщился:
– «Уши врозь, дугою ноги, и как будто стоя спит»… Где вы взяли этот ужас, Черпаков?
– Изволите видеть, сами взялись! – отрапортовал, поправив фуражку, казак. Глаза его, то и дело косящие на цыган, смеялись. – Ишо под Познанью прибились, опосля боя! Уж не знаю, каким путём австрияки за ними ходили, но вот сами видите… Мабуть, от обоза отбились, кто ж в обозе за лошадью смотреть станет? Под седло не гожи, в орудию впрягать тоже невозможно… бродют за ребятами, как собаки, траву жувать не хотят, давали сено – не берут… Кажись, что и есть разучились, потому не кормлены давно.
– Ну, слава богу, им нашлось применение, – сквозь зубы произнёс Авалов. – Эй, милая… как тебя… Юлька? Забирай-ка этих вот… скотов и поверь, что более я для тебя ничего сделать не могу. Не позволяй своему мужу играть, если он не видит меры.
– Как она может ему не позволить, Авалов? – тихо спросил Стадницкий, помогая всхлипывающей цыганке встать с земли. – Вы же сами видели, она хотела и боялась подойти к нему во время игры! И его племянник тоже! Видимо, этот цыган из той же породы, что и вы…
Авалов только досадливо поморщился и, с тоской предчувствуя новый взрыв цыганского темперамента, зашагал к выигранному чубарому, возле которого ещё стоял Мардо. Но, к удивлению штабс-капитана, цыган отошёл от потерянного коня без слова и даже отыскал в себе силы передать повод из полы в полу новому владельцу.
– Скачите, ваша милость… чего уж теперь-то. – Он вытер глаза грязным рукавом, посмотрел в сторону. – Только глядите… Конь цыганский, к шпорам не приучен, ежели чего – скинуть может. Вы бы его без шпор, хлыстиком… Он поймёт, он у меня умница. Дай бог вам всякого, чего сами пожелаете…
– И тебе того же, – Авалов задумчиво посмотрел через плечо цыгана на его жену, суетящуюся вокруг кляч наперегонки с мальчишкой. – Послушай, брат, неужели ты в самом деле запряг бы жену в телегу?
– Да на что она, дура, ещё годится… – мрачно ответил Мардо и, не глядя больше ни на чубарого, ни на его нового владельца, зашагал к воротам.
– Спаси вас бог, господин генерал! – поклонилась цыганка, и Авалов, посмотрев в её лицо, покрытое разводами мокрой от невысохших слёз пыли, только покачал головой.
– Я не генерал, девочка.
– А хоть и полковник, тоже хорошо! – Она, всхлипнув в последний раз, сверкнула белыми зубами. – Помоги вам господь, что бедную цыганочку пожалели, я за вас богу помолюсь, вас теперь на войне ни одна пуля не возьмёт! Цыганская молитва самая верная!
Она поправила на волосах красный, извалянный в пыли платок и, мелькая голыми пятками, припустила за мужем и мальчишкой, уводившими в поводу кляч.
– Вот чувствую я, Стадницкий, что мы с вами сделали какую-то глупость… – глядя вслед видневшемуся уже внизу холма, у реки, красному лоскуту, сказал Авалов.
– И это не последняя глупость в вашей карьере, – пообещал ротмистр. – Ну, давайте хотя бы осмотрим ваше приобретение. Действительно, прекрасная лошадь. Как только она попала к этому бандиту?
– Как к ним всё попадает? Украл у кого-нибудь, только и всего… – Оба офицера в кольце возбуждённо переговаривающихся солдат зашагали к чубарому.
Цыгане, ведя в поводу лошадей, не спеша спустились к отлогому, заросшему лозняком берегу Дона, где начиналась песчаная коса и медленно текла розовая от заката, покрытая лёгкой рябью вода. Вдали, на взгорке, можно было различить палатки табора и поднимающиеся между ними дымки. Высоко в белёсом от жары небе, почти невидимый парил ястреб, за рекой поднимался меловой обрыв, а под ним расстилался серо-зелёный ковёр степи. У самой воды цыгане остановились. Мардо бросил поводья, которые немедленно подхватила его жена, зашёл в воду, наклонился, ополоснул лицо. Не поворачиваясь, бросил:
– Сенька, подойди-ка.
Мальчишка, удивлённо пожав плечами, подошёл к нему – и тут же полетел в мелкую воду от сильного удара.
– Ты что?! Ошалел?! – вскочив, он сжал кулаки, кинулся было на Мардо, но тот, выпрямившись, смотрел на мальчишку спокойно и зло, щурясь против закатного солнца и без того узкими глазами, не меняя позы, и Сенька, весь мокрый, остановился, тяжело дыша.
– Если ещё раз в мои дела полезешь – совсем убью, – без всякого выражения произнёс Мардо и, выйдя из воды, пошёл к лошадям. Сенька растерянно и обиженно смотрел ему вслед, вытирая с подбородка кровь из разбитой губы. Юлька шагнула к нему, сочувственно погладила по плечу. Сенька, покраснев, огрызнулся сквозь зубы, вышел из воды и сел на песок, опустив голову на колени. Юлька вздохнула и отправилась к мужу, который, широко улыбаясь, осматривал зубы одной из лошадей.
– Ну что, Митя?
– Да как я и говорил, – не глядя на неё, усмехнулся Мардо. – Они молодые совсем, вон ямы какие под зубьями-то! И копыта не битые! Дыкх[7], Сенька, она ведь вороная! Чтоб мне умереть – вороная! Запаршивела только! Да к концу лета у вас с дедом из неё беговая лошадка получится! Чяворо[8], да что ты, разобиделся там? Брось, поди взгляни!
Сенька поднял сердитую физиономию, хотел было ответить что-то, но вдруг, повернувшись всем телом, тревожно прислушался.
– Скачут… – одними губами сказал он. – Ей-богу, Мардо, скачут!
В следующее мгновение из-за поворота дороги карьером вылетел всадник и, чудом не врезавшись в меланхолично глядящих на него кляч, осадил лошадь. Та взвилась на дыбы, подняв столб песка, и цыгане немедленно расчихались.
– Что ж делаешь-то, чёрт?! Пчхи!!!
– А вы б хоть от повороту отошли! – с загорелого лица спрыгнувшего перед ними на песок всадника блеснули в ухмылке зубы. Это был Черпаков – тот молодой казак, что по приказу ротмистра привёл во двор трактира заморённых лошадей. – Знаешь что, Митька, уж на твоём месте-то поторопиться стоило б! Я-то думал, что и табора уж не видать, снялись да умотали!
Мардо настороженно молчал, меря казака сощуренными глазами и оглаживая кнутовище за поясом. Сенька и Юлька, обеспокоенно переглянувшись, подошли ближе. Мальчишка на всякий случай поднял с земли камень-окатыш.
– Вольна-а, конокрады! – давясь от смеха, скомандовал Черпаков. – Та что подобрались, казаки своих небось не сдают! А вот вы, сволочи, земляков не помните! Я же из Уманской, вы ж у нас кажный год стоите перед ярмаркой, по дороге в Черкасск, забыли? Дед Илья, Смоляко, старшой у вас! А жена у него – тётка Настя! И бульник-то брось, малой, я тебе не кобель бешеный!
На лицах цыган появились осторожные улыбки. Сенька смущённо бросил камень на песок, вытер руку о штаны.
– Ну, спасибо, земляки! Я на вас спор держал, вон каку штуку выиграл! – Черпаков вытянул из-за пазухи золотые часы с цепочкой, открыл их – и по берегу разнёсся чуть фальшивящий вальс «На сопках Манчьжурии». Юлька заслушалась, склонив голову набок, и казак, глядя на неё смеющимися глазами, закрыл и открыл крышечку часов, чтобы мелодия зазвучала снова.
– На что спорил-то, земеля? – ещё недоверчиво спросил Мардо.
– На то, что ты своего палёного чубарца с барышом сбудешь! – Черпаков уже не мог больше держаться и заржал на весь берег, согнувшись пополам. – Это вы офицерьё дурить можете как хочете, а казачков, брат, не обманешь! Казак ишо портов не надел, а уж на лошадь сел, не хужей цыгана будет! Мы-то враз сообразили, что у тебя за чубарый! Ты на нём карьером подлетел ко трактиру-то, от табора вашего всего полверсты будет, а он уж весь в поту! С запалом конь?
Тут уж засмеялся и Мардо, показывая острые белые зубы.
– Есть малость… Надорванный, через две версты ходу падает. Ни в телегу, ни под седло не годен.
– И почки, поди, больные? Потому и шпор не уважает? Ну? Ишо что? Кажись, всё мы с ребятами высмотрели?
– Звёзды считает[9], – снисходительно добавил Мардо.
– Ну, этого не углядеть было… – Казак с некоторым сожалением оглядел двух кляч на дрожащих ногах. – Ух, кабы не господин штабс-капитан, нипочём бы я тебе этих одриков не отдал! Добрые кони-то, строевые, только что морёные. Да ведь их пару месяцев не трудить, да на хороший корм… Ты им жмыхов подсолнечных давай, как пойдут, да мылом, мылом дегтярным кажные три дня, ежели достанешь. Парша уйдёт, шерстя новая полезет… Ну, цыгана научать за лошадью ходить – только портить. Правильно, мора! Офицерьё – их учить надо! А то ишь, кавалерией командовать гораздые, а сами в конях не шиша не смыслят! Их в ихних академиях тому не учат – за конём ходить, им ишака за рысака сбыть можно. Наши казачки этого не больно одобряют, потому и молчали… Ну, ты молодец! Смерть глядеть было, как ты чубарого от сердца отрывал! «Ваша милость, шпор только не давайте…» – и соплю на забор повесил! Наши – как один улеглись гоготать! И молодая твоя хороша! – Черпаков с явным удовольствием посмотрел на Юльку. – Ить каку концерту закатила, всё вороньё в округе пораспужала! В телегу её, вишь ли, запрягать будут! Уж на что я разумел, что для дела баба убивается, и то слезу вышибло! А офицеры – народ нежный, им прямо по сердцу вспахало… Казак баба!
– Цыганка небось, – коротко сказал Мардо, даже не взглянув на жену, но Юлька вспыхнула улыбкой, зарделась, посмотрела на мужа ласково и благодарно. Черпаков, покосившись на неё, отчего-то вздохнул, крякнул.
– Что ж, земляки, прощевайте покуда, с барышом вас! – Он взялся за луку седла, вскинулся было на коня, но, вспомнив о чём-то, вдруг спрыгнул обратно и, подойдя вплотную к мальчишке-цыгану, пристально вгляделся в его глазастую физиономию.
– Чего ты? – немного испуганно спросил Сенька, отстраняясь.
– Скажи-ка, малой, Ванька Дмитриев, цыган, не родня тебе?
– Не знаю… Из каких он?
– Да кто ж вас разберёт-то?.. В шестом кавалерийском у нас служил! Говорил мне, что сам из московских, не бродяжит, но уж больно рожей с тобой схож. И чёрный такой же! Вот и не пойму, али вы все на одну морду, али…
– Постой! Постой! – вдруг подпрыгнул Сенька. – Ванька, говоришь? Московский? Молодой? Поёт хорошо? Вот здесь, над бровью, подковой шрам выбит?!
– Ну!!!
– Наш! Наш! Брат мой двоюродный! Только как же… – Сенька растерянно и радостно хлопал ресницами. – Тётке ведь ещё в начале войны от начальства прописали, что пропал… погиб без вести… И писем не было… Наши уж его и в поминания второй год записывают… Не спутал ты чего, брильянтовый?!
– Какое! – развеселился Черпаков. – Живой, как мне живым быть, и не ранетый даже! В плену, это верно, был, цельный год, дак ведь сбежал! Сам сбежал и ещё десяток с собой сговорил! С месяц тому назад в полк вернулся, по всему фронту его отыскивал! Их сейчас в Польшу погнали, там вроде потише. Ты матери-то его отпиши, коли грамотный, чтоб не мучилась, а то покуда начальство при нонешних делах соберётся…
– Дэвлалэ![10] Дорогой ты мой! – Сенька, сияя улыбкой, кинулся обнимать казака. – Да какую ж ты нам весть принёс! Ванька наш живой! Тёти Даши сын живой! Да как же она обрадуется, вот спасибо тебе, золотой! Пошли, пошли к нашим, в табор пошли, сам деду расскажешь! Ванька же ему внук кровный, дед тебе за такую весть что пожелаешь отдаст!
– Не могу, брат, служба… – нехотя отказался Черпаков. – А вы, поди, сниметесь сейчас?
– Да уж, верно, придётся… – ответил Мардо, поглядывая на лошадей.
– Надо, надо, – серьёзно подтвердил казак. – А то, не ровён час, Авалов чубарого-то попробовать вздумает. Ну, с богом, цыгане, прощевайте. Ежели Ваньку увижу, поклон от вас передам. А вы мимо Уманской поедете? Коль не в тягость будет, зайдите к мамаше, четвертый баз от большака, Черпакова Авдотья Никитишна. Скажите – сын ваш Петро жив-здоров и вам того ж желает, и осенью, даст бог, в отпуск будет.
– Непременно заедем! Непременно! Крюка по степи дадим, дорогой, а заедем в твою Уманскую! – хором поклялись цыгане, блестя радостными улыбками.
Сенька и Мардо поочерёдно обнялись с Черпаковым, Юлька ласково улыбнулась ему. Казак, глянув на цыганку, только вдохнул, потёр кулаком лоб – и взвился в седло. Вскоре о том, что он был здесь, напоминало только жёлтое облачко пыли над дорогой.
– Помоги тебе бог, родной, – сказала вслед казаку Юлька и, улыбаясь, повернулась к цыганам: – Ну, что, примёрзли, чявалэ?![11] Бегом, Илью Григорьича обрадуем!
Дед Смоляко, выслушав сына и внука, сдержанно похвалил их, осмотрел лошадей, велел до завтра не трогать их и даже не поить и, к удивлению обоих цыган, заявил, что горячку пороть нечего и ночевать лучше остаться здесь.
– А до света поднимемся и уедем, как хотели. Ничего, не будет гаджо[12] на ночь глядя жеребца выезжать, не захочет ему ноги в потёмках ломать.
– Как знаешь… – пожав плечами, недовольно буркнул Мардо, но дед Илья, казалось, ничего не заметил и продолжал смотреть через плечо сына на красный, наполовину скрывшийся за меловым обрывом диск солнца.
Берег темнел, вода Дона у лозняка подёргивалась туманом, возле цыганских палаток один за другим зажигались костры, рядом с которыми крутились уставшие за день женщины. Несколько девушек со смехом и болтовнёй спускались к реке за водой, и Юлька, схватив от шатра жестяное ведро с погнутой дужкой, помчалась вслед за ними.
– Стало быть, живой Ванька наш. – Чёрные, чуть раскосые, с голубым блеском белка глаза деда смотрели спокойно, но Сенька видел, как сильная рука с сизыми прожилками вен под загорелой дочерна кожей отпускает и снова судорожно сжимает узорную рукоятку кнута, заткнутого за пояс.
– Гаджо сказал, что как есть живой и здоровый! Как будем-то теперь, Илья? – нетерпеливо спросил Мардо.
– Ну, как… Бабка-то в станице ещё, не приходила? Вернётся и напишет Дашке в Москву. Или нет… Это долго будет, письма-то сейчас не ходят, всё война… – Илья задумался, ероша ладонью густые кудри с проседью, нахмурил густые, сросшиеся на переносице брови. Сенька и Мардо внимательно следили за ним. С берега слышался далеко разносящийся по реке голос Юльки: «Ай, раскатились колечки мои…» Сенька, услышав её, улыбнулся, сверкнув зубами; Мардо нахмурился.
– Ну, вот что, – Илья посмотрел на сына. – Ты всё едино на Москву косяк погонишь?
– Какой косяк? Который Яшка купил? – Митька недовольно почесал затылок. – Да я только после Петровых собирался… Или вовсе к осени…
– Тебе какая разница? Погонишь сейчас. Денег сразу не отдаст – должен останется. А ты заодно нашим про Ваньку расскажешь, нечего Дашке два месяца лишних по сыну-то реветь.
– Да мне-то оно к чему?.. – заспорил было Митька, но Илья уже отвернулся в сторону, и Мардо не решился продолжать. Мрачно блеснул из-под бровей сощуренными, недобрыми глазами, дёрнул плечом и пошёл вниз, берегом реки, туда, где бродили в мелкой, тёплой воде цыганские кони. Илья проводил его взглядом, отвернулся, сапогом пододвинул к костру откатившуюся головню.
Над ухом зазвенел комар. Илья отогнал его, придвинулся ближе к огню; привычно щурясь от дыма, посмотрел на падающее за обрыв солнце. Подумал о том, что, пока Митька отгонит косяк в Москву и вернётся обратно в табор, много времени пройдёт. Наверное, и к лучшему.
Илья прикрыл глаза, вспоминая тот давний-давний, уже теряющийся на дорогах памяти день, когда его самого впервые принесло в Москву. Сколько лет ему было тогда? Девятнадцать, двадцать? – сейчас уже и не вспомнить. Его, таборного цыгана, не думающего ни о чём, кроме лошадей и конных базаров, позвал в столичный хор дальний родственник и друг, городской цыган Митро Дмитриев. На свою голову позвал, усмехнулся в мыслях Илья, вспоминая те дни. С горем пополам отмучившись в хоре один сезон, смертельно тоскуя по табору, по конным базарам и лошадям, по степному ветру и луне над ночным полем, Смоляко смылся из Москвы, как только потянуло весенним ветром. И не один. С ним, забыв о поклонниках и славе, о шёлковых платьях и бриллиантах, о возможности сделать блестящую партию, уехала первая солистка московского хора, сестра Митро – Настя.
Стоило Илье вспомнить жену, как она и появилась вдали, на дороге, спускающейся от станицы. Появилась в толпе других цыганок, из которых больше половины были её невестками и внучками, но до сих пор Настя выделялась среди них походкой и статью: казалось, царица или княгиня идёт босая по пыльной дороге, высоко подняв повязанную выгоревшим платком голову. Сощурившись против заходящего солнца, Илья увидел, как навстречу женщинам мчится от реки Юлька и уже на бегу начинает кричать и хвастаться сегодняшней меной мужа. Цыганки приближались к табору, в вечернем тёплом воздухе слышались их болтовня и смех.
Илья вспомнил о том, как они с Настей, уже прожив лет пятнадцать в кочевье, родив семерых детей, всё-таки приехали в Москву. Илья поехал через силу, лишь потому, что жена отчаянно скучала по родне. Как чувствовал – не хотел ехать… Там, в большом доме Настиного отца, забитом детьми, внуками, племянниками и прочей цыганской роднёй, случилось то, что сломало жизнь Ильи пополам. Он увидел Маргитку – племянницу жены, подросшую дочь Митро, зеленоглазую красавицу-плясунью. Илье было тогда тридцать семь лет. Маргитке едва исполнилось семнадцать. Несколько месяцев спустя они вдвоём исчезли из Москвы.
Настя знала обо всём: Илья до сих пор не мог без мороза по спине вспоминать её слёзы, ползущие по застывшему от отчаяния лицу, той ночью, когда он уходил вслед за Маргиткой. Уходил от Насти, которую всегда любил, от детей, без которых жизни своей не мыслил. Уходил потому, что без Маргитки не мог дышать, не мог спать, не мог жить. Что это было? Горячка? Одурь? Бес в ребро? Он и сам не понимал – даже сейчас, столько лет спустя.
Они с Маргиткой уехали подальше от Москвы, подальше от всех, кто их знал, – в Одессу. И прожили там шесть лет, и за всё это время дня не проходило, чтобы Илья не вспомнил свою семью, не подумал о Насте. Каждый день рвалось сердце, болела душа, и хуже времени, чем те годы на берегу Чёрного моря, у него не было в жизни. Илья знал, что может вернуться, что Настя примет, простит, ведь она цыганка, ведь они прожили вместе полжизни и у них дети… Но Маргитка стояла перед ним – молодая, тонкая, красивая, – манила зелёными глазами, улыбалась, и Илья понимал, что шагу от неё не сделает. И, чувствуя себя стариком рядом с ней, ревновал молодую жену отчаянно, не мог выносить, когда она даже разговаривает с другими цыганами. Да… врагу бы Смоляко не пожелал такой жизни.
В конце концов случилось то, что должно было случиться: Маргитка сбежала от него с подвернувшимся под руку цыганом-конокрадом. Позже Илья даже удивлялся, как эта девочка продержалась рядом с годящимся ей в отцы мужем шесть лет вместо шести дней. Сейчас, когда столько времени прошло, он даже лица Маргитки не мог вспомнить толком; даже погибельные зелёные глаза, от которых у него ум за разум заходил, не поднимались в памяти, а тогда… тогда Илья, оставшись один, от отчаяния загулял так, что, наверное, нашёл бы свою смерть в вонючем кабаке на окраине Одессы, если б не Роза.
Илья улыбнулся. До сих пор он не мог не улыбаться, вспоминая о Розе. И вот её-то помнил прекрасно – всю, от грязных пяток до растрёпанной кудрявой головы, от рваной синей юбки и оранжевой кофты до узких, насмешливых глаз, острого подбородка, лукавой улыбки. Роза была цыганкой, но со своей семьёй не жила, предпочитая кочевать в одиночку и быть самой себе хозяйкой. За собой она таскала Митьку, сироту-племянника, как две капли воды похожего на неё. С ними Илья и прожил целое лето – после того как Роза притащила его, насмерть пьяного, из окраинного кабака к себе домой, привела в чувство, велела рассказать всё как есть и, пожав плечами, предложила: «Оставайся». Илья остался: идти ему было некуда, искать Маргитку он всё равно не собирался, возвращаться в Москву пред Настины очи было стыдно до темноты в глазах.
Они с Розой прожили вместе три месяца. Одно короткое лето на берегу моря, в рыбачьем посёлке, сто долгих жарких дней, сто тёплых ночей. Ни слова о любви не было сказано между ними, и Роза, посмеиваясь, говорила: «Надоем – поезжай в Москву, человек со своими детьми должен жить». Илья и слышать об этом не хотел: ему было хорошо с Розой. Хотя, может, она говорила верно, и никакой любви у них в помине не было – ведь по-прежнему день за днём он думал о своей семье и по-прежнему саднило сердце… Но его неприученная к узде судьба в какой уже раз поднялась на дыбы и выкинула то, чего Илья никак не ждал: Роза умерла. Умерла, сгорев за неделю от грудной болезни, заставившей её все семь дней промучиться, кашляя кровью в медный таз, и в конце концов уложившей в землю. За несколько мгновений до смерти, когда Илья, теряя голову от горя, стоял на коленях у её постели, Роза сказала:
– Иди в Москву, дурак, там твоя семья… Только Митьку моего не бросай.
Илья выполнил её волю. Ведь всё равно остаться в Крыму без Розы, в её опустевшем доме, он не смог бы: сожрала б тоска. И через неделю после похорон уехал в Москву, прихватив с собой тринадцатилетнего Митьку, про которого Роза говорила: «Хоть и цыган, а босяк. В табор парню уже нельзя, не приучен. Держи его при себе, морэ[13], не то пропадёт».
Илья вернулся в Москву. И Настя приняла его не моргнув глазом, спокойно сказав: «Всё равно, кроме тебя, кобеля, никого в жизни не любила». И Илья понял, что никогда больше шагу в сторону от жены не сделает. Так и вышло. Ведь ему уже было за сорок, и у них с Настей, кроме семерых детей, росли внуки.
Все эти годы без него Настя пела в московском хоре, который держал её брат, к тому времени известный городу хоревод Дмитрий Трофимыч. Когда она запела первые партии, хор Митро загремел на всю Москву, «на цыганку Настю» съезжались целыми компаниями, о ней писали в газетах, специально для неё сочинялись романсы, и доходы хора взлетели в заоблачную высь. Илья усмехнулся, в который раз передёрнув плечами при мысли о том, что подумал Митро, когда он, Илья, нежданно-негаданно снова свалился в Москву. Вернулся после того, как сбежал с дочерью Митро, бросив его же сестру. Илья до сих пор не мог понять, почему бывший друг его не убил, как только увидел. Более того, сказал: «Оставайся, коли хочешь. Будешь петь с женой – в хоре хоть деньги большие заработаешь, твою-то голосину здесь хорошо помнят».
Разумеется, Илья не остался: совести бы не хватило каждый день мозолить Митро глаза своей мордой. И Настя не настаивала на этом, хотя в хоре была её жизнь. Привычно, не сказав ни слова, она связала узел и вернулась с мужем в табор. Сыновья разделились: те, которые успели пережениться на хоровых цыганках и попробовать ресторанного хлеба, к скрытой досаде Ильи, остались в Москве. Старший сын с семьёй жил в Смоленске, торговал лошадьми. Дочь вышла замуж за питерского цыгана, сына хоревода. Двое младших сыновей, ещё не успевшие обзавестись семьями, отправились за родителями в табор.
Прошло несколько лет, и Илья уже окончательно поверил в то, что несчастья его семьи теперь позади, когда на них свалилось такое горе, от которого волосы сорокалетней Насти в один день стали белыми, как у древней старухи, а Илья даже полгода спустя всё ещё не мог ни с кем разговаривать. Беда случилось с их сыном Петькой, который вместе с женой и двумя детьми жил в Москве. Однажды зимой они вернулись из ресторана под утро, страшно усталые, тут же повалились спать, и жена Петьки позабыла открыть на ночь печную вьюшку. Угарный дым пошёл из печи в комнату, и наутро никто не проснулся – ни Петька, ни его жена, ни годовалая малышка, спящая под боком матери. Уцелел только старший их сын, пятилетний Сенька, который, на своё счастье, ночевал в эту ночь не дома, а у соседей.
До сих пор иногда Илье слышался во сне страшный крик Насти по мёртвому сыну – и мороз продирал по коже. Всю дорогу до Москвы Настя ещё держалась, но, увидев своими глазами могилы сына, невестки и внучки на кладбище у Бутырской заставы, слегла. И лежала в постели две недели, повернувшись спиной ко всем, – только маленький Сенька находился при ней безотлучно. Он остался с дедом и бабкой, хотя взрослые сыновья Ильи, которые жили в Москве, готовы были забрать его к себе. Но мальчишка по собственной воле уехал в табор, и Илья был этому только рад: глядя изо дня в день на шебутного, любопытного, постоянно лезущего во все дырки внука, Настя мало-помалу пришла в себя.
«И до чего же они все с тебя списаны, Илья!» – с напускной досадой говорила она, наблюдая за тем, как лохматый, бровастый, глазастый, чёрный, как галка, полуголый, как все таборные дети, Сенька с упоением скачет в придорожной луже, обдавая всё вокруг грязными брызгами. – Хоть бы один на меня или там на невесток похож был… Нет! Все до единого – смоляковская порода разбойничья!» – «Значит, кровь наша гуще…» – бурчал довольный Илья. Впрочем, глаза-то у Сеньки были как раз бабкины: «очи чёрные», каждый со сливу размером. Любая девчонка за такие глаза полжизни бы отдала, а вот поди ж ты – оказались на смоляковской роже, с которой только на каторге место… Внука Илья обожал. К его безмерной радости, из Сеньки вырастал настоящий таборный цыган, которому, слава богу, и в башку не забредало уехать в город и петь там за деньги для господ. С пяти лет мальчишка неизменно болтался с дедом по конным ярмаркам и базарам, к двенадцати годам мог уже весьма здраво оценить лошадь, выискать в ней мельчайшие изъяны, сбить цену вдвое, а через полчаса перепродать коня на той же ярмарке втрое дороже. Илья, который сам был таким, внука хвалил редко, опасаясь сглазить, но про себя понимал: кофарь из Сеньки выйдет знатный. Пожалуй, и не хуже его самого, Ильи Смоляко, которого знали на всех конных ярмарках от Смоленска до Новочеркасска. А может быть, и лучше, потому что Сенька умел говорить с лошадьми.
Выяснился необычный внуков талант довольно поздно, потому что сам мальчишка никому о нём не рассказывал, полагая, что это умеют все и посему хвастаться тут нечем. Потому, когда Илья, которому цыгане сообщили о Сенькиных беседах с конями, начал осторожно расспрашивать внука, тот сначала только хлопал мохнатыми ресницами.
– А что в этом странного? Как все, так и я… Я говорю, кони говорят… А можно и не говорить…
– Это как, чяворо? – Илья едва удерживался от того, чтобы не перекреститься, чувствуя, что мальчишка не притворяется.
– Да просто же! – пожимал плечами внук. – Без разговору… Они ж умнее людей-то, кони!
В последнем Илья, сам проведший всю жизнь среди лошадей, ничуть не сомневался, но тем не менее заявил:
– Не могёт такого быть! Али ты врёшь, али цыгане наши!
– Очень надо врать-то… – недоумевал Сенька. – Ты шутишь, верно, дед? Ну, вот гляди, сейчас твой серый ко мне подойдёт и начнёт тыкаться, а я ему скажу, чтоб не лез, потому как хлеба нет.
Илья глаз не сводил с Сеньки, ожидая подвоха, но внук лишь спокойно посмотрел на пасущегося неподалёку серого своими огромными глазищами – и тот вдруг, оставив в покое полуобжёванный куст ракитника, дёрнул шеей, прямо пошёл к мальчишке и сунулся мордой к нему в плечо. Сенька стоял столбом, не отталкивая коня, но через мгновение тот сам недовольно мотнул головой и вернулся к кустам.
Больше Илья вопросов внуку не задавал. Но всерьёз забеспокоился, когда пару лет спустя подросший Сенька с подозрительным интересом начал расспрашивать деда о его лихой конокрадской молодости. Илья сначала пытался отмолчаться и перевести всё в шутку, но упрямый мальчишка не отвязывался, и дед-конокрад в конце концов взорвался, как бомба:
– Не был, говорят тебе!!! Не воровал! Не трогал отродясь никаких коней чужих, чтоб им околеть! Отвяжись, болесть злая! Врут наши дураки тебе всё, языки-то сорочьи без костей!.. Ну, может, было раза два по молодости… Или три… Но бросил! Бросил, слышишь?! И ты не смей об этом даже думать, не то шкуру кнутом спущу до костей! Мало бабке несчастья из-за вас всех, нарожала себе на погибель!
О том, что будет, если Сенька с его-то талантами в самом деле подастся в конокрады, Илья старался не думать, но, к счастью, бог миловал: неистребимой страсти обладать чужой приглянувшейся лошадью внук оказался напрочь лишён. И Илья в который раз вздохнул с облегчением.
Годам к четырнадцати у Сеньки прорезался очень неплохой голос, и городские родственники начали всё чаще наезжать в табор, упрашивая деда отпустить внука в Москву хоть на один сезон. Но Илья, хорошо помнивший собственные мытарства в Первопрестольной, стоял насмерть:
– Не дождётесь, бутербродники! Сенька – таборный цыган, закорённый, ему в вашем кабаке не место, и не просите даже! Озолотите – не пущу!
– Ну, спросит он тебя, коль сам захочет… – обиженно ворчала Настя.
В глубине души Илья понимал, что жена права: останавливать внука кнутом, если бы тот в самом деле польстился на городское житьё, у него рука б не поднялась. Но, к счастью, сам Сенька и слышать не хотел о московском хоре – хотя на дедовой гитаре играть выучился быстро, и без него не обходилась ни одна гулянка в таборе. Для полного успокоения Илье оставалось только женить внука на таборной девчушке из хорошей, уважаемой семьи. Но Сеньке, по словам Насти, знающей до изнанки всё, что касалось её детей и внуков, никто пока не нравился. Илья пожимал плечами: «Молодой ещё, дурь в башке носится. Подождём».
Голова у него в то время болела главным образом из-за Митьки.
Племянник покойницы Розы, которого Илья взял в свою семью, прожил в таборе года два, и к концу этого срока Илья уже точно знал, что Роза оказалась права: таборная жизнь для парня не годится. Митька отлично разбирался в лошадях и мог под настроение за один базарный день взять барыша больше, чем все кофари табора, вместе взятые. Мог он также пропасть на неделю-две и вернуться с крадеными скакунами в поводу, мог сбыть их в полдня за хорошие деньги, мог сменять на ещё лучших коней. Но Илья видел: лошадьми этот парень не болен. Митька рос самым обычным вором, и что делать с ним, Смоляко не знал – не помогали ни уговоры, ни кнут.
С пятнадцати лет Митька начал надолго пропадать из табора. Сам он никогда не рассказывал о том, где бывает и чем занимается, но цыгане рассказывали Илье о том, что его приёмный сын крутится с русскими ворами. Смоляко злился: «Врёте, черти, языки подвязали б!», но про себя знал, что это правда. Митька болтался по России, часто и, кажется, удачливо играл в карты, воровал понемногу во всех губернских городах. К восемнадцати годам цыгане уже звали его Мардо[14]: скуластую Митькину физиономию испортили несколько рваных, длинных шрамов, полученных в драках. В двадцать лет он наконец попался и отправился на каторгу, года через три вернулся – и через несколько недель всё пошло по-старому. Илья, в глубине души надеявшийся, что хотя бы город Нерчинск Митьку образумит, вынужден был признать: ничего у Нерчинска не получилось.
Однажды Смоляко и в самом деле показалось, что парень решил угомониться: это случилось, когда тот приехал в табор на кибитке, в которой сидела молодая цыганка-котлярка с повязанной по-замужнему головой. Первое, о чём Илья спросил, увидев семнадцатилетнюю, тоненькую, чёрную, большеротую, смущённо улыбающуюся Юльку, было:
– Красавица, он тебя силой взял?! С мешком на голове увёз?!
Юлька залилась такой краской, что Илья тут же понял: никакой силы и в помине не было. Впрочем, второй его вопрос оказался не лучше первого:
– Да на кой он тебе сдался-то, каторжник бессовестный?!
– Илья!.. – тихо ахнула за его спиной Настя.
Никто, кроме него, этого не услышал, но Смоляко тут же опомнился, глубоко вздохнул, приходя в себя, покосился на Митьку. Тот не обиделся: смотрел на молодую жену насмешливыми глазами, вертел между губами соломинку, поглядывал на молчащих от изумления цыган. Насладившись общим столбняком, Мардо выплюнул соломинку и сквозь зубы бросил жене:
– Что стоишь? Иди делом займись…
Юлька, улыбнувшись, взяла ведро и пошла к реке. И целая толпа цыганок бросилась за ней: допытываться, как всё случилось. Митька же, как ни в чём не бывало, распряг лошадей, выпустил их в поле и принялся растягивать драный шатёр. Смоляко понял, что рассказывать сын ни о чём не собирается.
Илья по сей день задавал себе вопрос: как могла Юлька добровольно выйти за этого кромешника? С появлением в таборе смуглой худышки с охапкой вьющихся волос, которые вылезали из-под платка во все стороны, сводя на нет Юлькины попытки выглядеть солидно, над табором, казалось, взошло ещё одно солнце. За медово-коричневый цвет мордашки её прозвали Копчёнкой, на что жена Мардо ничуть не обижалась.
Любая таборная цыганка хорошо или плохо умела добывать хлеб в семью, но Юлька вытворяла такое, что опытные гадалки только диву давались, глядя на неё. Ей ничего не стоило собрать вокруг себя весь базар своей босоногой пляской под бубен, а плясать Юлька могла с утра до ночи, почти не переводя духа. Если ей это надоедало, она шла гадать, и, тараща глаза, таинственно заглядывая в лицо деревенской бабы или затянутой в кисею и муслин барышни, говорила такое, что те бледнели, хватались за грудь и давали оборванной врунье всё, что та просила, да ещё добавляли от себя. Если же Юлька ленилась гадать, она могла схватить роющуюся в навозе курицу столь молниеносным движением, что та не успевала даже понять, что случилось, а уже оказывалась со свёрнутой головой под фартуком улепётывающей прочь воровки. Да что там курица… До сих пор цыгане, давясь смехом, вспоминали и пересказывали друг другу историю о том, как однажды в Калуге Юлька, болтаясь под заборами невысоких купеческих домиков в поисках заработка, увидела в одном из распахнутых окон накрытый для праздника стол. Заинтересовавшись, она перелезла через забор, заглянула в окно и убедилась, что в комнате никого нет. На то, чтобы забраться в окно, аккуратно составить на пол пустые тарелки и стаканы, которые могли разбиться, связать в узел скатерть со всем содержимым, взвалить узел на плечи, под мышки сунуть две бутылки вина – для мужа и для свёкра – и вымахнуть за забор, Юльке хватило полминуты. А потом весь табор умирал со смеху, глядя на то, как Копчёнка с гордым видом развязывает перед своим шатром скатерть, на которой красовалась дивная куча из пирогов, жареного гуся, яблок, утраченных тем же гусем, рыбного заливного, колбасы, хрена и редьки, торта «бланманже» и грибной запеканки. Слизали Юлькину добычу всем табором и долго ещё вспоминали «купеческий ужин» и ухватистость добытчицы.
По мнению Ильи, Митьке нужно было останавливать лошадей в каждом селе, идти в церковь и ставить самую дорогую свечу за такую жену. Но Мардо, кажется, подобные мысли не посещали. По-прежнему он появлялся в таборе три-четыре раза в год, по-прежнему уходил, когда хотел. Илья не знал, огорчает ли это невестку: плачущей Копчёнку никто и никогда не видел. Частые отлучки мужа она, казалось, принимала как должное. Когда Мардо возвращался, Юлька искренне радовалась, с утроенной силой вертелась возле костра, готовя ужин, пела для него весь вечер, собирая цыган к своему шатру, спозаранку неслась в деревню или на городской базар, чтобы как следует накормить Митьку, – а когда через неделю-две он уходил снова, она бежала за его конём, на всё поле крича: «Дэвлэса, тэ дэл о дэвэл ба-а-ахт![15]» – и всё шло по-старому.
– Любит она его, вот и всё, – сказала как-то Настя.
– Да? И с чего его любить-то? – недоверчиво поинтересовался Илья.
– С чего я тебя любила? Просто так… Это ведь не угадаешь.
– Девочку жалко, – помолчав, проворчал Илья. – Он подошвы её не стоит.
– А так всегда и бывает, – Настя прятала улыбку. – Не беспокойся. Время пройдёт, Митька угомонится, заживут по-человечески. Жаль, что детей нет.
– Почему нет-то? Ты с Юлькой не говорила? Может… делает она чего?
– Нет. Просто не получается пока.
– Понятное дело, не получается, если муж раз в год на два дня наезжает… Доиграется Митька, сбежит девочка с другим, а я и держать не стану!
– Брось. Ты же видишь – Юлька не плачет, весёлая бегает. Стало быть, годится он ей такой.
Илья пожимал плечами, молчал.
В четырнадцатом году грянула война с немцем. У Ильи забрали в солдаты старших внуков, которые пели в московском хоре, и на одного из них почти сразу пришло похоронное извещение. Дочь убивалась по своему Ваньке так, что цыгане не знали, что с ней делать, и даже мать, Настя, примчавшаяся в Москву сразу же, как до табора донеслись плохие вести, не могла успокоить её. Только через полгода Дарью перестали видеть в слезах каждый день, но в хоре она долго ещё не пела. «Горло сжимает, дышать не могу», – объясняла несчастная мать цыганам. Лишь в последнее время Дарья понемногу начала снова выезжать в ресторан, снова петь, и это было очень кстати: за военные годы доходы хора сильно упали.
И вот теперь – такие новости. Ванька, получается, живой, не ранен, не в плену, того гляди, сам напишет родителям… А письма не ходят, чтоб сгорела эта война…
Глядя на то, как над тёмной гладью реки поднимается белый бубен луны, Илья подумал о том, что хорошо бы поехать в Москву самому. Самому обрадовать дочь, посмотреть на то, как осветится радостью её бледное, осунувшееся, уже несколько лет не улыбающееся лицо, услышать её смех, её песню… На Митьку надежды мало, может и не доехать – запить, украсть что-нибудь по дороге, усесться в тюрьму… чтоб он подох, паршивец. Вот послал господь сынка, не иначе за грехи, мрачно думал Илья, идя берегом реки. Кабы не слово, которое он Розе давал… А как было не дать, когда помирала? И кто знал, что из Митьки этакая пакость получится?..
– Дед…
Он не спеша обернулся. За спиной стоял Сенька, улыбался: из темноты блестели зубы.
– Тебе чего? – строго спросил Илья.
– Мами[16] ужинать зовёт. Без тебя не садимся.
– Заждались, стало быть? – проворчал он. – Ладно… Беги скажи: сейчас буду.
– Дед, я спросить хотел…
– Ну?
– Можно я в Москву поеду? С Мардо?
– С чего это? – удивился Илья. – Мёдом тебе там намазано?
– Нет. Просто так. Я помог бы…
– «Помог бы…» – сердито передразнил Илья. – Ты у него только под ногами путаться будешь! Скажи вот мне лучше, отчего у тебя морда битая?