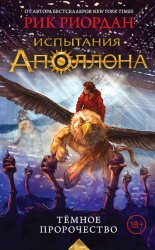Отворите мне темницу Туманова Анастасия

Октябрь 1859 года выдался в Смоленской губернии ветреным и холодным. В Бельском уезде уже пали заморозки, и по оврагам, словно седые космы, лежали полосы снега. Лесная дорога, прошитая бугристыми корнями деревьев, была подёрнута серебристым инеем. Копыта двух саврасок, влекущих за собой старые дрожки, звонко ударяли в землю, и дробный перестук эхом отзывался в пустом лесу.
В дрожках сидели три женщины. Одна из них, молодая брюнетка в капоре с полинявшими мантоньерками[1], в тёплой накидке поверх шерстяного платья, смотрела, глубоко задумавшись, на пробегавшие мимо ели. Сидящая рядом девка с берестяным лукошком на коленях тоже молчала. Но нянька, державшая на руках спящего ребёнка, ворчала без умолку:
– И надо ж было ветру опять подняться, Настасья Дмитриевна! Эко ёлки-то мотает! Вот говорила я вам – незачем младенца с собой тащить! А ну как простудится у нас Маняша? Видано ли – по предзимкам дитё за пятнадцать вёрст волочить!
– Дунька, не зуди! Ничего ей не будет…
Но унять Дуньку было непросто.
– И сдались вам гладиолусы те! Своих полон сад! Куда ни глянь – торчат повсюду, как лопухи! Уж, кажись, всех цветов имеются – так нет, приспичило и «чёрный бархат» заиметь! А на мой взгляд – вовсе грех это, чтоб цветы – да чёрного цвета были! Не к добру, и всё! Вот как хотите – а к гробу это в доме!
– Дунька, ты просто дура. Замолчи. Дай мне Маняшу.
– А всё, Васёна, через тебя! Сама напрочь свихнулась на цветах своих и барыню с толку сбила! А мне с вами расстройство получай! Ведь в экую даль потащились! Чуть не в соседний уезд, да ещё и через лес! А на дороге, чай, разбойники! Забыли про Стрижа-то?
Василиса только пожала плечами и умолкла, ласково, как щенков, поглаживая луковицы гладиолусов в лукошке. Она была очень хороша собой. Чистое, покрытое лёгким загаром лицо было задумчивым. Каштановая коса лежала на плече тяжёлым перевяслом. Большие, синие глаза внимательно и грустно смотрели на пробегающие мимо деревья. Семнадцатилетняя садовница графов Закатовых по праву считалась самой красивой девкой на весь Бельский уезд.
Скрипучие дрожки в последний раз сползли с холма и вкатились в сосновый бор. В нескольких аршинах от проезжего пути начинался болотистый бурелом. Кое-где по обочинам мелькала ржаво-чёрная вода, сухие палки рогоза. Бор тяжко шумел, качая над дорогой узловатыми ветвями. Дунька, перекрестившись, напустилась на кучера:
– Кузьма, ты за каким рожном лесом-то поехал? Аль последний ум пропил?! Нет бы через Требинку, как всю жизнь ездили!
– Никак невозможно, Авдотья Васильевна! – невозмутимо ответствовал Кузьма. – За Требинкой так развезло, что третьего дня лошадь с возом сена вчистую увязла! Всем селом тот воз вызволяли! Дожди ведь две недели шли, так что сама понимать изволишь… В бору-то всяко посуше: не застрянем.
– У-у, бестолочь! Нешто про лихой народец позабыл? А кто там ещё с болота ухает?!
– Известно кто – сова! Поди, за зайцами шныряет. Хотя навроде рано ей ещё, не смерклось даже… – Кузьма вдруг умолк на полуслове. Выругавшись, натянул вожжи. Лошади стали.
Поперёк пути лежала поваленная сосна. Кузьма, спрыгнув с дрожек, с изумлением разглядывал могучий ствол.
– Эко её угораздило – прямо на дорогу… Только вчера проезжал тут – не было её! Откуда ж это она завалилась-то?.. – кучер сошёл с дороги на обочину, туда, где торчал огромный пень, осмотрел его:
– Вот ведь притча… Спилена сосна-то! Это у кого ж ума хватило…
– Кузьма, воротись! Живо воротись, дурень! – вдруг не своим голосом завопила Дунька. Но было поздно: лошадей уже держали под уздцы невесть откуда возникшие взъерошенные мужики.
– Свят господи… – побелевшими губами пробормотала Дунька. – Барыня, милая, отдайте мне Маняшу-то…
Анастасия Дмитриевна молча передала в нянькины руки спящую малышку и поднялась в дрожках во весь рост. Её лицо побледнело, ноздри тонкого носа раздулись. Сейчас графиня Закатова как никогда похожа была на ногайскую княжну.
– Что вам угодно, ребята? – холодно спросила она, разглядывая незнакомцев. – Каких господ будете? Что это вы в моём лесу вытворяете? Сей же час освободите дорогу, не то… Фу, да вы и пьяны к тому же?!
– Барыня, барыня, потише б вы с ними, не то… – умоляюще зашептал Кузьма. Но конец его фразы потонул в нестройном гоготе:
– Вишь ты, барыня!.. Хмельных-то не жалует! Мотри, Фёдор, чичас ещё велит нам портки спустить да перепорет!
Чёрный, сумрачный Фёдор не улыбнулся в ответ. Его глаза угрюмо блеснули. Шагнув к дрожкам, он походя, огромным кулаком свалил на землю кучера и небрежно, как вещь, вытащил из экипажа Закатову. Та резко освободилась, попятилась. Сказала тихо, гневно:
– Как смеешь, хамово отродье! Прочь руки! Ступайте вон – и, клянусь, я не дам хода этому делу! Вы ещё можете…
Фёдор расхохотался ей в лицо, обдав густым перегаром. Товарищи поддержали его.
– Пугает… Смотри ты – пугает! Робя, – НАС стращает! – не мог успокоиться рябой, встрёпанный парень, который держал лошадей. – Охти мне, батюшки… Уж наскрозь, барыня, порты у меня мокрые с перепугу… Да что ты нам сделаешь-то, дура?! Будя с тебя, холера, насосалась кровушки! Наше времечко теперь! – подойдя к молодой женщине, он сорвал с неё дорожную накидку. – Ну, что, барыня, – сама рассупонишься, аль помочь? Нам с робятами привычно, мы – мигом…
– Бегите, Настасья Дмитриевна… – одними губами прошептала Дунька. – Хватайте дитё да бегите, я на их повисну… Помру – а не допущу!
Закатова лишь криво усмехнулась.
– Я – графиня Закатова, дурак. – чётко выговорила она в заросшее, нечистое лицо разбойника. – Вас и так уже ищут! Не сегодня-завтра конец и вам, и вашему атаману… этому Стрижу! Подумай, что будет, ежели вы… – не договорив, она с коротким вскриком рухнула на дорогу: тяжёлый кулак сбил её с ног.
– Да что ж ты делаешь, лешак?! – вскричала Дунька. – Как смеешь, разбойничья морда?! То ж Настасья Дмитриевна, барыня болотеевская! Нешто не слыхал?! Отродясь от неё притеснениев людям не было! Всяк в Болотееве тебе скажет! А ну пошёл вон… Пошёл вон, сказано тебе! ОТДАЙ ДИТЁ, ХРИСТОПРОДАВЕЦ!!!
Дунькин вопль оказался такой силы, что чёрный Фёдор, выхвативший было из её рук младенца, невольно замер.
– Да ты чего орёшь-то, кликуша? – растерянно спросил он. – Барское дитё, чего жалеть? Они, небось, наших не жалеют!
– Сдурел, ирод?! Моё дитё, моё кровное, рожёное, хоть в церкви тебе забожусь! Отдай, варнак, креста на тебе нет! – вопила Дунька, таща ревущую благим матом малышку из рук разбойника. – Да ты глянь, глянь на неё! На Манюшку мою! И глазоньки мои, и волосики, и носишко! Отдай, Бога не гневи, проклятый, – крестьянское дитё! Грех на тебя падёт, что невинную душеньку губишь! Да отдай же ты, анафема, – слышь, как заливается?!
– Отдай ей, Федька, не греши. – глухо сказал старший из разбойников. – Времени мало. Решай вон душегубицу, да прочь нам пора. Лошадей бы выпрячь ещё… И мужика с дороги оттащите. Петро, поглянь – жив он там? Экий ты, Фёдор, дурной… Приложил так, что теперь ещё, поди, и не выживет! Стриж такого над мужиками не велит творить!
– Откуда Стрижу-то дознаться, дядька Фрол? – хмыкнул Фёдор, поудобнее перехватывая в ладони топор и шагая к неподвижному телу на земле. – Вот ведь, впрямь, досада… померла, что ль? А я-то её пощупать хотел! Отродясь с барыней не кувыркался! Ну, хоть цацки посымать… всё доход.
Двое разбойников торопливо принялись выпрягать лошадей. Третийповолок к обочине бесчувственного Кузьму. Фёдор, разорвав дешёвое саржевое платье, бестолково шарил руками по груди бесчувственной женщины. За ним, скорчившись на земле, безумными глазами наблюдала Дунька. Она уже не кричала и лишь судорожно прижимала к себе ребёнка. Двое разбойников полезли было в дрожки – и тут же выскочили оттуда:
– Дядька Фрол, да тут ещё одна сидит!
И сразу же дорогу накрыло таким пронзительным криком, что умолк даже младенец в Дунькиных руках:
– Ироды! Черти! Сатанаилы бесстыжие!!! Что творите, нехристи?! Кто вам на такое дозволенье дал?! А ну подите прочь от барыни! Я Стрижу расскажу – не обрадуетесь!
– Это что ж за енарал на наши души? – недобро усмехнулся Фёдор. И в тот же миг усмешка пропала с его лица. – Мать-перемать… Васёнка, что ль?
– Она самая! – подбоченилась Василиса. – Слава господу, признал! Я Василиса и есть! Атамана вашего невеста наречённая! Стриж вас не похвалит, коль узнает, что вы барыню болотеевскую обидели! Небось, он и ведать не ведает, что вы тут спьяну озоруете? Ох, доиграетесь, разбойнички! Стриж на расправу-то скор! Не любит, коль из-под его воли выходят! Я Ваське всё как есть расскажу, не смолчу! Сами гадайте, кому он скорей поверит!
Разбойники неуверенно переглянулись. Было очевидно, что Василиса попала в цель.
– Вот говорил я тебе, Федька… – пробормотал высокий парень. – Как бы и впрямь худа не вышло… Отойди от барыни, бог уж с ней.
– Отойти? – ухмыльнулся Фёдор. В его глазах мелькнула злая искра. – Васёнка мне не указ! У меня, может, своя такая была! Да не невеста, а жена! Была, покуда барин её не увидал… Да будь они прокляты все!!! – вдруг заорал он замахиваясь топором. Послышался глухой удар. Два вопля – Дунькин и Василисин – взметнулись над дорогой. На грязное колесо дрожек плеснуло кровью.
– Лихо, Федька… – бормотнул дядя Фрол, отворачиваясь и незаметно крестясь. – Аккурат надвое…
Тяжело дыша, Фёдор отбросил топор, вытер рукавом лицо. Глухо, отрывисто сказал:
– Уходить надо живей. Васёнка, с нами пойдёшь!
Василиса выскочила из дрожек, рухнула на колени рядом с телом Закатовой и, схватившись за голову, завыла сквозь зубы. И в тот же миг на неё зверем кинулась Дунька.
– Сука! Сука проклятая! – взахлёб, давясь рыданиями, кричала она. – В аду тебе гореть, христопродавица! Разбойничья подстилка! Говорила я барыне, всё я про тебя знала, сука, псица окаянная! Пригрели мы с Настасьей Дмитревной гадюку на груди-и-и… Ни совести в тебе… ни благодарности… Отплатила за добро… Ой, Настасья Дмитревна, ой, бедная моя, бедная, да за что же… Сдохни, мерзавка, анафема тебе навечно!!! Проклята будь до седьмого колена, иудища!
– Дунька, уймись… Дунька, грех тебе… – бормотала Василиса, не уворачиваясь от яростных Дунькиных кулаков. – Дунька, да дитятю подыми, орёт ведь… Дунька, да напраслина же…
– Напраслина?! Ах ты, ведьма!!! – Дунька снова бросилась на неё, но сильный удар Фёдора отбросил няньку в кусты. Следом полетел и младенец.
– Забирай своё отродье! Да прочь пошла, дурища! Ванька, Фрол, берите Васёну! Иван, да возьми её на плечо, вишь – не в себе девка… Коней забирайте, и – пора нам! – он наклонился к неподвижному телу. – Вот ведь чёрт… одно прозванье, что барыня! Ни серёг, ни цепки стоящей, один крест… Да и тот медный!
– Не сымай с покойницы, грешно.
– Без тебя знаю. Да живей там с лошадьми-то!
Василиса бешено отбивалась, но ей зажали рот, скрутили. Иван вскинул её на плечо и поволок в чащу. Как только разбойники, ведя в поводу лошадей, скрылись в лесу, Дунька кинулась к своей барыне. И – вскричала утробно, страшно. В кустах надрывалась малышка. Бесформенным кулём валялся на обочине кучер. Дрожки тянули оглобли в серое, сумрачное небо. Натужно шумел бор.
В небе над тайгой парил ястреб. Он то спускался ниже, к самым макушкам могучих кедров, то, поднимаясь, делался похожим на крохотную точку, и Ефиму Силину приходилось щуриться против солнца, чтобы не упустить его из виду. Начало мая 1862 года выдалось в Иркутской губернии жарким, душным, грозовым. В воздухе сильно парило. Телега, груженая сырой глиной, мерно поскрипывала. Цвели травы, в воздухе облаком висела пыльца, и от этого сладкого запаха Ефиму страшно хотелось спать. Шагая рядом с лошадью, он то и дело встряхивал головой и от нечего делать прислушивался к разговору брата с заводским инженером.
– И к чему опять воз-то целый наклали, Василь Петрович? – удивлялся Антип. – И третьего дня ещё столько ж привезли… Всё едино мужики в Синей балке летом рыть будут! Летом доставят, и печи, какие надо, переложим. Этого-то, что мы нарыли, дай бог, на одну только печь хватит – и ту не в заводе, а в избе у кого…
– У меня, Антип, видишь ли, одна задумка имеется. – отозвался инженер, задумчиво вертя в губах соломинку. Василий Петрович Лазарев прибыл на завод три года назад. Это был огромный, хорошо сложенный силач тридцати двух лет с грубоватым, загорелым до кирпичного цвета лицом и светлыми, выгоревшими, как прошлогодняя солома, волосами, всегда находящимися в беспорядке. Из-под этой встрёпанной копны недоверчиво смотрели на божий мир светлые, почти прозрачные глаза с чёрной, острой точкой зрачка, которые поначалу пугали заводчан:
«Ишь, как глядит-то мастер новый… Чисто волчище таёжный! Небось, похлеще Рибенштуббе окажется!»
Каторжане до этого вдоволь намучились с прежним мастером – упрямым и бестолковым немцем – и не ждали от нового начальства ничего хорошего.
Лазарев, однако, удивил всех. Начал он с того, что отказался занять квартиру прежнего инженера, заявив, что семьи у него нет и хоромы в шесть комнат ему без надобности. Василий Петрович водворился в крошечной квартирке при винницах, которую немедленно забил книгами до самого потолка, выставил всю прислугу, объявив, что вполне способен обслуживать себя самостоятельно, и попросил для себя лишь кухарку, серьёзно пояснив удивлённому начальнику завода, что сам готовить по-людски, вот беда, так и не выучился.
В первый же день своей службы Лазарев обегал весь завод. Его можно было увидеть и в винницах, где в огромных перегонных котлах ворочалась брага, и в подвалах, где в печах билось белое пламя и сновали с лопатами голые до пояса кочегары, и у реки, откуда бабы тащили в упряжках воду, и в лесу, где в ямах пережигался уголь, и на дальнем карьере, на отломах которого добывалась глина для печей. Каторжане, приученные старым мастером при его появлении класть наземь инструменты и по-солдатски вытягиваться, пытались и с новым начальством вести себя так же. Лазарев сначала изумлялся этому, потом смеялся, потом растолковывал, что он не генерал и никакой военной выправки в своём присутствии не требует. Мужики качали головами и на всякий случай не спорили: присматривались. Когда Лазарев спрашивал их о чём-то, отвечали осторожно, с оглядкой. Но Василий Петрович оказался упрямее каторжан и не отвязывался до тех пор, пока не получал полного и обстоятельного ответа на свой вопрос.
Понемногу все привыкли к тому, что новый мастер пакостей народу не чинит, разговаривает по-человечески и к начальству жаловаться из-за пустяков не бегает. Работы на заводе было много, старые печи и винницы постоянно требовали то ремонта, то полной замены. Лазарев едва успевал повсюду, и в помощь ему отдали братьев Силиных.
Дело было летом, сезон на заводе закончился, начинался ежегодный ремонт печей и винниц. Перед началом работы Лазарев собрался обойти несколько глиняных отвалов и поискать другую глину. Прежняя, по его мнению, начала истощаться. Как ни в чём не бывало, он сообщил братьям, что начальник завода разрешил им отправляться с ним.
В мужском бараке это распоряжение вызвало недоверчивый смех:
«Во, ей-богу, даёт анжинер! Нешто не боится один с варнаками в тайгу идти? Али смелый через край, аль дурак! Любой бы испугался, что ему кандалами по башке шарахнут да сбегут! А этому хоть бы что! Хоть бы конвой попросил!»
Наутро оказалось, что никакого конвоя и в помине нет: с завода Лазарев и Силины вышли одни. Идти нужно было далеко: за шесть вёрст. Лазарев шёл легко и споро, походкой человека, которому много и часто приходилось ходить пешком. Утомить братьев тоже было трудно, и они топали следом, в лад брякая тяжёлыми ножными кандалами. Сначала Лазарев просто поглядывал на них. Потом начал хмуриться. Потом остановился и сердито сказал:
– Ребята, вы бы их, ей-богу, сняли. И вам легче будет, и мне. Никаких нету сил слушать этот малиновый звон!
Силины замерли. Переглянулись. Затем Ефим ухмыльнулся, а старший, Антип, осторожно сказал:
– Что это вы такое говорите, барин? Кто ж нам дозволит железа снимать? За это сами знаете что полагается… Да и как без кузнеца-то? Ежели вас звон беспокоит, так цепь подвязать можно, это мы мигом, а снимать – куда ж это гоже?..
– Правда? – искренне удивился Лазарев. – А мне рассказали, что эти штуки вы очень легко снимаете, когда хотите!
Антип не нашёлся что ответить и в полной растерянности полез в затылок. Зато Ефим расхохотался на весь лес:
– Ну, вы, барин, право слово, смелый! И не боитесь, что в тайгу урвёмся без желез-то?
– Ефим! – усмехнулся и Лазарев. – Мне почему-то кажется, что если вы вздумаете… как ты выразился?.. урваться, то вас ни я, ни эти железки особенно не удержат. Так или нет?
Ефим на всякий случай промолчал.
– То есть, снять не можете? – не унимался инженер. – Стало быть, это пустая болтовня, что кандалы стаскиваются с босой ноги через пятку?
Тут уж, не выдержав, рассмеялся и Антип.
– Отчего ж пустая? Можно… Только нам-то к чему? Мы люди смирные… Порядок есть порядок, к чему под кнут зазря соваться?
– Антип, под мою ответственность. – серьёзно сказал Лазарев. – Нам ведь с вами ходить придётся много. Лазить по тайге с такими украшениями будет очень тяжело, и мне от вас, получается, не будет никакого проку. Мужики, поймите, мне ведь делом нужно заниматься! Ведь, если эти кандалы легко снять, стало быть, и надеть потом обратно труда не составит?
Братья молчали, осторожно переглядывались, подавая друг другу какие-то знаки губами, бровями и пальцами. Некоторое время Лазарев наблюдал за ними. Потом вздохнул:
– Ладно. Когда надоест строить рожи – тогда и скажете мне, что решили.
Не оглядываясь более, он зашагал вперёд. Силины с мерным звоном тронулись следом.
Они отмахали ещё с полверсты, когда за спиной Лазарева послышался, наконец, голос Антипа:
– Барин, железа-то тоже так просто не снять. Их сперва сплюснуть надо.
– Ну так найди камень. – не оборачиваясь, велел Лазарев.
– Можно и камнем, только долго. Да и несподручно. Лучше мы вечерком в остроге… А завтра уж, коли не передумаете…
– Стало быть, сегодня день пропал? – огорчился инженер. – Ну, ладно. Завтра – так завтра. А с рук кандалы нельзя этаким же манером поснимать?
– С рук никак. – усмехнулся Антип. – Руки, извольте видеть, в тесное железо забирают, а не на сапог с портянкой. Тут без зубила или кузнеца не выйдет, да и назад потом не наденешь.
– Жаль… – расстроился Лазарев. – Нам ведь копать много придётся, тяжело будет.
– Это ничего, ваша милость, мы привычные.
Вечером Антип мельком уронил в остроге:
«Стоящий, кажись, анжинер наш.»
Ефим же окончательно зауважал заводского мастера после того, как однажды в лесу они с Лазаревым в шутку взялись бороться. В полную силу на каторге Ефим дрался редко, понимая, что может всерьёз покалечить противника. Но сейчас, к своему страшному изумлению, он почувствовал, что вполсилы ему инженера не одолеть. Пришлось бороться по-настоящему. И всё равно Ефиму понадобилось больше минуты, чтобы уложить Лазарева на лопатки.
– Да, здоров же ты, однако! – уважительно сказал тот, поднимаясь на ноги и отряхивая с куртки хвойные иголки. – Это первый раз в моей жизни!
– А вы у меня второй такой. – отозвался Ефим. – Обычно-то одним пальцем заваливаю враз! Ну, кроме Антипки, понятное дело, его и не считаю.
– А кто же тогда был первый? – заинтересовался Лазарев. Но Силин, не ответив, задал встречный вопрос:
– А вы-то, барин, где так насобачились? Через спину меня кинули, я и не понял как…
– Так я же кронштадский! – усмехнулся Лазарев. – Отец служил во флоте, брал меня сызмальства на корабли. Матросы и научили! И этому, и ещё много чему. Вот ты ремнём с медной бляхой дрался когда-нибудь?
– У нас на деревне за такое смертным боем бьют. – без улыбки сказал Ефим. – Слава богу, кулаком допрежь обходился.
Время шло. Все на заводе уже привыкли, что за главным мастером повсюду следуют братья Силины. Вскоре по личной просьбе Лазарева начальник завода дал разрешение снять с них ручные кандалы. Учились парни всему быстро, и через год они уже на равных с инженером могли распоряжаться на постройках новых печей. Летом Антип и Ефим неизменно сопровождали Лазарева в его блужданиях по тайге в поисках «хорошей глины». Та, что до сих пор использовалась для заводских построек, инженера совершенно не устраивала. Вечерами у себя на квартире он возился с образцами глин из разных ям и отвалов, за которыми иногда приходилось ходить за двадцать вёрст. Лазарев сравнивал куски синей, серой и белой глины, ругался, вручную формовал из неё кирпичи, обжигал в заводских печах, что-то читал в своих книгах, кому-то писал в Петербург и подолгу ждал ответа, потом опять тащил с собой Силиных в тайгу на поиски. Во время этих походов велись разговоры на самые разные темы. Понемногу Лазарев узнал и о жизни Антипа и Ефима на селе, и о том, как братья попали под суд, и о пути по этапу, и о разных каторжных событиях. О себе инженер тоже говорил не таясь: рассказывал о семье, в которой все были моряками, о том, как учился в морском корпусе, как потом пошёл в горную инженерную школу…
– Не пустил вас, стало быть, родитель по семейному-то делу? – удивлялся Антип.
– Да, видишь ли, ничего не вышло: открылась морская болезнь. Совершенно не выношу качки даже самой малой! Куда уж тут на корабль… Но я, знаешь, не в обиде на судьбу. – Лазарев вдруг, прервавшись на полуслове, прыгал в неглубокую каменистую яму и несколько минут сосредоточенно копошился в ней.
– Не золото ли сыскали, Василь Петрович? – усмехался Ефим.
– Не золото… но тоже неплохо. – Лазарев появлялся на поверхности с куском зеленоватого камня в руках. – Похоже на медный колчедан… неужто и здесь встречается? Надо будет дома посмотреть по справочнику.
– И стоило из-за этого в Сибирь забираться? – пожимал плечами Антип.
– А чем тебе Сибирь не Россия? – по светлым волчьим глазам инженера было не понять: шутит он или говорит всерьёз. – Вольному человеку и здесь не худо. Это вот вам…
– Нам тоже годяще. – серьёзно отзывался Антип. – Скоро по закону с нас железа сымут – и вовсе рай наступит. Там и до поселенья недалеко – проживём! Всё лучше, чем в Расее! Там семь шкур с нашего брата дерут, да голодуха такая, что впору в гроб самому укладываться! А здесь и харч подходящий, и работой не сильно мучают… ежели, конечно, на рудник не угодишь… и на съезжую почём зря не таскают…
– И бабы красивые! – вклинивался Ефим. – Здесь же, Василь Петрович, со всей Расеи самый цвет маковый собрался!
– Это с чего же ты взял? – смеялся Лазарев.
– Так сами же судите! Тут половина девок за то оказались, что барину даваться не хотели да ненароком его и порешили! Стало быть – девки красивые да характерные! Есть из чего выбирать-то! А без бабы в любом хозяйстве несподручно! Это ж и в Писании сказано: есть баба – так убил бы, а нет бабы – так купил бы! А здесь-то, на заводе, – сущая ярманка бабья! Берите каку хотите – за копейку пуд!
– Угу… Чтобы тоже схлопотать по башке?
– Ну, это уж… какая попадётся! И потом, осторожнее же с бабами надо – с оглядкой, с лаской… Нешто вас в ваших ниверситетах тому не учат? Вон, я и Антипку уж какой год пристроить не могу… Хоть ты режь его, не женится!
– Антип, а в самом деле, чего это ты? – удивлялся Лазарев. – За тебя-то, я думаю, любая тут с радостью пойдёт. Неужели до сих пор никого не присмотрел? Ефим вон давным-давно устроился…
– Не спешу, Василь Петрович. – отмахивался Антип. – Уж с этой глупостью всегда успеется. Вот железа сброшу, на поселенье выйду, хозяйство какое ни есть заведу – тогда, может, и подумаю. А ты прикройся… остолоп.
Последнее адресовалось брату, и тот неловко умолкал.
Единственным, что Антипу Силину не нравилось в заводском инженере, была неистребимая страсть Лазарева к хмельному. Раз в два месяца Василий Петрович аккуратно запивал. Впрочем, пьяным он безобразий не чинил, сидел у себя в берлоге, гоняя за водкой Ефима (Антип нипочём не соглашался на подобные поручения), пил всегда один, бормоча при этом страшные флотские ругательства, и стучал кулаками по стенам и столу. Антип обычно терпел три-четыре дня. Затем приходил, вооружённый двумя вёдрами воды и, заперев все двери и окна, насильственным образом выводил своё начальство из запоя. На другой день Лазарев уже был на ногах и в ясном уме. И он, и Силины изо всех сил делали вид, что ничего не произошло. И лишь однажды Антипа прорвало:
– Ведь вот грех вам, ей-богу, Василь Петрович! С чего вас к винищу тянет? Сами глядите – одно безобразие через это! Работа стоит, Брагин ругается, от людей страм! И ведь коли б хоть дурачок какой был али пьянь каторжная! Ведь человек учёный, книжки вон какие толстые читаете! Для чего вам эта погань – в разум не возьму!
– От тоски, Антип… – хмуро усмехался, глядя в сторону, Лазарев. – Все русские только от неё, зелёной, и пьют!
– Вы за всех-то не насмеляйтесь говорить! Мы вон с Ефимкой отродясь…
– А почему, кстати? – удивлялся инженер. – Я смотрю, здесь, на заводе, вся каторга очень даже бодро употребляет…
– Мы – не каторга! – обиделся Антип. – Нам тятька заказал до могилы вина не пить, а далее – как сами пожелаем! Он и сам в рот не брал, и нам никому не дозволял! Брат Сенька уж женатый был, трёх дочерей имел, раз в престольный праздник себе дозволил малость – да не посторожился мимо тятиного дома домой идти! Тятя увидал, вышел, во двор Сеньку заволок, чересседельник с воза снял – и давай Сеньку-то вразумлять! А ворота позабыл прикрыть, так всё село на сие поученье смотрело! Семён опосля забожился к кабаку и на полверсты подходить! А ваш папенька, не в обиду будь сказано, видать, упустил вас из рук-то… Вы хоть бабу в дом какую ни есть возьмите, прав Ефимка! Пущай следит за вами!
Последнему совету Лазарев довольно быстро последовал. Кухаркой в его холостяцкую берлогу направили Меланью – молодуху жгучей и смуглой южной красоты. Восемнадцатилетней девчонкой она пришла на каторгу за убийство свёкра. Старику понравилась юная жена сына, он прижал её в сенном сарае, Меланья принялась вырываться и, схватив первое, что попалось под руку, от души треснула старого греховодника по голове. Под руку ей попался железный штырь: свёкор немедленно отдал богу душу. Меланья получила десять лет каторжных работ и отправилась по этапу. Когда на заводе появился Лазарев, она уже считалась поселенкой и служила у заводского попа.
Оказавшись в инженерских кухарках, Меланья в два дня навела порядок в комнатах, отмыла окна, выскоблила полы, отстирала на реке жирной синей глиной половики и, воцарившись на кухне, принялась стряпать щи и котлеты. Получалось у неё ловко, и Лазарев вполне оценил её старания: через две недели всему заводу было известно о том, что Малашка «протырилась» в любовницы инженера.
«Вот и слава богу, разговелись, Василь Петрович!» – радовался Ефим. – «А то что ж это – без бабы жить… вовсе скверно! И как вы только Малашку сговорили-то? Баба ведь строгая! И на руку скорая! Мужики наши сколько раз пробовали – ничего не выходило! Так и отлетали от неё кубарьками! Вот что значит – учёный человек подвернулся!»
Лазарев улыбался, молчал. Меланья ходила по заводу счастливая, носила строгие «городские» чёрные платья и узорные полушалки и завистливых шепотков не слушала. Дом инженера она держала в порядке, готовила, убирала, – не трогая, впрочем, фантастический беспорядок на рабочем столе, – чинила незатейливое лазаревское платье и бельё и даже развела в палисаднике цветы. Вместе с инженером они иногда надолго уходили в тайгу, гуляли там по прилескам, о чём-то серьёзно разговаривали. Работающие в ямах возле Судинки жиганы божились, что заводской инженер на руках носит Малашку к реке, и оба при этом хохочут так, что птицы стаями поднимаются с берегов. Антип, узнав об этом, окончательно успокоился:
«Всё! Прибрала Малашка Василья Петровича к рукам! Глядишь, теперь и грех запойный с него скатится! Когда добрая баба за дело берётся, всё на лад идёт!»
Старший Силин как в воду глядел: уже больше года ему не приходилось являться в дом своего начальства с полными вёдрами в руках.
… – Понимаешь, мы ведь год из года чиним эти заводские печи! – задумчиво говорил Лазарев, сшибая прутиком высокие метёлки донника. – И я никак в толк не возьму: откуда постоянно эти трещины? И ведь не по кирпичным швам, это бы ещё полбеды… а по самому камню? И, главное, аккурат посередине сезона хотя бы одна винница выходит из строя! И хорошо ещё, если без жертв и пожаров!
– Известно, отчего, – от жару… – пожимал плечами Антип. – Нешто можно этакое вытерпеть – ведь с утра до ночи топят! Как печь ни сложи – а всё едино больше сезона не выживет!
– Ну и почему, собственно? Я бывал на заводах в Поволжье, и там такого же сложения печи выдерживают без ремонта несколько лет. Домны на Чусовой – и те держат, а там ведь чугун льют! А у нас тут что? Нет, как хочешь, а всё дело или в глине, или в добавках!
– Уж какой год я от вас это слышу! – усмехнулся Антип. – А толку чуть! Уж чего только вы не пробовали!
– Сейчас должно получиться. – убеждённо сказал Лазарев. – Я говорил с Афанасием Егоровичем. Он дал добро на постройку пробной печи в новом корпусе! Всё равно раньше осени работы там не запустят, так мы с вами должны успеть…
– А вот эта, по-вашему, крепше будет? – недоверчиво спросил Антип, прихватывая с воза щепоть синеватой жирной глины и растирая её в огромной ладони.
– Мне кажется, да. Я провёл начальный анализ, и, похоже… Ефим, ну ты и зеваешь! Просто сквозняк по спине идёт! Чем ты ночью занят был?
– Прощенья просим, Василь Петрович, – закрыв рот, отозвался Ефим. – Танюшка у нас ночь напролёт пузом страдала. Известное дело – дитё малое… А Устька-то накануне вовсе не спала, потому новую партию пригнали. А там и обмороженные, и с язвами, и с дулями, и чего только нет! Ну, я её спать спровадил, а сам Танюшку всю ночь на руках и проносил… Уж светало, когда унялась!
– Знаешь, мог бы и сказать. – сердито заметил Лазарев. – Я бы тебе дал в кустах пару часов передремнуть…
– Ну, вот ещё! – отмахнулся Ефим. – И так у вас как у Христа за пазухой, грех Бога сердить… Ништо, не впервой. У тятьки в деревне, как страда, – бывало, и по три-четыре ночи не спали! И попробуй привались где-нибудь в кусту – родитель сейчас вожжами аль супонью поперёк хребта! Мы хоть и на оброке завсегда были, так тятька не хужей барина над душой стоял, пошли ему здоровья… Антипка, это кто там едет? Вон, по-над берегом?
– Где? – Антип вытер потный лоб, повернулся. Река, сияющая от зноя, бежала в каменистых, поросших низким подлеском берегах. Один берег, на котором виднелись серые крыши винного завода, был пологим; другой возвышался высоким, заросшим лесом крутояром, по которому шла к мосту проезжая дорога. Сейчас по этой дороге ползла, спускаясь, телега, запряжённая рыжим коньком.
– Ну, Микешка едет… Как всегда. На завод, верно, кого-то везёт.
– У, фармазон… – процедил сквозь зубы Ефим. – Видит бог, доберусь я до него, выжиги!
– Да забудь ты про этот рупь несчастный! – хохотнул Антип. – Уж три месяца тому, всё едино не выжмешь.
– Надо будет – и выжму, и выбью, только не в том же суть! Он же сам чуть не на кресте божился: отдам, Ефим Прокопьич, опосля Рождества! Рождество уж прошло давно, Троица на носу, – а рубля и в помине нет!
– Будто ты Микешки не знаешь? За полушку удавится – а тут рупь цельный…
– Нечего было тогда и трепаться! – мрачно заметил Ефим. – Антипка, может, прижмём его на мосту-то? В реку скинем? Пущай побултыхается, жила!
– Ума лишился? – нахмурился Антип, глазами показывая на Лазарева – который, впрочем, с большим интересом прислушивался к разговору братьев. – Понимай, что Микешка-то – поселенец, а ты – кандальник! Кому хужей-то окажется?
– Ну, хоть пужнуть-то можно? Бить не буду, право слово! Только постращаю! Василь Петрович, а?
– Ефим, не бузи! – строго велел Лазарев.
– И не буду, больно надо… Только где ж справедливость-то?
Но когда телега уже подкатывала к мосту, Ефим не утерпел. И, поднеся ладони воронкой к губам, издал тоскливый и протяжный волчий вой, далеко разлетевшийся по реке. Шедший впереди Лазарев недовольно обернулся. Антип вполголоса выругался. Ефим широко ухмыльнулся. Но улыбка сбежала с его лица, когда рыжий конёк вдруг пронзительно заржал, дёрнулся в оглоблях и, не слушая испуганных криков возницы, – понёс. Над рекой раздался отчаянный женский визг.
– Баб, что ль, он везёт?.. – изумлённо спросил Ефим, поворачиваясь к брату. Но Антипа уже не было рядом: он нёсся через камни и кусты, с треском ломая ветви, – напрямик. Ефим помчался следом.
Они вылетели на мост как раз в тот миг, когда по нему уже гремели копыта всполошённой лошади. Братья кинулись наперерез, Антип первым схватился за постромки, не удержался, отлетел в сторону. Телега накренилась, два истошных вопля взлетели над мостом, – и в это время подоспел Ефим.
– Стой, холера!!! Стоять!!! Тпру, нечистая сила, кому говорят! – он повис на вожжах, сдерживая лошадь. – Куда тебя, зараза, понесло?.. Сто-ой!
Рыжий, не слушаясь, метался в оглоблях. Ефима поволокло за ним по мосту. На мост посыпались узлы, саквояжи, чемодан, какие-то мешки. Прямо под ноги Ефиму вывалился вопящий Никифор:
– Ой, мужики, барыню-то споймайте! В реку ухнула!
Ефим оглянулся – и едва успел увидеть чёрную тень, мелькнувшую на речной глади. Крикнув: «Братка, держи рыжего!», он махнул через перила и полетел в воду.
Его сразу же прожгло холодом до костей. Река Судинка рождалась в вечной мерзлоте и не прогревалась до дна даже в самый страшный июльский зной. К счастью, Ефим почти сразу разглядел в тёмной воде колышущийся лоскут платья. Набрав полную грудь воздуха, он ушёл в стылую глубину, ударился лбом о донную корягу, подхватил лёгкую фигурку – и пробкой вылетел с ней на поверхность.
Брат и подоспевший Лазарев тем временем сообща, вцепившись с двух сторон в постромки, остановили бьющегося рыжего и поставили на ноги Никифора, который отделался располосованной в кровь щекой и шишкой на лбу. Когда над поверхностью реки появилась голова Ефима, все трое кинулись к краю моста.
– Барыню примите! – отфыркиваясь, хрипло крикнул тот. – Не трепещется… Наглотамшись, поди…
Втроём кое-как подняли на мост бесчувственную женщину в отяжелевшем от воды платье и плотной дорожной накидке.
– Не шевелится. – напряжённо сказал Антип. – Нешто вовсе захлебнулась?
– Не думаю. – отрывисто сказал Лазарев. – Нужно поскорей снять с неё накидку… и хорошо бы платье тоже. Подождите-ка… – он принялся расстёгивать блестящие круглые пуговицы. Антип тем временем отвёл мокрые волосы с лица женщины. Лазарев мельком взглянул на неё – и руки его замерли. С губ сорвалось невнятное восклицание. Антип непонимающе взглянул на него – но в это время на мост, отплёвываясь и ругаясь, выбрался Ефим. Его трясло от холода, скулы отливали синевой, по лицу бежала кровь из разбитого лба. Едва утерев её, Силин-младший набросился на Никифора:
– Микешка! Совсем твой рыжий ополоумел?! С чего он нести-то вздумал? Таёжный конь-то, волков всю жизнь слышит! Уж и вниманья обращать не должен давно! Как ты зимой-то ездишь, когда они за каждой ёлкой воют?!
– Вот ума не приложу, что со скотиной сотворилось! – дрожащим голосом оправдывался Никифор. Руки его тряслись, он никак не мог разобрать перепутавшуюся упряжь. – Прошлым годом медведь из тайги рявкнул – рыжий и ухом не повёл! Что с ним сейчас стряслось – в толк не возьму! Это, надо думать, оттого, что барыня за вожжи взялась…
– Чего?.. – не поверил Ефим. – Барыня – за вожжи?! Да чего ты врёшь-то, Микешка?
– Истинно тебе говорю! – перекрестился Никифор и с ненавистью взглянул на неподвижную женщину. – Дай бог им, конечно, и здравья, и благополучия, и чтоб не остудились… только никакого житья от них всю дорогу не было! Добро ежели хоть полверсты после Иркутска молчком проехала, а уж опосля-я… Всё повыспросила, до самых кишок добралась! И как мы тут живём, и много ль в лесу разбойников, и не страшно ль с каторжными обитать, и верно ль, что в тайге золото пластами лежит… Сама чепуху всякую рассказывает, что, мол, теперь в столицах бабы с мужиками равные и начальство это вовсе даже дозволяет, и скоро повсюду так же будет… Ни на миг не умолкала, а ведь от Иркутска пять дён ехали! К вечеру у меня аж звон в голове зачинался! Знал бы – и на целковые её не купился бы: живот-то дороже! Уж нынче к заводу подъезжаем, думаю – ещё версты три-четыре, и вздохну слободно, – ан нет! Подай ей, вишь ли, рыжим править! Умеет, мол, она! Я и так, и сяк, несподручно вам будет, говорю, непривычные… Ничего слушать не желает, дай ей и дай! Ладно, думаю, конёк смирный, финта не выкинет… Дал. И враз вижу, что отродясь она вожжей в руках не держала, а спускаться уж к реке начали… Отдайте, говорю, барыня, не сердите бога, берег крутой, как раз сковырнёмся! А она, как блажная, только смеётся и за вожжи держится! Я уж на господню волю положился, молюсь, чтоб рыжему под шлею какой гнус не ткнулся… а тут этот волк возьми да завой! И с чего ему середь весны приспичило?! Сорок лет через тайгу вожу, а весной да летом волков не слыхал! Потому – сытые они летом-то…
Ефим предпочёл оставить вопрос Никифора без ответа. К счастью, в это время застонала женщина.
– Ну что, Василь Петрович? Очуялась?
– Да, пришла в себя… – отозвался, не поднимая головы, Лазарев. – Видимо, просто был обморок… от слишком холодной воды. Платьем пришлось пожертвовать. С твоей стороны, Ефим, было довольно глупо так шутить!
Последние слова были брошены резким, холодным тоном, которого ещё никто на заводе не слышал от инженера. Ефим с досадой опустил голову. Антип поспешил сказать:
– Давайте, Василь Петрович, мы барыню укутаем чем ни есть, – и в завод скорей. Ефимка, Никифор, вы там узлы соберите, не дай бог, потеряется чего! Барыня-то, видно, не из простых, и платье дорогое… Не взыщет она с вас-то за него, Василь Петрович? Вон как сверху донизу разорвали, теперь и не починить, поди…
– Думаю, что не взыщет. – не сразу ответил Лазарев. Подняв женщину на руки и шагнув с ней к телеге, он медленно, словно раздумывая над каждым словом, сказал. – Дело в том, что это… в некотором роде… моя жена.
– Чего?.. – оторопел Антип. Но телега Никифора уже тронулась с места, и до Силиных долетел лишь крик инженера:
– А вы сушитесь – и возвращайтесь сами на завод! Глину всё-таки надо довезти, Антип! И про кандалы свои в кустах не забудьте!
– И то правда. – спохватился Антип. – Сейчас бы так и вернулись – будто вольные… Ну, что стоишь, анафема?! Рассупонивайся! Сушиться будешь! Тьфу, варнацкая твоя душа! Наворотил опять дел!
Ефим, не отвечая, ожесточённо тянул с себя через голову мокрую рубаху. Та не поддавалась, липла к телу и в конце концов разорвалась от рукава до подола.
– Тьфу, сгори ты, проклятая! – скомканная рубаха полетела в реку, серым лоскутом легла на воду и неспешно поплыла по течению. Ефим лёг навзничь прямо на рассохшиеся доски моста, закрыл глаза. Дождался, пока брат сядет рядом. Тихо спросил:
– Что ж будет-то теперь, братка?
– Не знаю. – не сразу отозвался тот. – Вон, стало быть, как… Жёнка у нашего Василья Петровича имеется. Где ж её носило допрежь-то? И отчего он про неё ни слова не говорил?
– Отчего… Кто ты ему, чтоб он тебе докладался? – хмуро усмехнулся Ефим. – Вот ведь чёрт… И надо ж было так барыню-то опрокинуть нескладно… Огребём теперь лиха!
В небе над рекой по-прежнему парил ястреб. Следя за его неспешным полётом, Антип вполголоса подтвердил:
– Теперь уж всяко может быть.
– А может, пронесёт? – без особой надежды спросил Ефим. – Василь Петрович – мужик справедливый. Он сам видел, что не нарочно я…
Антип с сердцем махнул рукой:
– Угу… Все люди справедливые-то… покуда до их собственных баб дело не доходит. Вот кабы твою Устинью кто с моста в реку сбросил из баловства пустого… Что бы ты с тем человеком сделал, а?
Ефим честно представил себе, ЧТО бы он сделал. Потемнев, передёрнул плечами.
– А тут дело вовсе мутное. – со вздохом продолжал Антип. – Сам суди: три года ни о какой жене ни слуху ни духу не было! И знать никто не знал, что мастер наш – семейный! А тут вдруг как с неба упала! Отколь мы знаем, что там промеж них было? Может статься, Василь Петрович теперь и про всякое справедливие забудет. Как ни крути, он – начальство, а мы – люди кандальные. Кабы тебя теперь на Зерентуй в рудники не сослали.
– Нешто за такой пустяк на Зерентуй шлют? – принуждённо усмехнулся Ефим. – Может, просто отхлестать велят – и всего-то дел… Первый раз, что ль? Спина, слава богу, своя, не казённая.
– Дай бог… Устинью-то с тобой, случись беда, не отпустят. И меня тож. Как будем, братка?
– Ты с Устькой тут останешься. – не поднимая взгляда, сказал Ефим. – Как ещё-то?
Антип молча посмотрел на него. Невесело усмехнулся каким-то своим мыслям, отвернулся. Чуть погодя сказал:
– Ты смотри, Усте Даниловне покуда ничего не говори. Чего её полошить зазря? Ей и так беспокойства хватает. Уж коли ясно наше дело станет, тогда…
– Без тебя знаю. – огрызнулся Ефим. – Не бойся. Не скажу.
– Устя, я, право, не знаю, что мы можем сделать. – вполголоса, тревожно сказал Михаил Иверзнев. – Нога как колода. Вероятней всего, заражение уж налицо. Даже если взрезать от колена до щиколотки… Лампасными разрезами… Всё равно там будет куча свищей, и… Он всё равно, считай, остался без ноги. Теперь только отнимать.
Помощница Иверзнева, не отвечая, молча убирала грязные тряпки. Это была сероглазая женщина лет двадцати трёх, с хмуроватым, тёмным от загара лицом. Между её широкими бровями лежала сосредоточенная морщинка. Волосы Устиньи были тщательно убраны под холщовую косынку. Между делом она вполголоса приговаривала:
– Потерпи, Илья Иваныч… Потерпи, сердешный, чутку осталось. Пошто ране-то не пришёл? Ведь такое не враз начинается! Чего ждал, какого царствия небесного?
– Думал – само пройдёт. – отрывисто сказал Илья Кострома. По окаменевшим желвакам на его скулах было видно, какую страшную боль он терпит.
Костроме было около сорока лет. Это был убеждённый бродяга, бывалый каторжанин и умелый вор. На его подтянутой, суховатой фигуре ладно сидел каторжанский азям, всегда подпоясанный с некоторым кокетством тканым кушаком, которым по неведомым причинам Кострома очень дорожил. Этот невозмутимый мужик со спокойной улыбкой и жёлтыми, как у лесного кота, глазами всю жизнь болтался по России – от Сибири до Крыма, – сидел понемногу во всех губернских тюрьмах, работал и в рудниках, и на фабриках, и на железной дороге, и не было такого ремесла, которого бы он не знал. На заводе Кострома распоряжался плотницкими работами, и новый корпус винницы под его руководством рос, как на дрожжах.
«К чему тебе бродяжить, Илья?» – искренне недоумевал Лазарев, глядя на то, как ловко Кострома управляется с топором. – «Я бы на твоём месте, когда вышел на поселение, собрал бы артель – и царские деньги зарабатывал!»
«Не… Тоска меня возьмёт, Василь Петрович!» – Илья безмятежно щурил золотистые глаза. – «Характер у меня не мужицкий, а воровской. Мне без рыску, без лихого дела хоть в петлю лезь – тоска… Когда вот на каторге проклажаюсь – тогда, конечно, роблю, а куда деться? Но вот как на воле окажусь!.. Тогда ночь-матка в помощь, Господь-Бог на стрёме! Сичас вот только тепла дождусь – и в тайгу! Лет с пяток обо мне и не услышите!»