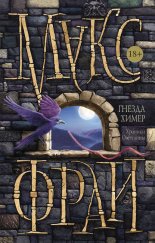Темные аллеи. Окаянные дни. Повести и рассказы Бунин Иван

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
О Бунине
Ровно неделю тому назад я писал: «Чем дороже нам Бунин, тем труднее для нас становится изъяснить иностранцу, в чем заключается его значение и его сила… Мне горько не только оттого вообще, что до сих пор Нобелевская премия не дана русскому, но еще и оттого, что так трудно было бы объяснить европейскому литературному миру, почему именно Бунин достоин этой премии более, чем кто-либо другой».
К счастью для всех нас и к великой радости для меня, оказался я все-таки не совсем прав. В самый тот день, когда появилась моя статья, Нобелевская премия была присуждена Бунину. Я по-прежнему думаю, что самое сильное в Бунине, его словесное мастерство, иностранному ценителю недоступно. Оказалось, однако, что и других качеств его творчества достаточно для того, чтобы премия была ему предоставлена. Члены Шведской Академии сумели оценить Бунина и по переводам – это делает честь их литературному пониманию.
Следует им отдать должное еще и в другом отношении. Они присудили лавры гонимому страннику, почти беззащитному и почти бесправному, да еще в такую как раз минуту, когда безумная корысть и корыстное безумие с особою силой толкают людей пресмыкаться перед его гонителями. Тут проявили они независимость и мужество, которые в другие времена для столь высоких собраний только естественны, но в наши горькие дни стали редки всюду. Таким образом, прислушавшись к голосу совести (и может быть – к ропоту русской литературы, давно ожидавшей к себе справедливости), члены Шведской Академии не только увенчали Бунина, но и отстояли собственную свою честь. Сознаю, что, конечно, в этих словах моих много гордости. Но наше положение не дает нам права быть смиренными, ибо здесь, в Европе, мы сейчас не самих себя представляем и не во имя свое находимся.
Все это относится, впрочем, не к самому Бунину и не к его творчеству, а к тому общественному и нравственному значению, которое бунинское творчество имеет для всех нас. Это значение так бесспорно и очевидно, что я больше на нем останавливаться не буду. Хотелось бы мне сказать о том, чему мы обязаны своим торжеством, – о писаниях Бунина. Но тут я испытываю большое затруднение.
О чем говорить? О последнем, наиболее совершенном из его творений, о «Жизни Арсеньева», за последнее время я писал на этих страницах неоднократно. Признаюсь – что-либо прибавить к ранее сказанному я сейчас не сумею, да и были бы то лишь отрывочные замечания, более или менее предварительные, ибо «Жизнь Арсеньева» не закончена: о ней уже можно сказать, что она прекрасна, но о ней еще нельзя говорить исчерпывающе. Очертить же бунинское творчество вообще – в газетной статье, без обстоятельной подготовки немыслимо. Тут обрек бы я себя на высказывание общих мест, а то и хуже – юбилейных плоскостей. Дело вовсе не в том, какую погоду любит описывать Бунин и похоже ли у него выходит, – а в том, почему в каждом отдельном случае он описывает такую погоду, а не иную и как, почему и ради чего, в конечном счете, он это делает. Дело не в том, как смотрит Бунин на русского мужика, а в том, почему ему понадобился русский мужик и что этот мужик выражает в бунинском мире. Писатель – не «очеркист», состоящий при Господе Боге, как нынешние советские авторы состоят очеркистами при Сталине. Он не воспроизводит мир, а пересоздает его по-своему. То, из чего он при этом исходит и к чему приходит, – составляет весь смысл его творчества. Этот смысл не вскрывается иначе, как путем кропотливого исследования, путем рассмотрения того, как совершается в писателе творческий акт, имеющий длинный ряд стадий, акт сложный, трудный, всегда мучительный. Рассмотрение этого процесса тем плодотворнее, что труд критика более приближается к труду самого писателя. Критик, внутренно не «проработавший» вещь вместе с самим писателем, как бы не написавший ее вновь за него, – в известной степени есть болтун, своей невыстраданной болтовней оскверняющий труд автора – всегда выстраданный (я, конечно, говорю о настоящих, о больших авторах). Каждая настоящая книга, в сущности, требует о себе тоже целой книги, а может быть, и нескольких. Условия нашей жизни таковы, что ни о чем подобном мечтать не приходится. Даже и при стремлении к самой большой добросовестности критику приходится ограничиваться приблизительно высказанными результатами своей очень приблизительной работы. Однако чем более чтит он писателя, тем более должен опасаться именно приблизительностей, неточностей. Сегодня я не стану говорить о смысле бунинского творчества, потому что поспешностью наскоро собранных мыслей боюсь унизить тот многолетний глубокий труд, которым это творчество воодушевлено и осуществлено.
Я беру с полки первый том Бунина в издании Маркса и читаю на первой странице:
- Шире, грудь, распахнись для принятия
- Чувств весенних – минутных гостей!
- Ты раскрой мне, природа, объятия,
- Чтоб я слился с красою твоей!
- Ты, высокое небо далекое,
- Беспредельный простор голубой!
- Ты, зеленое поле широкое!
- Только к вам я стремлюся душой!
Нынешнего Бунина от этих наивных, почти беспомощных стихов отделяют сорок семь лет жизни: стихи написаны 28 марта 1886 года. Однако ж, ему нет надобности за них стыдиться: они оправданы не только шестнадцатилетним возрастом юноши, их писавшего, но и глубокой литературной давностью. После них прошло не только сорок семь лет жизни, но и сорок семь лет творческого труда. Прочитав их теперь, Бунин может сказать со спокойной гордостью:
– Вот чем я был – и вот чем я стал.
Юношеские творения каждого выдающегося художника далеко отстоят от его зрелых произведений. У Бунина это в особенности так. Никакой человеческой проницательности не хватило бы на то, чтобы в этих стихах предугадать будущего автора «Жизни Арсеньева». Никакой проницательности не хватило бы и теперь, если бы мы вздумали в них этого автора узнавать. На произведения нынешнего Бунина похожи они не более, чем портрет младенца на портрет взрослого человека.
После этих стихов Бунину понадобилось целых четырнадцать лет, чтобы выпустить «Листопад», первую книгу, которой обязан он началом своей известности. За «Листопадом» последовали тома стихов и прозы, всегда отмеченных печатью дарования. Том за томом свидетельствовали о развитии автора, но о развитии все же весьма постепенном, даже замедленном. «Деревня», привлекшая к Бунину особое внимание читателей, при всех своих несомненных достоинствах, более дала пищи для наблюдений и рассуждений критике публицистической, нежели художественной. Целых тридцать лет Бунин копил в себе силы и как бы весь подбирался для того стремительного прыжка, которым был «Господин из Сан-Франциско» вместе со всем циклом замечательных рассказов, за ним последовавших. Эти тридцать лет были годами усиленного, тягостного труда.
Обывательская критика и писательская обывательщина в самом слове «труд» видит нечто страшное, не то унижающее представление о таланте, не то даже исключающее такое представление. Нет ничего не только ошибочнее, но и вреднее этого взгляда. Талант без труда есть талант, зарытый в землю. Обработка своего таланта есть для писателя долг порядка религиозного. Истоки искусства таинственны, иррациональны. В начале искусства лежит озарение, но само по себе озарение еще не есть искусство. Чтобы стать искусством, оно должно быть обработано. Искусство есть озарение обработанное, умелое. Великие художники XIX века на деле работали не менее своих предшественников, но они, по особым, очень сложным причинам, притворялись «гуляками праздными». Художники предыдущих веков не стыдились работы и в значительной степени смотрели на искусство как на ремесло. «Святое ремесло» – вот определение искусства, изумительное по глубине и краткости.
Русский народ любят упрекать в лености, в неумении работать, в неуважении к труду. Не решаюсь судить окончательно, справедливо ли это, но сильно сомневаюсь, чтобы народ-земледелец мог быть ленив. Однако даже если все-таки это так, то у нас нет оснований думать, что выразители национального гения непременно должны быть и выразителями национальных недостатков. И в самом деле – приверженностью к труду отмечены жизни Петра Великого, Ломоносова, Пушкина, исписавшего целые листы кругом для того, чтобы окончательно найти, наконец, две строчки. «Война и Мир» свидетельствует столько же о трудолюбии Толстого, сколько о его гении. Жизненные условия ставили Достоевского в необходимость работать наспех, но черновые его бумаги красноречиво нам говорят о напряженном, порою судорожном труде.
Всем писательским своим образом Бунин служит продолжению и новому утверждению этой прекрасной традиции. Не для того, чтобы умалить величину и достоинства его дарования, но для того, чтобы воздать ему всю честь, ему подобающую, хотел бы я назвать его тружеником. Если наступят для русской литературы более легкие дни, то, конечно, найдется исследователь, который последовательно и точно, в обстоятельном труде вскроет приемы бунинской работы – внутренние пути его творчества. Тогда окажется непременно, что у Бунина можно и должно учиться не только композиции вещи, строению образа или таким-то и таким-то литературным приемам, не только самому мастерству, но и умению работать и воле к работе. Путем анализа и сравнения исследователь такой докажет то, что сейчас мы только угадываем: он вскроет, как именно, в каких направлениях работал Бунин здесь, в эмиграции, не успокоившись на достигнутых ранее результатах и служа примером и, к несчастию, – укоризной слишком многим своим современникам, молодым и старым.
Какому-то интервьюеру он сказал на днях, что боится, как бы житейские события, связанные с получением премии, не помешали ему вернуться к прерванной работе. Другому журналисту говорил он о мечте возвратиться в Грасс – все затем же: работать. При этом сравнил он себя с тарасконским парикмахером, выигравшим пять миллионов и оставшимся в своей парикмахерской. С радостью узнаю Бунина в этой милой и умной шутке истинного художника и мастера. Во дни его торжества желаю ему труда и еще раз труда, – того веселого труда, который для художника Божией милостью составляет проклятие и величайшее счастие жизни, ее напасть и богатство, по слову Каролины Павловой:
- Моя напасть, мое богатство,
- Мое святое ремесло!
Ходасевич
Бунин, собрание сочинений
Собрание сочинений И. А. Бунина, предпринятое издательством «Петрополис – Дом книги», начало выходить. Пока поступили в продажу только второй и седьмой тома. Их появление почти совпало с годовщиной того дня, когда автору была присуждена премия Нобеля.
Для каждого писателя появление «собрания сочинений» – то же, что для живописца – ретроспективная выставка. Тут поневоле подводятся итоги, обозревается и неизбежно пересматривается прошлое. Такой пересмотр всегда полезен и поучителен. Но он сопряжен и с известным риском, которому подвергается не только автор, но и читатель. Перечитывая вещи, давно нам знакомые, мы невольно их видим в новом свете. Слово, некогда прозвучавшее в одной обстановке, по-иному звучит в другой, в нынешней, да и сами мы, меняясь с годами, воспринимаем его не совсем так, как восприняли некогда, в ту пору, когда услыхали его впервые. Словом, тут происходит явное испытание временем, и этому испытанию подвергается не только само произведение, но и наше понимание. Перечитывать то, что когда-то волновало и нравилось, всегда несколько боязно: не было ли ошибкою наше восхищение, не напрасно ли мы растратили «жар души», который всегда отдаешь любимому автору? Еще печальней, когда разочарование постигает нас неожиданно. Так, например, было со мною несколько лет тому назад, когда я вздумал перечитать прозу Федора Сологуба: я прочел «Жало смерти», потом «Мелкого беса» – и у меня не хватило мужества приняться за «Творимую легенду». Однако ж бывает обратное: радостное сознание того, что некогда прочитанное заключает в себе достоинства, которых мы раньше не заметили или не вполне оценили. Такую именно радость доставил мне в особенности второй том Бунина.
Начать с того, что он превосходно составлен. В него входят всего три вещи: «Подторжье», «Деревня» и «Суходол». Они писаны в 1909–1911 годах, и события, в них изображенные, разыгрываются, как я думаю, в одних и тех же местах. «Подторжье» – небольшой рассказ, почти бесфабульный. Можно бы его назвать даже очерком, если бы это слово не вызывало представления о тех нудных, бескрасочных очерках, что в изобилии печатались некогда в «Русском Богатстве» и в «Мире Божьем», а ныне печатаются в советских журналах. «Подторжье» как раз именно и прельщает совсем обратным: силою колорита. Служит оно как бы пестрым занавесом, которому предстоит раздернуться и за которым нам будут показаны зрелища, более исполненные движения и драматизма. Однако ж, на занавес уже нам дается основная гамма цветов и отчасти набросан пейзаж, которому суждено повторяться в «Деревне» и «Суходоле». Герои «Деревни» и «Суходола» порой посещают тот самый уездный город, на окраине которого, между монастырем и острогом, происходит «Подторжье». Монастырь, острог и бегущее между ними шоссе порой мелькают в «Деревне» и в «Суходоле». Можно бы также сказать, что «Подторжье» служит как бы эпиграфом к этим двум повестям.
«Деревня» и «Суходол» имеют глубокое внутреннее единство. В них одинаково представлена деревенская, земляная Россия. В этом смысле исполнены обе повести одного духа. Этого единства не должно упускать из виду и при чтении. Одна повесть дополняет другую, но сюжетно и хронологически обе весьма различны, отчасти даже противоположны. В то время как «Деревня» изображает Россию мужицкую, переживающую смуту 1905 года, в «Суходоле» мы видим Россию помещичью, причем вводный рассказ Натальи, составляющий сюжетную сердцевину повести, относится к последним годам крепостного права. Однако этими различиями дело не ограничивается. Еще глубже в них – различие чисто художественное, литературное. «Суходол» писан тотчас после «Деревни», но между ними Буниным пройден немалый отрезок его художественного пути.
Признаюсь, я не помню в отдельности ни одной критической статьи из числа тех, которые были посвящены «Деревне» тотчас после ее появления. Помню лишь то, что статей было много и почти все они были шумные. В те времена немногие голоса критиков-литературоведов заглушались голосами критиков-публицистов, то есть попросту публицистов, смотревших на литературу как на экран, приспособленный для отражения общественной жизни. Наскоро пробормотав что-нибудь о «бунинском чувстве природы» или об «удивительном бунинском языке», публицисты тотчас обращались к той теме, которая одна только и занимала их искренно и ради которой читали они не только Бунина, но и все прочее, от Пушкина до Вербицкой. Начинался спор, по существу политический, а не литературный. В соответствии с политическими своими предубеждениями одни заявляли, что Бунин в «Деревне» высказал о российском мужике «горькую правду», другие, напротив, что мужика он «оклеветал». В соответствии с теми или другими заявлениями доказывалось либо то, что оклеветанному мужику надо поклоняться, ибо он есть носитель правды, либо что надо этого темного мужика просвещать, читая ему вслух рассказы Засодимского и Златовратского и статьи Лаврова, Михайловского, Мартова и Плеханова, – и тогда он станет носителем правды. Нельзя отрицать, что некоторый повод для таких споров давал сам Бунин. Перечитывая сейчас «Деревню», отчетливо видишь, что в ней не порвана еще пуповина, некогда соединявшая Бунина с писателями из «Знания». Говорю это не в том смысле, что в «Деревне» слышится знаньевская «идеология». Я только хочу сказать, что в ту пору общественные проблемы волновали Бунина не совсем так, как они должны волновать художника. Социальные или политические коллизии служили ему не только материалом для разработки более широкой художественной темы, но и сами по себе представлялись достаточной темой. Еще взволнованный событиями 1905 года, Бунин в «Деревне» явственно ставил себе задачу – представить не самые эти события, но ту мужицкую стихию, которая ими была в особенности всколыхнута. Таким образом, публицистическая струна была им самим задета, и публицисты-критики, почуявшие в бунинской повести для себя поживу, на сей раз были уже не совсем не правы.
Минуло почти тридцать лет с тех пор, как разыгрались события, вызвавшие «Деревню» к жизни, и 24 года с тех пор, как он ее писал.
За эти годы мы стали свидетелями катастрофы, которой девятьсот пятый год был только бледным прообразом. Герои Бунина пережили разгульное торжество, за которое расплачиваются неслыханными страданиями. Той кары, которая выпала на их долю, они, во всяком случае, не заслужили. Но нельзя отрицать, что бунинская характеристика по существу оказалась верна. Читая «Деревню», я было вздумал отметить лишь те страницы, на которых даны черты, наиболее проникновенно угаданные и явно подтвержденные революцией. Я, признаюсь, намечал цитаты для будущей статьи, – но пришлось отказаться от такого намерения: что чему предпочесть – не знаю, одно без другого неясно, а всех выписок хватило бы на два таких фельетона, как этот.
Словом, публицистическая сторона бунинской повести оправдана событиями. Но это несчастие – не литературного, а исторического порядка. Со стороны же литературной нельзя не порадоваться тому, что «Деревня», оказывается, выдерживает испытание временем лучше, чем можно было предположить. Теперь, когда временем притуплено ее публицистическое острие, ясней проступает литературное мастерство, в ней заключенное. В особенности поучительно в ней то внутреннее равновесие, то планомерное и последовательное распределение материала, с которым Бунин сумел сделать занимательной повесть с очень слабо намеченной фабулой (что входило в его намерения) и с одинаковой силой представить очень большое число персонажей, из которых только один слегка выдвинут на первый план.
«Суходол», как выше указано, и близок, и противоположен «Деревне». В нем та же деревенская Россия показана со стороны помещичьей, усадебной. Но еще глубже такого сюжетного противоположения – противоположение литературное. О «Суходоле», в свою очередь, немало писано с точки зрения публицистической. Видели в нем изображение дворянского оскудения. Но теперь, перечитывая его вслед за «Деревней», нельзя не заметить, что общественная и бытовая сторона дела на сей раз занимала самого Бунина гораздо менее. В «Суходоле» ставил он себе несравненно более сложные и любопытные задания чисто литературного порядка.
Приходится пожалеть, что нет в эмиграции ни кружков, ни изданий, в которых можно было бы заняться серьезным, пристальным разбором литературных произведений. Это было бы очень полезно и для публики, и для писателей, – равно для старых и молодых. В частности – я уверен, что было бы в высшей степени поучительно рассмотреть хотя бы, «как сделан» «Суходол». Если вглядеться в него внимательно, то оказывается, что эта повесть, рассказанная так просто, непринужденно, – имеет сложнейшее построение. Центральная фабулистическая часть «Суходола» заключена в рассказе старой няньки Натальи. Но автору захотелось разработать и усложнить сюжет ее повествования настолько, что к прямому «сказу» он прибегнуть не мог. Нужно думать, что тут руководило им и некое чувство меры, подсказавшее, что столь продолжительный «сказ» неизбежною стилистической нарочитостью утомит и пресытит читателя прежде, чем повесть будет доведена до конца. Поэтому Бунин обратился к будто бы очень простому, на деле же – сложнейшему приему: рассказ Натальи то ведется от ее лица, то от лица автора. И вот – то, как и когда чередуются эти два повествовательных пласта, как переходят они один в другой, как сделаны эти переходы и на какие моменты они приходятся, – совершенно очаровательно и замечательно. Замечательней же всего, что при столь сложном построении удалось Бунину достигнуть необыкновенной экономии в изобразительных приемах и строжайшего внутреннего единства. От чьего бы лица ни велся рассказ, «Суходол» ни на миг ничего не утрачивает из той терпкости, из сдержанной силы, из того сухого и раскаленного воздуха, которыми весь он проникнут и которые, в сущности, составляют его внутренний импульс. Ясно, что «дворянский упадок» здесь не истинная тема, а лишь повод, которым Бунин воспользовался, чтобы отдаться единственному истинному оправданию творчества: самому творчеству. В «Суходоле», отдаленном от «Деревни», вероятно, всего лишь месяцами, Бунин уже неизмеримо больший мастер, чем в «Деревне». Здесь уже чувствуется канун «Господина из Сан-Франциско» и нескольких великолепных рассказов, составляющих с ним как бы один цикл: я говорю о «Петлистых ушах», «Казимире Станиславовиче» и т. д. Совершенно предположительно и с правом взять свои слова обратно, я бы все же решился высказать мысль, что именно между «Деревней» и «Суходолом» произошел в Бунине тот толчок, который впоследствии столь очевидно выдвинул его на первое место среди современных русских писателей. Правильно ли такое предположение, можно будет судить лишь тогда, когда собрание сочинений будет закончено.
Другой ныне вышедший том (седьмой в общем ряду) состоит из длинного ряда рассказов, написанных в эмиграции. Тема любви объединяет самые примечательные из них: «Митину любовь», «Солнечный удар» и «Дело корнета Елагина» (в котором, кстати, сюжет опять развернут сложнейшим образом). Однако предмет бунинского наблюдения и изучения – не психологическая, а иррациональная сторона любви, та ее непостижимая сущность (или та непостижимая часть ее сущности), которая постигает, как наваждение, налетает Бог весть откуда и несет героев навстречу судьбе, так что обычная их психология распадается и становится похожа на «обессмысленные щепки» иль на обломки, крутящиеся в смерче. Не внешние, но внутренние события этих рассказов иррациональны, и характерно для Бунина, что такие иррациональные события всегда им показаны в самой реалистической обстановке и в самых реалистических тонах. Быть может, именно на этом контрасте тут у Бунина все и построено, из этого контраста все у него тут и возникает. Если в этом пункте сравнить Бунина с символистами, то заметим, что у последних мир, окружающий героев, всегда определяется отчасти их собственными переживаниями, отчасти же (и еще более) – тем, как автор переживает переживания своих героев. Поэтому вся обстановка повествования, весь «пейзаж» (в широком смысле слова) у символистов подчинен фабуле. Он у них, так сказать, «пристилизован» к событиям. Обратное – у Бунина. У него события подчинены пейзажу. У символистов человек собою определяет мир и пересоздает его, у Бунина мир, данный и неизменный, властвует над человеком. Поэтому бунинские герои так мало стремятся сами себе дать отчет, каков смысл с ними происходящего. Они по природе не философичны и не религиозны в глубоком смысле этого слова. Можно также сказать, что они и не демоничны. Всякое знание о происходящем принадлежит не им, а самому миру, в который они заброшены и который играет ими через свои непостижимые для них законы. Таков Митя, убивающий себя из-за любви, но ни минуты не философствующий ни о любви, ни о смерти. Такова Сосновская, на любовь и на смерть летящая, как бабочка на огонь. Таков Елагин, загипнотизированный Сосновской и убивающий ее, но сам словно бы изумленный тем, что он сделал. (Кстати сказать: во внешнем облике Елагина и в каких-то тоже им не сознаваемых внутренних чертах есть нечто схожее с Лермонтовым.)
Такова в некоторых чертах своих «философия» Бунина. Ее можно принять или не принять. Но нельзя не принять того мудрого художественного метода, которым она выражена. Этот метод можно представить двумя простейшими словами: смотрите и переживите. Бунин обогащает нас опытом – не «идеями». Это и есть единственный законный путь художества, неизменно имеющийся в наличности везде, где есть подлинное искусство. Не худо, если из опыта возникают «идеи». Но беда, если за «идеями» нет опыта. Потому-то замечательных художников незамечательные критики порой обвиняют в «безыдейности». «В его голове не зародилась ни одна идея». Читатель может подумать, что это цитата из Антона Крайнего. Но нет. Это пишет Фаддей Булгарин о Пушкине.
Повести и рассказы
Антоновские яблоки
…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, – с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето – осень ядреная»… Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, – непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение – никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:
– Вали, ешь досыта, – делать нечего! На сливанье все мед пьют.
И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут – особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке – посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша – целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», – косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка – плисовая, занавеска длинная, а панева – черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»…
– Хозяйственная бабочка! – говорит о ней мещанин, покачивая головою. – Переводятся теперь такие…
А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах – весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски…
К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду – костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада, – сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги – два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони – и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки…
Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.
– Это вы, барчук? – тихо окликает кто-то из темноты.
– Я. А вы не спите еще, Николай?
– Нам нельзя-с спать. А, должно, уже поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет…
Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд… ближе, ближе, все громче и сердитее… И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю…
– А где у вас ружье, Николай?
– А вот возле ящика-с.
Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.
– Ух, здорово! – скажет мещанин. – Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли…
А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!
«Ядреная антоновка – к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился… Вспоминается мне урожайный год.
На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь – велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень – пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, – первый признак богатой деревни, – и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» – или разговоры в таком роде:
– И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?
– Как изволите говорить, батюшка?
– Сколько тебе годов, спрашиваю!
– А не знаю-с, батюшка.
– Да Платона Аполлоныча-то помнишь?
– Как же-с, батюшка, – явственно помню.
– Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.
Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, – виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.
Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, – все о чем-то думает. «О добре своем небось», – говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева – чуть не прошлого столетия, чуньки – покойницкие, шея – желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, – «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, – отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.
Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков – у Савелия, у Игната, у Дрона – избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, – так больше и желать невозможно!
Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, – очень недавно, – имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками, на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, – так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, – совсем черные значки на нотной бумаге.
Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба – небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек – невысоких, но домовитых – множество, и все они точно слиты из темных, дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия – какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне, – зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом – крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, – ветви лип обнимали его, – был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, – так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, – окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, – два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу… И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!
Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах… Во всех комнатах – в лакейской, в зале, в гостиной – прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, – антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», – а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, – крепкий и сладкий-пресладкий… Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой…
За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота.
Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни… Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни, и нет самого обладателя всего этого – помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.
С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро – и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь… сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь…
Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями… Пора на охоту!
И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много – все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.
– Жалко, что промахнулся! – говорит он, играя глазами.
Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом – красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:
- Пора, пора седлать проворного донца
- И звонкий рог за плечи перекинуть! —
и громко говорит:
– Ну, однако, нечего терять золотое время!
Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья – и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел – и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.
– Береги-и! – завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.
«А, береги!» – мелькает в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, – по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя – мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет… Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак… Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому…
Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, – и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза – вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.
Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме – тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди – целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, – дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьяновых корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами… Хороши и заметки на полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»… И невольно увлечешься и самой книгой. Это – «Дворянин-философ», аллегория, изданная сто лет тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, – рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»… Потом натолкнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, – точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум…» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам… Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска…
Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак и мечты… Мечты… Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины… А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою… Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза…
Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч… Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!
Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам… Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни… Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе… Хороша и мелкопоместная жизнь!
Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:
– Лукерья! Самовар!
Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.
– Отрыж! – медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги… Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою… Эх, кабы борзые!
В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.
– Ну, ну, девки, девки! – строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.
Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.
– С Богом! – говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле… Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…
Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…
- На сумерки буен ветер загулял,
- Широки мои ворота растворял, —
начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:
- Широки мои ворота растворял,
- Белым снегом путь-дорогу заметал…
1900
Подторжье
Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут тени и свет.
Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот наконец открылась в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему, – и веселее шевельнули вожжами, покатили вдоль него рысью, обгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.
И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шарахаются. И пахнет и конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, которым набиты тележные задки, больше же всего – городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных, однако, еще довольно просторно…
Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой. Город!
Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город между острогом и монастырем.
На большой двор подворья едва въехали – так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора – огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель, – навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмотьями ситцевых одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешаны старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает.
Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе», – сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. «А это и того лучше, – ответили ей. – Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика да позвольте руки немножко помыть».
К чаю купили калачей, колбасы. Потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:
– Что Господь даст! Что Господь даст! Он цены строит…
Вечером из-за крыш города – золотой свет большой низкой луны. Свет и тени лежат во дворе, который кажется красивым, а от фургона, от палатки даже несколько сказочным. Как тепло, что значит город! И оттого, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична.
Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону, – вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики.
Ветрено, но солнечно. И все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать.
Какое многолюдство и как все растет оно!
Густая толпа теснится возле ворот монастыря, – бородатые, волосатые и загорелые мужики, все чужие, новые для глаза, из дальних, задонских деревень, и великая пестрота нарядных баб и девок, тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннобородых старца в зеленых рясах и черных епитрахилях, с развернутыми хартиями в руках, широко раскрыты, и из них выезжают купеческие коляски.
Против монастыря – большой желтый острог, и из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа, – сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика.
В канаве возле шоссе спит молодой босяк с маленькой стриженой головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой, не деревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубахе и рваных дырявых брючках. Проходящие смеются, острят:
– Кто праздничку рад, тот до свету пьян!
А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на возу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы отупело от сиденья, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее.
А вот уже и пыльная, истоптанная трава выгона. Тут, на отлете, на самом ходу, пристроился со своим столиком квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отсчитывает сдачу медяками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком.
И с каждым шагом вперед все растет теснота – от народа, от телег, от скотины: поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза, опасливо пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов.
Вот даже и совсем надо остановиться, – ходу дальше нет: в расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка, сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод и поминутно с диким и вызывающим видом оборачиваясь на зрителей, цыган со смольной бородкой, с черно-золотыми глазами!
Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубахи, в плисовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища.
– По душам сказал – бери! – кричит он.
На него смотрят: пузатый седой барышник с серебряными брелоками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах навыпуск.
– По душам сказал, душевно говорю! – сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку. – По душам сказал – бери! Ну, сто монет – и пойдем жижку пить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!
– Вот что, – кричит барышник, – по-божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем: шесть красных – и кончайте! Лошадь работница! Не сопата, не горбата, животом не надорвата!
– Я лошадь не корю, – кричит барин. – Я лошадь принимаю!
– Лошадь дурить нельзя! – подхватывают в толпе.
– Дай бог дитё такое! – кричит цыган.
– Ну, и молитесь! Его святая воля!
– Ну, была б жива-здорова!
– Господи благослови! Кончайте!
Крестятся, яростно бьют по рукам, но барин кричит:
– Пять красных и магарыч мой!
И цыган бешено плюет:
– Тьфу! Сахаром тебе в уста, огнем из заду, этот магарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!
Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали.
– Стой! Что за шум, а драки нету? – кричит он. – Стой, я вас помирю!
И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.
Васильевское. 1909
Деревня
Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.
Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город – и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:
– Так точно-с. Так точно-с.
А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:
– Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!
Товар – зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели – в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки…
Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались – и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахору тобаку сигар и протчего».
Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в говоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.
Неутомимо гонял он за становыми – в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю… Жил он долго с немой кухаркой, – «неплохо, ничего не разбрешет!» – имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!
Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли… Ахали и говорили:
– Лют! Зато и хозяин!
Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:
– Живем – не мотаем, попадешься – обротаем. Но – по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать – нет, заметь, не побалую!
А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, – от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, – желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:
– Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил – эмирский бухар какой!
Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:
– У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.
– Сахаром в уста, любезный!
– Либо она у тебя с нюхательным табаком?
– Вот и вышел дураком!
А в лавке было еще люднее:
– Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?
– Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря Богу, так обеспечен, так обеспечен!
– А почем?
– Дешевка!
– Хозяин! Деготь у вас хороший есть?
– Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!
– А почем?
Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.
– Нет-с, уж я своего добьюсь, – говорил он знакомым. – Без детей человек – не человек. Так, обсевок какой-то…
Потом даже страх стал нападать на него: что же это – одна приспала, другая все мертвых рожает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем, Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка – так смирно и ласково-грустно, – темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные… Теперь лампадка горела постоянно.
Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники – и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.
– «Любит ли меня мой муж?» – спрашивала Настасья Петровна.
И оракул отвечал:
– «Любит, как собака палку».
– «Сколько детей будет у меня?»
– «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».
Тогда Тихон Ильич говорил:
– Дай-ка я кину…
И загадывал:
– «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»
Но и ему выходила чепуха:
– «Считай во рту зубы».
Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:
- Где мой дитятко лежит?
- Где постелюшка его?
- Он в высоком терему,
- В колыбельке расписной.
- Не ходите к нам никто,
- Не стучите в терему!
- Он уснул, започивал,
- Темным пологом покрыт,
- Расцвеченною тафтой…
И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела – только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:
– Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику…
И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно Бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было неумно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то – глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение Господне и честный покров всепетой Богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов Божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние…» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, – и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать… Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, Царица Небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:
– Подойдут собаки и голову нанюхают…
Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губы – особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился – носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась…
А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.
– Прекращаем-с, прекращаем-с! – с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. – Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!
– Ох, посмотрю я на тебя! – стонала Настасья Петровна. – Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!
– Не испугаете-с! – отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. – Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!
И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:
– И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с – и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!
В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать – и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного, как мел при свете зари… Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице – и над самой головой подняла ужасный рев корова…
– Каторга! – поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.
Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями… Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов – высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета… Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:
– Сколько просишь?
И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.
Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи – и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» – и он шел. Орал квасник:
– Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!
И он останавливал квасника.
– Вот-от морожено! – тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе…
И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.
Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей – ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, – да все таких, что смотреть страшно и тошно, – прямо полк целый!
Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой – в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство, на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок… Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах – бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру – похороны кукол… На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.