Лесков: Прозёванный гений Кучерская Майя
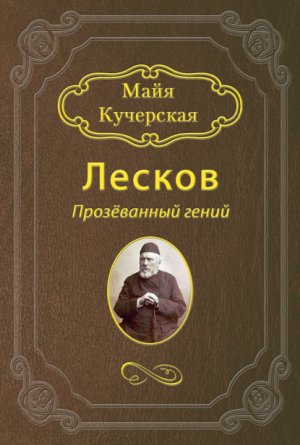
– Да нет, – ответил гимназист, застегиваясь, – наш князь очень добрый и наверняка простит!..»
В сочинениях Лескова Васильчиков тоже оказался в лестной роли. В рассказе «Владычный суд» губернатор принимает прямое участие в деле спасения еврейского мальчика, несправедливо забранного в кантонисты. Вполне вероятно, так всё и было.
Служба Лескова особенно оживлялась во время рекрутского набора, проходившего в мирное время один раз в год. Он должен был записать всех новоприбывших, выписать им обмундирование, деньги, квитанции о зачислении, попутно разобрать поступившие жалобы.
Молодой делопроизводитель взялся за дело рьяно. Вскоре, правда, выяснилось, что, попав из орловского присутствия в киевское, угодил он из кулька да в рогожку', лица стертые, как старые пятиалтынные, спертый воздух, вонючий запах папирос и составление бумаг до одури. Годы спустя Лесков вспоминал в рассказе «Владычный суд», во многом автобиографическом:
«Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут[ов] не осматривали) надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов. Канцелярия, состоящая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать, всё же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов лежало на одном лице – на делопроизводителе. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались люди служилые и опытные; А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня – едва лишь начавшего службу и имевшего всего двадцать один год от роду… Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во всё это время я не жил никакою человеческою жизнью кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна»69.
Но не в одной работе без продыха заключались мучения. В 1827 году, вскоре после восшествия на престол, Николай I издал указ о распространении воинской повинности на группы населения, прежде не подлежавшие призыву. Указ прицельно бил по евреям. Он к тому же позволял забирать еврейских, финских, польских, цыганских мальчиков с двенадцати лет в кантонистские школы, где из них готовили унтер-офицеров, военных музыкантов, топографов, аудиторов, писарей.
По закону кантонистов-иноверцев не должны были заставлять менять вероисповедание, но угрозами и побоями их всё равно вынуждали креститься. Учитывая их нежный возраст, сделать это было нетрудно. Так мальчики лишались не только дома, семьи, но и своей религии. Лесков во «Владычном суде» пишет:
«Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. <…> Пользуясь таким взглядом, евреи-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче… К самой суровости требований закона, ныне – слава Богу и государю – уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут[ов] почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а так как наборы были часты и производились с замечательною строгостью, то разбирать было некогда и неочередные принимались “во избежание недоимки” с условием перемены впоследствии очередными; но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось»70.
Новейшие исследования историков об армейских наборах при Николае I, воспоминания современников, обнаруженные нами архивные документы в один голос подтверждают: запись в кантонисты так примерно и проходила71.
Зачисление мальчиков действительно сопровождалось множеством злоупотреблений, причем как со стороны военачальников и чиновников, правдами и неправдами заталкивавших иудеев в православие, так и со стороны еврейского кагала, постоянно сдававшего в кантонисты детей вне очереди, в том числе еще не достигших двенадцати лет, чьи родители не могли откупиться. В итоге в кантонисты иногда отправляли десяти-, девяти- и даже восьмилетних мальчиков.
Забирали в рекруты и кантонисты и негодных к службе – инвалидов, чахоточных, умалишенных. Случались и курьезы: мещанин Мельников в 1854 году потребовал взять его старшего сына вместо младшего – «за аморальные поступки»72. А кто-то делал свой маленький бизнес: похищал чужих детей, обычно из бедных семей, и продавал в кантонисты[19]. Каждый кирпич мрачной казенной комнаты, в которой вершились судьбы, замечает Лесков, «наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах»73.
Николай провел в этой казенной комнате несколько лет. Поступив на службу в должности помощника столоначальника, два с половиной года спустя, в октябре 1853-го, он сделался столоначальником. В Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев (Центральний державний історичний архiв України, м. Київ), хранится несколько дел с его личной подписью: «письмо-водитель Лесков», «столоначальник коллежский регистратор Лесков», «столоначальник Лесков».
В основном это рутинные, связанные с очередным призывом бумаги, разъясняющие основные, вполне шаблонные шаги, которые следовало произвести рекрутскому присутствию[20]. Лишь один из сохранившихся документов, подписанных Лесковым, не такой унылый – это дело о злоупотреблениях Белоцерковского еврейского общества от 3 декабря 1854 года, свидетельство еще одной безуспешной попытки иудейской общины отдать в рекруты неочередных людей «по неосновательным причинам».
В трех из найденных нами дел за подписью Лескова упоминается и он сам, всегда в похожем контексте: ему как столоначальнику отпускают «на заготовление бланков и приобретение писчей бумаги для производства дел по набору сто руб [лей] сереб[ром] под расписку» с обязательством по окончании набора представить Казенной палате подробный отчет о расходовании этой суммы.
Казалось бы, вызывающая зевоту бюрократия, пыльные бумажки, рутина – если бы не даты. Годы службы Лескова в рекрутском присутствии – с 1853-го по 1855-й. Это время Крымской войны. После недолгой патриотической горячки началась череда военных неудач. С юга через Киев, располагавшийся недалеко от театра военных действий, потянулись обозы с ранеными, зачастую лежавшими в возах и арбах на грязной соломе. Вместе с успехами российских войск таяло и всеобщее воодушевление.
Значит, Лесков не просто принимал к зачету квитанции, закупал писчую бумагу и канцелярские принадлежности – он глядел в лица людей, которых отправляли умирать. Он был частью государственной машины, приносившей богу войны человеческие жертвы, поставлявшей на его пиры пушечное мясо.
От дядюшки Сергея Петровича Лесков знал, как дурно обстоят на войне дела с лазаретами, от родственников – как процветают «крымские воры», поставщики провианта в армию.
Недаром одна из первых его публицистических заметок будет посвящена взяточничеству врачей, состоящих при рекрутских присутствиях; там же он коснется и незаконного зачисления в кантонисты еврейских мальчиков, не достигших двенадцатилетнего возраста. Крымскому воровству Лесков посвятит рассказ «Бесстыдник», но о своей службе в присутствии напишет лишь однажды – и, видимо, не случайно это будет история с хорошим концом.
«Владычный суд» (1877) рассказывает, как еврейский мальчик, попавший в набор, был вызволен благодаря самоотверженности его бесправного отца, примчавшегося спасать сына в Киев, помощи военного губернатора Васильчикова и, главное, митрополита Филарета (Амфитеатрова). Подзаголовок рассказа – «быль». Лесков любил выдать небылицу за реальную историю, но в данном случае описываемые события, видимо, действительно имели место.
Предположить, почему о жителях Киева и собственных досугах, о гарных дивчинах и обитателях Печерска, о еврейском вопросе он потом писал часто, охотно, о службе в рекрутском присутствии – почти никогда, несложно. Вероятно, потому что в воспоминаниях этих было мало приятного и что-то навсегда «засело в печенях».
Призвание
И всё же главное, что принес Николаю Киев, – призвание, осознание того, для чего он отправлен в этот мир.
Совсем не сразу Лесков это разгадал. Ни в гимназии, ни в орловском, ни в киевском присутствии он и не помышлял о сочинительстве. Гоголь, Пушкин, Бенедиктов, Тургенев были недосягаемы, киевские литераторы – слишком нелепы.
И всё же именно в Киеве он впервые всерьез соприкоснулся с искусством – глядя на фрески, иконы, слушая иконописцев, с которыми свел знакомство. В 1874 году Лесков написал довольно странную повесть о пути к призванию, назвав ее сначала «Блуждающие огоньки», а позднее «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)».
Ее герой, молодой человек, изгнанный за шалости из кадетского корпуса, ищет себя. Он живет со своей строгой матерью в Киеве и однажды знакомится с художником Лаптевым, расписывающим храмы. Лаптев – человек раздвоенный и говорит о себе: «Пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грешу: чем не сумасшедший…»74 Он берет Меркула в подмастерья и буквально посвящает в таинство искусства: «Гармония – вот жизнь; постижение прекрасного душою и сердцем – вот что лучше всего на свете!»75
Повторяя эти слова наставника, Праотцев засыпает. Ему снится, что его вводят в античный Храм искусства. Храм этот наполнен отнюдь не ангелами и праведниками, свою красоту ему являют совсем иные существа:
«…все девы и юные жены стыдливо снимали покрывала, обнажая красы своего тела; они были обвиты плющом и гирляндами свежих цветов и держали кто на голове, кто на упругих плечах храмовые амфоры, чтобы под тяжестью их отчетливее обозначалися линии стройного стана – и всё это затем, чтобы я, величайший художник, увенчанный миртом и розой, лучше бы мог передать полотну их чаров-ничью прелесть»76.
Как видим, самое прекрасное в этом сне внезапно оказывается воплощено в девах и юных женах, к тому же обнаженных.
Лаптев открывает Меркулу, что у того есть художественный дар:
«Как же ты не художник, когда душа у тебя – вся душа наружи – и ты всё это понимаешь, что со мною делается? Нет; тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу»77.
И он ставит ученика на эту дорогу, объясняет ему, что занятие искусством подобно монашеству:
«Искусство… искусство, ух, какая мудреная штука! Это ведь то же, что монашество: оставь, человек, отца своего и матерь, и бери этот крест служения, да иди на жертву – а то ничего не будет или будет вот такой богомаз, как я, или самодовольный маляришка, который что ни сделает – всем доволен. Художнику надо вечно хранить в себе святое недовольство собою, а это мука, это страдание, и я вижу, что вы уже к нему немножко сопричастились… Хе, хе, хе! – я всё вижу!
– Отчего же, – говорю, – вы это видите? я ведь вам, кажется, ничего такого не говорил, да и, по правде сказать, никаких особенных намерений не имею. Я поучился у вас и очень вам благодарен – это даст мне возможность доставлять себе в свободные часы очень приятное занятие.
Лаптев замотал головой.
– Нет, – закричал он, – нет, атанде-с[21]; не говорить-то вы мне о своих намерениях не говорили, это точно – и, может быть, их у вас пока еще и нет; но уж я искушен – и вы мне поверьте, что они будут, и будут совсем не такие, как вы думаете. Где вам в свободные часы заниматься! На этом никак не может кончиться.
Меня очень заняла эта заботливость обо мне веселого живописца – и я, испытуя его пророческий дух, спросил:
– А как же это кончится?
– А так кончится, что либо вы должны сейчас дать себе слово не брать в руки кистей и палитры, либо вас такой чёрт укусит, что вы скажете “прощай” всему миру и департаменту, – а это пресладостно, и прегадостно, и превредно.
Я рассмеялся»78.
Судя по вступительной части, которую Лесков не напечатал (видимо, по требованию цензуры), Меркулу предстояло стать монахом, но необыкновенным – вместе с тем и «артистом», играющим на флейте и виолончели, и живописцем, расписывающим храмы. Незадолго до выхода повести «Детские годы» в свет, в марте 1874-го, Лесков напечатал в журнале «Русский мир» публицистические заметки «Дневник Меркула Праотцева», используя это имя как псевдоним. Под тем же псевдонимом в 1871 году он предлагал выпустить и другую свою повесть – «Смех и горе». Нетрудно предположить, что в образе Меркула, которого киевские фрески подтолкнули к творчеству, проступают черты автопортрета, пусть и достаточно вольного. Очень похоже, что «Детские годы» – поздняя, идеализированная версия собственного пути, роман воспитания по-лесковски.
Герой его сражается за себя, за свою «художественную жилку» с чужой, навязываемой ему правильностью, сухой и ясной, которую в повести воплощает мать. Она мечтает превратить жизнь сына в листок с расписанием, не ведая, как близка к гибели и вот-вот сломается под гнетом собственной гордыни. Вот какой она видит жизнь своего сына:
«Окончив чтение Библии, мы будем пить наш чай; потом девятый час пройдет в занятиях греческим языком, который очень интересен и изучение которого тебя, конечно, чрезвычайно займет. От девяти до десяти мы будем заниматься историей, – я хочу проверить твои знания, и за этим же легким предметом ты немножко отдохнешь от первого урока. Затем одиннадцатый час отдадим латинскому языку и потом будем завтракать, после чего ты будешь ходить на службу. Что ты там будешь делать в канцелярии – я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумеется, всё, что тебе поручат, делать усердно и аккуратно»79.
Неудивительно, что от такого выверенного, взвешенного и расфасованного по мешочкам существования герою хочется спрятаться, а перед этим опрокинуть и разбить весы. Только вот спрятаться – куда?
«Да не всё ли равно: хоть под паруса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра в тоге командора, словом, куда бы ни было, но только туда, где бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мораль, вечную мораль добродетели и забот о своем совершенстве…»80
Праотцеву помог нащупать верную дорогу Лаптев, Лескову – никто. Но прежде чем сознательно ступить на путь творчества и служения искусству, он женился.
Муж
Где история страсти, томления, ухаживаний, возможно, борьбы? Ничего похожего. Если они и были – томление, трепет, – то нигде, ни разу Лесков о них не упомянул. Женился, будто во сне. И про его избранницу мы знаем страшно мало: киевлянка, дочь купца с именем киевской княгини Ольга Васильевна Смирнова. Это почти всё. Точный возраст ее был неведом даже Андрею Николаевичу Лескову, главному эксперту по семейным обстоятельствам отца, писавшему, что была она «не то однолеткой, не то на год младше или старше»81. Документы, обнаруженные нами в архиве после долгих поисков, несколько расширяют эти скудные сведения.
Запись в метрической книге Киево-Печерской Феодосиевской церкви по крайней мере позволяет назвать точный возраст супруги Лескова: «№ 43. Восьмого июля 1834 года у киевского купца Василия Елизарова Смирнова и второбрачной жены его Евдокии Евграфовой родилась дочь Ольга, которая молитвована и крещена священником Семионом Ясинским. Требу совершали: священник Симеон Стефанов сын Ясинский, диакон Яков Мошинский, дьячек Софроний Олофинский, пономарь Иван Селиванович»82.
Значит, Ольга Васильевна была младше мужа на три года.
Из исповедных росписей Киево-Печерской Спасо-Преображенской церкви известно, что Ольга была у родителей первенцем, через четыре года родился Олимпий, а еще через десять лет Елизавета83. Купец Василий Елизарович Смирнов (1799–1871) был маклером Киевской конторы Государственного коммерческого банка. Интересно, что в его доме на Крещатикской площади уже в конце 1850-х на втором этаже снимал квартиру художник и фотограф И. В. Гудовский, к которому заглядывал в гости Тарас Шевченко, а в августе 1859 года даже остановился у него84.
По данным А. Н. Лескова венчание Николая и Ольги состоялось в апреле 1853 года, на Красную горку, но согласно метрической книге Старо-Киевской Трехсвятительской церкви брак был заключен на полгода позже: «№ 1. Январь 20. Орловской Губернии Дворянин, служащий в Киевской казенной палате Столоначальником Коллежский регистратор Николай Семенов Лесков Православного исповедания первым браком. 24 лет. Киевского второй гильдии Купца Василия Елеазарова Смирнова дочь Ольга Православного вероисповедания, первым браком»85. Здесь же ошибочно указывается, что Ольге Васильевне было на тот момент 17 лет. На самом деле ей было 19, ему – без малого 23.
Как мы помним, Семен Дмитриевич Лесков заповедовал сыну искать себе жену после двадцати пяти лет. Согласно данным метрической книги, Николай эту заповедь нарушил, но незначительно.
В мире супруги прожили совсем недолго, начали ссориться – бурно, страшно – и продолжали до тех пор, пока после восьми лет взаимных мучений не разорвали отношения окончательно.
Но чем же в таком случае был вызван этот брак? Очарованием минуты? Стал странным итогом юношеского разгула, который Лесков решил остудить взрослым поступком?
Понятно ведь: инициатива исходила от него. У Ольги, старшей дочери в купеческой семье, очевидно, особого выбора не было: молодой столоначальник, неглуп, речист, дворянин, близкий родственник знаменитого доктора – чем не партия? Девушка на выданье, подрастает сестра; еще несколько лет, и будет поздно, останется вековухой. Не исключено также, что родители замечали в поведении дочери некоторые странности, а значит, тем более обрадовались предложению Лескова. Но чем пленился он?
В заметках «Из одного дорожного дневника», описывая ночь, проведенную на постоялом дворе в Гродно, Лесков признавался:
«Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платьице на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились и остались одни иглы, всё иглы, иглы, и вот я одинокий и разбитый лежу в холодной комнате литовского заязда[22] и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом»86.
Очень похоже, что обладательницей миловидного личика и стройного стана была Ольга Васильевна.
Не здесь ли кроется ключ к их сближению? Маскарад, всеобщее возбуждение, танцы – что не померещится в горячечном праздничном вихре?
В повести «Детские годы» юный Меркул Праотцев (как мы помним, альтер эго Лескова) случайно увидел на балу молодую женщину:
«…у нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые серые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я с детства моего страстно любил женщин высокого роста»87.
Несмотря на мимолетность встречи, чудесная дама эта сделалась его идеалом:
«Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя – предтечу всех моих грядущих увлечений, – тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленого позднейшего времени и… с болезненною грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений – исчезновение, которое восполнят разве новейшие женщины, выступающие после отошедших новых»88.
Но напоминала ли Ольга Васильевна стройную блондинку из повести о Меркуле, неизвестно.
В дальнейшем она стала прототипом всех стервозных жен в прозе Лескова. Супруга главного героя романа «Некуда» доктора Розанова, многое перенявшего от Лескова, капризна, бесцеремонна и невежественна до непристойности. Она устраивает мужу публичные скандалы, требует внимания и любви, ничего не давая взамен. Зовут ее Ольга, правда – Александровна. И почти все дурные жены в лесковской прозе нарисованы по тому же лекалу: каждая из них вздорная, неблагодарная, всем недовольна и терзает супруга, сложного, но отнюдь не плохого, работящего и в общем милого и доброго человека.
Несчастлив в семейной жизни и сын Рощихи (очевидная калька с Лесчихи) из очерка «Ум свое, а чёрт свое» (1863): его супруга до того нравна, что не дает спуску ни свекрови, ни мужу, который с горя «шатается» с ружьем.
В написанном вскоре после кульминации собственной семейной драмы очерке «Страстная суббота в тюрьме», посвященном отнюдь не семейной жизни, – из уст репортера внезапно вырывается:
«Ах, амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными… А сколько честных, рабочих людей, без разгибу гнущих свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности?.. Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышащих ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков в роде того, что “я не так бы жила, если бы вышла за другого”, или “ты обязан” и т. п. Да!»89
Семейные неурядицы Лесков описывает крайне однообразно, зато реалистично. Удивительно, но семейное счастье в его текстах тоже одинаковое – это идиллия, гармоничная, иногда почти приторная, очевидный плод мечты, а не опыта.
Андрей Николаевич, словно заразившись недовольством отца, также пишет об Ольге Васильевне с негодованием: «По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, в ней не было ума, сердца, выдержки, красоты… Обилие ничем не возмещаемых “не”»90. Бледное пятно, отрицательная частица, «минус» вместо живого человека, будто и не Лесков ее для себя выбрал. Но почему, собственно, дочь киевского купца должна быть умна, сердечна, иметь тонкое обхождение? К тому же она оказалась психически нездорова, хотя выяснилось это совсем не сразу.
Двадцать третьего декабря 1854 года у Николая Семеновича и Ольги Васильевны родился сын Дмитрий, названный в честь деда по отцовской линии. Но вскоре их постигло горе: первенец умер в младенчестве – если верить рассказу «Явление духа»91, на постоялом дворе. Андрей Николаевич Лесков предполагает, что сцены его писаны отцом с натуры: мальчик умер вскоре после посещения Панина, куда отец возил его и супругу познакомиться с родными92.
Через полтора года после его смерти, 8 марта 1856-го, появилась на свет дочь Вера. Вера Николаевна Лескова, в замужестве Нога, дожила до XX века, скончалась в Петербурге в 1918 году; мы еще вспомним о ней.
Расхождения супругов во взглядах, очевидно, начали обостряться после первых шагов Лескова в литературе. Его идеалы, его цели сделались более определенными, ему хотелось расти и развиваться на новом поприще, Ольга Васильевна вряд ли могла это оценить: замуж она выходила за молодого чиновника, оказалось – за литератора, журналиста.
Николай Семенович бежал из Киева в Москву, но Ольга Васильевна нагнала его и там, приехав с дочкой. Алексей Сергеевич Суворин, будущий известный писатель, крупный издатель, но тогда, в начале 1860-х, такой же молодой провинциал, приехавший из Воронежа, делавший первые пробы пера и живший в Москве вместе с Лесковым, уверял, что тот «щипал и бил» супругу. «Мерзавец большой руки», – резюмировал Суворин в одном из писем тех лет93. Другой литератор, очень не любивший Лескова, Иероним Иеронимович Ясинский добавляет подробностей: «…бедная женщина не могла открыть плечей, потому что они были черные!»94
Точку в отношениях супругов поставил отъезд Лескова в Петербург в декабре 1861 года. Еще два десятка лет Ольга Васильевна прожила беспокойно: крупный киевский банк, в котором она хранила деньги, доставшиеся в наследство от отца, лопнул, и она потеряла почти все сбережения. Ольга Васильевна металась, тяготилась дочерью. Киевские родные пытались помочь ей, как умели, но это было невозможно. Наконец для всех стало очевидно, что Ольга Васильевна психически больна.
Последние 30 лет из отмеренных ей восьмидесяти она провела в петербургской психиатрической больнице Святого Николая на Пряжке95. Психические болезни диагностировали тогда плохо; быть может, то, что Лесков в молодые годы принимал за вздорность характера, было первым вестником заболевания.
Уже в начале 1890-х годов Вера Николаевна, навещая старушку-мать в скорбном доме, спросила, помнит ли она Лескова, своего мужа.
«После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм раздельно слетавших с уст слов, без интонации прошептала: “Лесков?.. Лесков?.. Вижу… вижу… он черный… черный… черный…”
Напряжение иссякло. Луч сник. Всё замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие… Глаза закрывались… Больная утомленно умолкла…»96
Однако мы слишком забежали вперед. Пока еще супруги жили в Киеве вместе, растили маленькую дочку; Лесков ходил на службу, хотя и тяготился ею всё больше. Но вдруг в жизни его наступила отрадная перемена.
Коммерсант
Сборы были недолгими. Сложил чемодан, подхватил из рук кухарки корзину со снедью, чмокнул в лоб спящую годовалую Верочку, обнял жену, с восторгом думая, что теперь не понадобится гадать, чем она снова недовольна. Поглядел невидящими глазами и покатил в «новую историю» – в село Райское Городищенского уезда Пензенской губернии, снова к «дядюшке», но уж к другому, Александру Яковлевичу Шкотту.
Точно благовест прозвучало его приглашение. Не иначе как тетка Александра Петровна, на которой Шкотт был счастливо женат, замолвила за Николая словечко.
Отец Александра Шкотта Джеймс Джеймсович приехал обустраивать Россию из Англии.
Управляющий имениями графа Перовского и Нарышкина Джеймс Джеймсович, быстро превратившийся в Якова Яковлевича, смекнул: деревянные соха и борона скоро совершенно истощат и неглубокий орловский чернозем, и девственные почвы приволжских степей. Пахать легкими железными плужками – вот что было необходимо. К чёрту «гостомысловы ковырялки»! Спасти русскую землю. Помочь русским братьям.
Яков Яковлевич взялся за дело. Плуг пошел на соху, соха на плуг – кто кого? Лукаво щерилась борона. Шкотт выписал в Россию на пробу три удобных и легких плуга Джеймса Смолля97, проверил, и раз, и два, и семь – английский плуг по всем статьям превосходил и великорусскую соху, и тяжелый малороссийский плуг: оставлял образцовую борозду, узкую, но идеальной глубины, был удобен и легок – даже баба или ребенок могли им пахать.
Только кто ж того англичанина слушал? Одно слово – немец. Уж не из тех ли немцев, что в Одессе покупали у русских хлеб? «Станем их плужками пахать, у кого сами будем хлеб покупать?» – цедили мужики и пахать привозными плужками отказывались. Так и заржавели они в пожарном сарае. Ну а степи… их стало заносить песком. Старый Шкотт быстро сдался. Но его сын верил: у него получится. Нужно только укрепить тылы, врасти в русскую землю покрепче.
Шкотт-младший пошел служить в русскую армию. В мае 1827 года он поступил в Глуховский кирасирский полк рядовым, через шесть лет, уже в Рязанском пехотном полку, дослужился до подпоручика. На этом можно было остановиться – обер-офицерский чин давал право на потомственное дворянство. Шкотт им воспользовался и сделался русским дворянином98. Оставалось подыскать жену.
Николай любил своего «дядюшку». Сухощавый, подтянутый, надушенные усы, умный, внимательный взор. Лесков подобрал Шкотту и историю женитьбы ему под стать, переодев англичанина в Павла Якушкина: по лесковской легенде, Шкотт, нарядившись «молодцом» при коробейнике, торговавшем вразнос всякой мелочью, поехал по дворянским домам, в которых были дочки на выданье, оглядывал барышень, выходивших к торговцу не в бальных платьях, а в будничном уборе, и слушал, как говорят они с коробейником, как торгуются, как требуют и капризничают. Одна девушка ничего не требовала, улыбалась приветливо, говорила кротко – это была Александра Петровна, самая ласковая и добрая из трех сестер Алферьевых.
Молодые обвенчались в январе 1839-го в уже знакомом нам Собакине. В сентябре следующего года у Шкоттов родился первенец Петр, в 1842-м – Яков, ставший потом известным московским хирургом. Кузен называл их «шкотята».
Александр Шкотт был человек «дивных способностей» – веселый, бодрый, неутомимый. За словом в карман не лез и никого не боялся. Обидчика запросто мог вызвать на дуэль, а то и прибить". Выйдя в отставку, он вслед за отцом служил управляющим у графа Льва Александровича Перовского и Нарышкиных и прослыл «практиком», хитрым, предприимчивым, но совершенно порядочным. Русские помещики часто приглашали в управляющие иностранцев – возможно, в надежде, что те лишены известных русских пороков, склонности к воровству и веры в «авось». О том, что случалось порой с такими не в меру ревностными управляющими «из немцев», свидетельствуют и сам Лесков в рассказе «Язвительный», и Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», а также многочисленные документы о крестьянских бунтах.
Но Александр Яковлевич вел дело с умом, и во вверенных ему имениях не бунтовали. Получал он около сорока тысяч рублей в год – сумму баснословную: годовое жалованье русского управляющего составляло от 600 до 1800 рублей. Многое у него отлично складывалось, потому что он неплохо изучил русских, понял и почти полюбил.
Он придумал даже, как лечить баб-кликуш, которые бились в жутких припадках, валились на землю, очень некстати выли и были неспособны к работе. Подобрав в книге богослова Фомы Кемпийского места позагадочнее, Шкотт торжественно зачитывал их вслух, а потом молился вместе с больной. Когда та была уже в должной мере умягчена и утешена, Александр Яковлевич сливал в один стакан заранее приготовленные соду и лимонную кислоту. Смесь шипела и пенилась. «Бес шумит и улетает!» – радовалась кликуша и исцелялась полностью100. Отбоя от несчастных баб не было. Исцелились бы еще многие, если бы не болтливый фельдшер. Он раскрыл крестьянам секрет чудесного порошка, после чего тот сейчас же перестал действовать.
Хитер был Шкотт, а русский мужик хитрее. И переломить его не под силу было и упрямому Александру Яковлевичу, разумеется, желавшему крестьянам только хорошего. Как ни старался Шкотт – не сумел переселить сведенных в Пензенскую губернию орловских мужиков в удобные кирпичные дома под черепичными крышами, построенные для них предыдущим владельцем Райского Николаем Алексеевичем Всеволожским. Мужики использовали подаренные им кирпичные строения в качестве уборных, а сами селились рядом в наспех поставленных деревянных курных (без дымоходов) избах, предпочтя светлому и просторному жилью привычное, закопченное и тесное. Быть может, не так уж они были дики, как казалось Шкотту. «Иностранные маратели бумаг с ужасом кричат 200 лет в один голос, что народ наш живет в черных избах и ест черный хлеб; а того ни один еще не заметил, сколь нужно топить избу в зимнее время, что дым чистит воздух, истребляя испарения»101, – писал граф Ф. В. Ростопчин, также переживший увлечение английским плугом, но потом сделавшийся «защитником сохи» и «черной избы». Ростопчин рекомендовал своим оппонентам «поездить по России, посмотреть хорошенько и поговорить с бородами, в коих столько же ума, сколько и здравого рассудка».
Александр Яковлевич достаточного здравого рассудка в «бородах» не разглядел. В лесковской повести «Загон» он рассуждает, почему крестьяне не оценили «улучшенные орудия»:
«– Всё это не годится в России.
– Вы шутите, дядя!
– Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.
– Не зол, дядя!
– Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!»102
Правда, говорил это Шкотт уставший и почти разорившийся. Русского крестьянина он изменить не смог, но Лескова научил многому. Это Шкотт расположил «племянника» и к просвещенному европеизму, и – вслед за Семеном Дмитриевичем – к протестантизму, а значит, подготовил и его позднее увлечение толстовством. Это Шкотт продемонстрировал ему впервые, с каким спокойным уважением и вниманием работодатель может относиться к работнику и его нуждам. Однажды в сельской школе, которая стараниями Всеволожского была открыта в Райском, а потом поддерживалась Шкоттом, Лесков увидел рукописный задачник, составленный англичанином, и поразился: придуманные Шкоттом задачи предлагали не складывать, вычитать и умножать абстрактные литры в резервуарах и секунды в часах, а подсчитывать, сколько зерна потребуется для посева, а овчин на полушубок и тулуп, каков вес мытой и немытой шерсти, какое количество подошв можно выкроить из одной шкуры и сколько гвоздей понадобится для изготовления пары сапог. Всё было приспособлено к крестьянским нуждам. Деревенским детям, приходившим в школу, решать эти задачки было, возможно, интересно103. И это Шкотт со своими железными английскими плужками, которым русские мужики по-прежнему предпочитали соху, помог потом Лескову придумать прославившую его сказку про то, как русские мастера обездвижили сделанную англичанами механическую блоху-танцовщицу. Наконец, это Шкотт открыл ему Россию, которой он никогда не увидел бы, не начни служить у Александра Яковлевича.
На волне охватившей страну либерализации экономики Александр Яковлевич погрузился в «новую ересь» – открыл вместе с компаньоном собственную торговую компанию «Шкотт и Вилькенс», в которую и пригласил Лескова.
В мае 1857 года губернский секретарь Николай Лесков взял четырехмесячный отпуск и отправился испытать новую жизнь. Призрак свободы, живое дело, наверняка и размер жалованья104 будоражили воображение, будили надежды.
Штаб-квартира компании располагалась в селе Райском Пензенской губернии.
Для начала Шкотт поручил Лескову принять участие в переводе крепостных графа Перовского из густонаселенных Орловской и Курской губерний в саратовские степи и Жигулевские горы. На новое место крестьяне должны были добираться по суше и потом плыть на барках.
Министр уделов Лев Алексеевич Перовский, один из самых активных и просвещенных российских сановников, выступал за ограничение крепостного права и искоренил немало злоупотреблений. Перовский обратился к Шкотту с просьбой облегчить положение крестьян, переводимых в новые губернии. До графа, вероятно, дошли мужицкие жалобы на грубость и жестокость провожатых, и он попытался принять меры. Если верить Лескову, для этого Александр Яковлевич и призвал его. Рассказав, что крестьян повезет Петр Семенов – «умный мужик, но тиран», хитрый Шкотт предложил «племяннику» сыграть роль миротворца:
«Вот я и хотел бы испробовать этакую маленькую конституционную затею, чтобы один казнил, а другой миловал. Отправляйся-ка ты с ними, и вникай, и Петру распоряжаться не мешай, но облегчай, что возможно. Я тебе дам главную доверенность с правом делать всякие амнистии… Официальное значение твое будет высоко над Петром, но ты, однако, смотри – не испорть дело: царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты только милуй»105.
Предложение это начинающему коммерсанту было, конечно, лестно. Он не мог предвидеть, что угодит в ад.
Лесков был еще довольно молод (26 лет), но уже не неопытен: послужил и в Уголовной палате, и в рекрутском столе, знал, каково человеческое горе, вблизи наблюдал и полное бесправие, и непробиваемость тех, кто обеспечивал бесперебойную работу государственной машины: полицейских, исправников, подкупленных врачей. Казалось, ничем его не удивишь. Но на барках Шкотта ему пришлось – нет, не удивиться – испытать потрясение такой силы, что оно не зажило и в зрелые годы.
Что означало переселение крестьян в конце 1850-х годов? Крепостное право еще не отменили, но разговоры о реформе уже велись[23], и многие помещики торопились заселить крепостными новые земли. Крестьян сгоняли с обжитых мест, отрывали от родных могил, храма, где крестили детей, венчались, отпевали умерших и они, и их отцы и деды. Увозили от земли, которую они знали наизусть, до последнего перелеска и ручья, до каждого грибного места и земляничника. Хорошо, если их везли семьями; но когда помещик желал сэкономить, жены и дети оставались на прежнем месте. Счастливцами оказывались те, кому доставалось двигаться с обозом, а не плыть.
На барку мужик не мог взять ни любимой лошади, ни привычных вещей: ложек, плошек, корыта, колесного стана. На барке было скучно и тесно. В обозе он мог хотя бы глазеть по сторонам, в городах и местечках заходить на базар, торговаться всласть – всё легче переносить невзгоды.
«Ни на что он не жалуется, и не скучно ему. Ночлег на мокром выгоне, под рваною свитенкою – штука некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на телеге лубком накроет, а сам прислонится на корточках к оглобле или к колесу, подберет под локти свой рогожный плащ, надвинет на брови шляпенку да так и продремлет чутким сном до тех пор, пока на востоке забрезжится первая светлая полоска ранней зари. Да и велика ли летняя ночь тому, кто днем намаялся и спит только одним глазом, а другим смотрит, “как бы чёртов цыган коня не схимостил или хвост не отлямчил”. А пошлет Господь наутро ведрышко – в обозе рай пресветлый: вчерашняя нудьга забыта, на сердце светло, как на небе. Переселенцы обчищаются, оскребаются с острым словцом да с прибауточкой, самое горе-то свое осмеют и снова тянутся длинною вереницею в свой дальний путь. Дорогою тоже весело. Идет мужичок по лесу, недозрелый орех найдет: сорвет его, расколупает и дает мальчикам высосать белое, рыхлое тесто сырого плода. Найдет диких пчел, достанет у них медку “губы посластить”; а нет ничего съедобного – сорвет листок с дерева, положит его на левый кулак, а правою ладонью расхлопает; либо из подорожникового листка конька ногтем вырежет, с встречной бабой приятным словом обменяется, проезжему барину с дороги не своротит (потому – “обоз”, нельзя, значит, воротить). Всё весело, не то что на барке»106.
Однако не скука и не расставание с любимой клячей были главной казнью попавших на барки людей. В пути негде было помыться. В холодной речной воде мужики мыться отказывались, а бабы стеснялись раздеваться при них. Последствия были страшные.
В очерке «Продукт природы» Лесков описывает, как бессовестный провожатый, «тиран» Петр Семенов, осветил фонарем кормящую младенца крестьянку. На груди ее «что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь у соска с каплями синего молока, от которого отпал ребенок»107. Это были вши, заполонившие всё на барках. Другой эпизод:
«…в довершение картины и для большего мучения моих чувств выскочил какой-то мужичонка и начал тыкать мне в глаза маленького умирающего мальчика, у которого во всех складках тела, как живой бисер, переливали насекомые.
– Вот! – кричал мужик, – вот, смотри это! – а потом он швырнул ребенка на пол, как полено, и обнажил свои покрытые лохмотьями ребра, и тут я увидал, что у него под мышками и между его запавшими ребрами нечто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не мог стерпеть…»108
Мужики молили Николая Семеновича помиловать их, дать сойти на берег, в баню: «Ослобони!» Можно ли было не помиловать? Сумрачного и жестокого Петра Семеновича в тот момент не было рядом, и Николай всех отпустил: «С Богом, братцы, только возвращайтесь скорее». 40 человек, благословляя своего спасителя, постанывая, покрикивая, под присмотром старшего быстро уселись в лодку, а ступив на землю… бросились бежать в родные места, к покинутым избам, к брошенным огородам, к любимой реке, к черным баням. Там и помоемся небось.
Беглецов поймали, хорошенько выпороли. Незадачливого сопровождающего отправили назад в Райское – Петр Семенов в одиночку доставил крестьян до места.
Чудовищный, непоправимый провал! Что скажет Шкотт молодому сотруднику? А что тот ответит «дядюшке», так хладнокровно его подставившему?
Но Шкотт только усмехнулся. Искус пройден, Николай, можно работать дальше.
Только мог ли он работать дальше? После такого жуткого урока он так же, как мужики рванули домой, должен был рвануть в Киев, в Казенную палату. Там скучно, зато понятно, действуют ясные правила, а самое страшное насекомое – муха, проснувшаяся по весне. И никаких двусмысленностей, никаких «царствуй, но не управляй».
Он думал, взвешивал, всматривался в покинутую чиновничью жизнь. Отчетливо видел: в составлении бумаг с разъяснениями правил рекрутского набора и указанием сумм на канцелярские расходы, в сонном восхождении по лестнице чинов, в постоянной оглядке на начальство и невольном соучастии в его грехах подрагивало безвкусное желе предсказуемости, несвободы, смерти. Хотелось жить. Пусть с завшивевшими мужиками, их больными детьми и бабами, пусть с горькими обидами и погружением в черную, безысходную русскую тоску. И Лесков сделал следующий, самый большой шаг навстречу своему призванию: в сентябре 1857 года, по окончании четырехмесячного отпуска, подал прошение об увольнении с коронной службы «по болезни» и стал работать у Александра Яковлевича Шкотта на постоянной основе.
Когда уже пожилого Лескова спросили, откуда он черпал материал для своих произведений, он указал на свой лоб: «Вот из этого сундука. Здесь хранятся впечатления 6–7 лет моей коммерческой службы, когда мне приходилось по делам странствовать по России; это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел», – и добавил через паузу: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучал его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта»109.
«Барки Шкотта» действительно заменили ему системное образование, стали основным источником знаний о России, о коммерции и экономике, о русских людях. «На барках Шкотта» – метонимия: на самом деле и на тарантасах, бричках, повозках, в избах, на постоялых дворах, в грязных и чистых гостиницах, в вечной дороге. «Барки Шкотта» и в самом деле оказались чудесным бездонным сундуком, из которого долгие годы Лесков черпал и черпал сюжеты, сцены, лица, слова. «Барки Шкотта» сформировали его как писателя. Служба в коммерческой компании, возможно, стала главным, что случилось с ним в дописательской жизни. Без нее Лесков, скорее всего, вообще не смог бы сочинять прозу; во всяком случае, она была бы совершенно иной.
Но куда он ездил, зачем?
Компания «Шкотт и Вилькенс» занималась тем, что сегодня назвали бы аутсорсингом:
«…мы и пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты – словом, хотели эксплуатировать всё, к чему край представлял какие-либо удобства.
За всё это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, всё более по преимуществу из иностранцев»110.
Понятное дело, иностранцам Шкотт доверял больше.
В Райском образовалась целая колония сотрудников компании, среди них и Лесков. Он трудился контрагентом, по сути – подрядчиком: принимал заказы на тот или другой вид работы. Заказчики компании жили не только в Пензенской губернии, и Лесков ездил от Астрахани до Рыбинска, от Каспия до Невы. В Среднем и Нижнем Поволжье он познакомился с башкирами, татарами, там узнал и изучил конское дело. Всё это – орловские поместья с конными заводами, «азиатская ярмарка» в Пензе, заволжские степи, пахнущие полынью и овцой, Нижний с его крупной торговлей, горячий песок Бугского лимана под Николаевом, ледяной простор Ладоги, шумные балаганы на Адмиралтейской площади в Петербурге – отзовется потом, впитается в его рассказы, раскинется в «Очарованном страннике» бескрайней ширью. Но пока контрагент Лесков просто катил в тарантасе.
«В тарантасе» – так назывался один из первых его очерков, без сюжета, без активного действия, явно списанный с натуры. Весь он – вереница разговоров, которые вели в дороге купец, приказчик большого коммерческого дома, два молодца при нем и торговый крестьянин. Эти истории, анекдоты, легенды, услышанные от случайных попутчиков, и были главной отрадой начинающего очеркиста Лескова.
Постепенно шутливые перебранки, обмен байками, прибаутки – живые ростки устной речи – разрастутся в цветные полотна сочного нарратива. Лесков уже тогда влюблен в «самовитое слово», уже тогда идеально его слышит, хотя всерьез играть с языком начнет еще не скоро, пока только копит материал, сам того не осознавая.
Осознать это ему помогли. Так, по крайней мере, он сам рассказывал, утверждая на закате жизни, что первое читательское признание получил именно в дни коммерческой службы, отсылая в Райское письма с отчетами. Писал он их до того «интересно, что, когда в доме Шкотта получался синенький конвертик, все домашние и бывавшие у него часто соседи говорили “от Лескова” и заставляли хозяина читать письмо вслух»111.
Так и выяснилось: контрагент Лесков не только трудолюбив и сметлив – у него отменный слог, бери выше – дар описывать дорожные приключения и людей занятно, язвительно, узнаваемо. О том, что подмечал в своих странствиях Лесков, не писали ни в газетах, ни в книгах. И его письмами зачитывались; слушая их, покатывались со смеху; их цитировали, ими гордились. Их похвалил заезжавший в гости к Шкотту помещик Федор Иванович Селиванов, владелец соседней деревни Боголюбовки и еще одной, Богословки, той же Пензенской губернии. (Позднее, когда Шкотта не стало, – а умер он, оставив родных почти без средств, – Селиванов приобрел Райское у его вдовы.)
В «Заметке о себе самом» (1890) Лесков писал о себе в третьем лице:
«Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии (А. Я. Шкот[т]у), заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, читать и находил их “достойными печати”, а в авторе их пророчил “писателя”»112.
Вот так контрагент и превратился в писателя.
Инициалы Селиванова в «Заметке…» были благоразумно опущены.
Лесков незаметно заменил одного Селиванова, доброго соседа Шкотта по имению, другим – известным писателем. Само собой, читатель, о Федоре Ивановиче Селиванове не ведавший, решал, что речь идет об Илье Васильевиче Селиванове (1809–1882), авторе криминальных очерков из народного быта, одном из родоначальников детективного жанра в России. Прозу Селиванова в конце 1850-х с удовольствием публиковали самые разные издания, в том числе некрасовский «Современник». Его очерки выпускались и отдельными сборниками, самый известный – «Провинциальные воспоминания» – закрепил за сочинителем звание «автор “Провинциальных воспоминаний”». Лесков Селиванова внимательно прочел и нет-нет да и ссылался на него113. Только вот в конце 1850-х, когда Лесков разъезжал по делам компании «Шкотт и Вилькенс», Селиванов-писатель жил в Москве и возглавлял тамошнюю Уголовную палату. Имение его жены Малое Маресево отстояло от Райского примерно на 200 верст, так что регулярно «спрашивать и читать» письма Лескова, тем более находить их «достойными печати» Илья Васильевич не имел физической возможности.
Вся эта вполне намеренно устроенная Лесковым путаница понадобилась ему по очевидной причине: так домашние похвалы доброго соседа, почти ровесника, вероятно, и в самом деле звучавшие, превращались в благословение известного писателя на занятие литературой.
Дебют Лескова в художественной прозе состоялся довольно поздно. Он пришел в российскую словесность словно бы ниоткуда. Спрыгнул на литературный берег с барки Шкотта. Вообще-то подобным образом в 1860-е в литературу приходили многие. Но Лескову было от этого не по себе. Судя по всему, даже в поздние годы ему так и не удалось изжить комплекс литературного самозванца.
И всё же одного совпадения фамилий было бы, конечно, недостаточно. Но Илья Селиванов имел еще и достойную репутацию: просветитель крестьян, один из первых в Пензенской губернии отпустивший своих крепостных на «вольный оброк», автор очерков, о коррупции и беззаконии в уездных судах. В литературные покровители Лесков назначил себе пусть и не перворазрядного писателя, но порядочного человека и либерала.
Интересно, что Селиванова в роли крестного отца Лескову всё же показалось мало; в «Заметке о себе самом» он упоминает, что первые его литературные опыты одобрял и другой известный литератор: «Беллетристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Аполлон Григорьев»114. Лесков явно колебался, каким словом лучше обозначить отношение Аполлона Александровича к его «беллетристическим способностям». Один из двух глаголов – «поддерживал» и «поощрял» – здесь явно лишний, а будучи разделены союзом «или», они окончательно запутывают читателя: так поддерживал или всё же поощрял? или и то и другое? Но зачем тогда «или»?
Увы, ни в одной из известных на сегодняшний день работ Аполлона Григорьева имя Лескова, как и Стебницкого (псевдоним, которым Лесков подписывал свои публикации в 1860-е), не встречается. Григорьев умер осенью 1864 года; к этому времени Лесков как беллетрист успел опубликовать всего несколько сочинений, хотя среди них были объемный рассказ «Овцебык», повесть «Житие одной бабы» и больше половины романа «Некуда». Заметил ли эти тексты начинающего литератора маститый коллега, в последний год жизни писавший преимущественно о театре? Нет никаких свидетельств ни об этом, ни о симпатии Григорьева к отдельным персонажам «Некуда», кроме упоминаний самого Лескова115. Правда, оба одновременно сотрудничали с журналом братьев Михаила и Федора Достоевских «Время», а в журнале «Якорь», возглавляемом Григорьевым, был опубликован ранний очерк Лескова «Язвительный» за подписью «М. Стебницкий». Установить степень участия Григорьева в выходе «Язвительного» сложно – он в то время постоянно пренебрегал своими редакторскими обязанностями. Но, быть может, именно факт этой публикации позволил Лескову говорить об одобрении со стороны известного критика.
Правда, во второй половине XIX века и «передача лиры» вовсе не воспринималась как обязательный элемент писательской биографии. Во всяком случае, литераторы лесковского, а тем более следующего поколения, в том числе Блок и Бунин, вспоминая начало своего творческого пути, как правило, не упоминали о благословлявших их старших коллегах по цеху116. Тем не менее Лесков решил обезопасить себя от возможных упреков в самозванстве.
Поступив на службу к Шкотту, он постоянно находился в разъездах. Ольга Васильевна с дочерью и прислугой перебралась в Райское и жила в новом флигеле, построенном специально для сотрудников компании. Жила, видимо, неплохо. 29 сентября 1859 года Шкотт рапортовал «племяннику» в Москву, где тот был по делам компании: «С[ело] Райское. Сижу в кабинете и занимаюсь управительскими делами, обе барыни сидят возле меня, обе очень растолстели, равно и Верочка. <…> Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен, если что я не одобряю, то за грех считаю смолчать, и сейчас всё поправляется, вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что 8 р[ублей] сер[ебром] еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе, хозяйки завели между собой очередь»117.
Лесков бывал дома нечасто, что, по-видимому, продлило его семейную жизнь еще на несколько лет.
Как вдруг всё оборвалось. Дела компании шли всё хуже. Император Александр II, всеми силами пытаясь вытащить страну из ямы, в которой она оказалась после Крымской войны, либерализовал торговлю, но это привело только к новому экономическому спаду. Шкотт, несмотря на упорство, хватку и ум, разорялся. На все неприятности наложилась еще и размолвка с «племянником», о которой сохранились глухие намеки. В мае 1860 года компанию «Шкотт и Вилькенс» пришлось ликвидировать. Лесков с семьей был вынужден вернуться в Киев.
Вольный стрелок
Покинув Райское, Лесков надеялся найти в Киеве новое место на коммерческой службе, сладость которой уже вкусил. Но одно дело, когда тебя приглашает поработать глава компании, другое – когда ты сам просишься к незнакомым людям. Причисление к дворянскому сословию, когда-то с трудом выслуженное отцом, теперь оказалось препятствием, и неодолимым, «…торговые деятели смотрят на всякого соискателя торговых занятий, не принадлежащего к купеческому роду и не выросшего в приказчичьей среде, как на человека, не способного к делу, “дворянчика”, “белоручку”», – писал Лесков в заметке «О соискателях коммерческой службы». И почти с отчаянием, явно опираясь на личный опыт, добавлял, что «встречал от представителей торговли только советы обратиться за приобретением мест чиновников для поручений или следователей, мест, к которым он не чувствует никакого призвания»118.
Ссылки на «опыт работы» не помогали. Брать чужака, белоручку-дворянина, да еще много о себе понимающего (к этому моменту Лесков уже написал и отослал в столичный журнал основательные «Очерки винокуренной промышленности»), никто не хотел. Возможно, Шкотт мог бы снабдить «племянника» рекомендациями, но они расстались более чем прохладно. А в ближайшем кругу дядюшки Сергея Петровича были одни лишь доктора да профессора.
Оказавшись предоставлен сам себе, Лесков охотно заходил в книжные магазины, а уж когда появлялось что-нибудь стоящее – тем более. В мае 1860 года в свет вышло Евангелие на русском языке.
После публикации первого полного перевода Четвероевангелия с церковнославянского на русский язык прошло почти 40 лет, книга давно стала раритетом. В 1826 году с запретом деятельности Российского библейского общества замерла и работа над переводом Священного Писания. В 1858 году император Александр II позволил, наконец, переводить Библию под руководством Синода. Работа закипела, и в 1860 году обновленный перевод Евангелия вышел в Синодальной типографии в Санкт-Петербурге119. Едва том появился в продаже, многие отправились за ним в книжные лавки. Киевляне – к Степану Ивановичу Литову. Цена была объявлена заранее – 20 копеек. Но с рубля Лескову сдали 60 копеек! Он изумился: отчего книга продается в два раза дороже? Ему ответили грубостью: «Не берите; и по этой цене уже все почти разобраны, а еще никто не спорил»120.
Но правдолюбец Лесков, хотя и взял книгу, всё-таки решил поспорить, да не в лавке с невежливым приказчиком, а в печати. Так Лесков-журналист и появился на свет.
Об этом инциденте он написал дважды: кратко – в анонимной заметке, развернуто – в небольшой статье. Заметку опубликовал еженедельный петербургский журнал «Указатель экономический»:
«Это удвоение цены особенно отражается на посещающих Киев богомольцах, которые всегда покупают в Киеве книги духовного содержания, но которые так бедны, что нередко 20 к[опеек] с[еребром] составляет весь наличный капитал пешехода-богомольца. Переплатить лишний двугривенный для него есть уже разорение, и он принужден отказать себе в приобретении Евангелия, недоступного для него по цене»121.
Статья, названная попросту «Корреспонденция», вышла в «Санкт-Петербургских ведомостях» 21 июня 1860 года с подписью «Н. Лесков», а затем была перепечатана журналом «Книжный вестник».
Она и считается первым лесковским выступлением в печати122. Многие писавшие потом о Лескове разглядели в этом дебюте символический смысл: писатель, который стал исследователем русской религиозности, проповедовал в публицистике и прозе свободное «евангельское» христианство, начал с заметки о распространении Нового Завета на современном русском языке. Красиво. Недоброжелатель без труда разглядел бы здесь символ иного рода, предвещавший скандал с «Некуда»: Лесков начал журналистскую карьеру с кляузы на владельца книжной лавки, постоянным посетителем которой он являлся. Литов, очевидно спасая репутацию, пытался противостоять перепечатке «Корреспонденции» Лескова в «Книжном вестнике», но не преуспел, а кончилось всё тем, что продажа Евангелий в его магазине была прекращена123.
И всё же «Корреспонденция» – лишь первое подписанное своим именем выступление Лескова в печати. По-настоящему первой его публикацией стала заметка о распространении трезвости, вышедшая в «Московских ведомостях» за подписью «Н. Г-в»[24]124. Однако сам Лесков назвал «первой пробой пера» другую свою работу – большую статью «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)», которую он, по-видимому, написал еще до отъезда из Райского125, хотя в свет она вышла уже после «евангельских» заметок.
В «Очерках…» Лесков основательно разобрался в проблемах производства спирта из зерна в Пензенской губернии, привел таблицы расходов и доходов винозаводчиков и пришел к заключению, что помещики-землевладельцы, которым правительство предоставило льготы для развития винокурения, предпочитают получение быстрой прибыли радению о процветании сельского хозяйства в России. Лесков писал, как подчинить винокуренную промышленность интересам сельского хозяйства. Нужно кормить скот отходами производства (бардой), а не сливать их в реку и пруды, как делают пензенские винозаводчики, навозом утучнять поля и так получать лучший урожай. Имея дополнительный корм, можно держать больше голов рогатого скота, откармливать его за зиму и в начале весны продавать с выгодой. Но всё, что требовало дополнительных усилий, пензенским заводчикам было не по вкусу.
Из этого следовало, что «покровительственные меры правительства, вверившего винокурение помещикам», не достигают цели и, значит, важно предоставить возможность заняться производством водки («хлебного вина») не одному привилегированному классу, а «вообще, без различия сословий, всем лицам, владеющим землею и занимающимся возделыванием ее: от этого вино как нужный для правительства продукт нимало бы не вздорожало, а земледелие заметно улучшилось бы»126.
Итак, Лесков предлагал лишить дворянство монополии на винокурение, допустить к производству водки оборотистое купечество, которое выгоды своей не упустит и, конечно, станет откармливать скот бардой (что уже и делает, арендуя у помещиков земли и заводы), – что будет способствовать развитию сельского хозяйства. В начале 1860-х годов, в эпоху экономических реформ, когда сильна была жажда обновления, статья Лескова соответствовала духу времени:
«Мы стали чувствовать дыхание новой атмосферы; освежающий воздух пробуждает нас от долгой томительной дремоты; и теперь только, раскрыв глаза, мы замечаем, как тесны, как жалки рамки нашего экономического быта. <…> Мы пришли к сознанию своей слабости, и это сознание составляет наше благо: оно залог нашего лучшего будущего»127.
То, о чем писал Лесков, не было оригинально и ново. Он формулировал проблемы давно назревшие. Наступило время их решать, и в 1863 году монополия дворянства на винокурение была отменена.
Пространная статья Лескова обнаруживала в нем человека дельного, осведомленного, практика, к тому же отлично владеющего слогом; ничто не выдавало, что автор – недоучившийся гимназист. Очерки о винокурении не принесли ему литературной славы; но всё же статья была опубликована в четвертом номере за 1861 год «Отечественных записок» – известного петербургского журнала, издаваемого А. А. Краевским, несопоставимого по популярности с «Указателем экономическим». «Очерки винокуренной промышленности» – не дебютная, но первая серьезная публикация Лескова. На вырезке ее из журнала сохранилась собственноручная запись автора:
«Лесков
1-я проба пера.
С этого начата литературная работа
(1860 г.)».
Первая проба пера ждала выхода в свет около года; за это время Лесков из провинциального публициста «по мелочи» успел превратиться в профессионального журналиста. Это превращение случилось во многом вынужденно, и главной его причиной стало, похоже, отсутствие работы. В уже знакомой нам по истории с Селивановыми автобиографической заметке Лесков признавался:
«Писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета, доктор Вальтер, убедивший Лескова написать фельетон для “Современной медицины”, а решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека и Дудышкин с А. А. Краевским. С тех пор всё и пишем»128.
Степан Степанович Громека, чиновник и литератор, автор разоблачительных очерков «О полиции вне полиции» (1857–1859), очевидно, был знаком с начинающим журналистом Лесковым; влияние его умеренного либерализма отчетливо различимо в ранних лесковских статьях.
Критик Степан Семенович Дудышкин и журналист Андрей Александрович Краевский возглавляли «Отечественные записки», в третьем номере которых за 1861 год были опубликованы статьи Лескова «Сводные браки в России», «О найме рабочих людей», «Практическая заметка», а затем и «Очерки винокуренной промышленности». Дудышкин Лескову благоволил и уже после катастрофы с «Некуда» заступался за него перед Краевским.
«Очерки винокуренной промышленности» автор называл своей первой пробой пера. «Отечественные записки». 1861 г.
Упомянутый в автобиографической заметке профессор анатомии Киевского университета Александр Петрович Вальтер был добрым приятелем Сергея Петровича Алферьева. Медицине он учился сначала в Дерпте, у знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова, затем в Берлине и Вене и в годы учения подхватил вирус просветительства. Вместе с доктором Григорием Даниловичем Деньковским доктор Вальтер начал выпускать в Киеве еженедельник «Современная медицина», посвященный «интересам русской медицины и физиологической школы»129 и предназначенный для специалистов. Но многие медицинские темы были под силу и начинающему публицисту Лескову. Его первая развернутая заметка «О зданиях» посвящалась ужасающему состоянию отхожих мест в тюрьмах, школах, присутствиях. Поминал там Лесков и нашумевший очерк фольклориста Павла Якушкина, арестованного в Псковской губернии и обнаружившего, что в арестантской нельзя ни сесть, ни лечь, потому что лавок в камере нет, а заключенные вынуждены «паскудить» прямо на пол.
«Чрезмерно большую цифру безвременных могил в России»130 Лесков прямо связывает с дурным устройством отхожих мест и напоминает, что смертность в ней превышает аналогичный показатель в Англии почти в два раза. Но эта статья, как и следующая, «О рабочем классе», продолжившая тему гигиены уже в связи с бытом рабочих, не вызвала никакого резонанса – Лесков обсуждал вещи общеизвестные, о которых регулярно писали и другие издания. Зато одна из последующих публикаций сыграла в жизни нашего героя роль почти роковую.
Так и не сумев найти место в коммерческой компании, Лесков поступил, наконец, на государственную службу, в канцелярию киевского генерал-губернатора Васильчикова, а затем добился места следователя по криминальным делам131. То, чего он страшился, о чем обреченно говорил в заметке о коммерческой службе (искателю места коммерческой компании все советуют идти «в чиновники для поручений или следователи») и к чему не чувствовал «никакого призвания»132, свершилось. Он не желал становиться следователем, потому что слишком хорошо знал – не только из полицейских и криминальных очерков Степана Громеки и Ильи Селиванова – и о коррупции, и о сговоре полиции с преступниками, и вообще о том, как соблюдаются в России законы. Знал, что честные одиночки, подобные его отцу, в бытность судебным заседателем не терпевшему компромиссов, были обречены. Знал – но деваться было некуда.
Однако всё оказалось даже хуже, чем он мог себе вообразить.
Новоиспеченному следователю Лескову, как нарочно (а возможно, именно нарочно, дабы проверить новичка), дали дело мутное, скользкое – о ночном ограблении полицейскими двух честных киевских граждан, чиновника Кунцевича и дворянина Логашевского. В паре с ним расследование предстояло вести штабс-капитану корпуса жандармов Крижицкому. Тот, калач тертый, пояснил новенькому без обиняков: дело лучше замять, полицейских выгородить133. Из соображений не только нравственных, но и совершенно прагматических – с первого же дня новой службы вступать в топь коррупции было нерасчетливо – Лесков этого и не захотел. Но оглядеться, укрепиться, разобраться в правилах игры ему не дали.
Шанс, что губернскому секретарю позволят проявить принципиальность, существовал – если бы как раз в эти дни, 6 октября 1860 года, в «Современной медицине» не вышла его заметка «Несколько слов о полицейских врачах в России». Это была уже вторая статья задуманной А. П. Вальтером серии; первая, «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий», посвященная механизму поборов с рекрутов, появилась как раз в день зачисления Лескова на службу, 15 сентября, но прошла в общем тихо. А вот новая, задевавшая интересы гораздо более широкой части медиков, вызвала шум. Подписана она была, как и предыдущая, не без кокетства – Фрейшиц. По немецкому поверью, вольный стрелок – Freischiltz — заключил договор с нечистой силой, а потому стрелял без промаха; образованному русскому читателю персонаж был знаком по знаменитой опере Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок», в основу которой легла одноименная новелла Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна.
Выстрелы «Фрейшица» направлены были в сердце государственной российской кровеносной системы – коррупцию. Статья открывалась эпиграфом из «Ревизора» – в ранней публицистике Лесков вообще постоянно ссылался на Гоголя, словно бы навсегда задавшего матрицу описания чиновничьей России. «Это уж так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого восстают», – цитирует автор слова гоголевского городничего Сквозник-Дмухановского, объяснявшего чиновникам, что у всякого человека есть «грешки».
Лесков подробно перечисляет основные статьи незаконных доходов уездных врачей, которые получают мзду за покрывательство самых разных медицинских беззаконий на базарах, в булочных, кондитерских и публичных домах. К официальному годовому жалованью полицейского врача в 200 рублей серебром прибавляется, по подсчетам Лескова, около 4255 рублей – если речь идет об обычном уездном городе с 57 тысячами жителей. Лесков почти оправдывает врачей, раскрывая секрет Полишинеля: на взятки их обрекает нищенское официальное содержание: «Мы… протестуем против равнодушия тех, кто, зная невозможность существовать на 200 руб. годового содержания, не задает себе даже вопроса, чем поддерживается их существование»134, – и резюмирует:
«Пора бы и очень пора открыто поговорить, каким образом завести, вместо врачей-взяточников, просвещенных и добросовестных медиков, на недостаток которых теперь уже нельзя опираться. Одна беда – их годовой труд нельзя приобресть за такое ничтожное возмездие, которым обходятся теперешние горе-врачи, а этой-то беде нужно помочь во что бы то ни стало»135.
Удар по репутации полицейских врачей оказался настолько метким, что после первых возражений, опубликованных на страницах той же «Современной медицины» и в выходившем в Санкт-Петербурге «Друге здравия», сводившихся к тому, что обвинения Лескова огульны и напрасно задевают честь всей медицинской корпорации, в Киев пришел запрос министра внутренних дел Сергея Степановича Ланского. Министр указывал генерал-губернатору на необходимость прекратить описанные в статье злоупотребления, а если «статья заключает в себе лишь одну клевету», подвергнуть взысканию ее автора и редактора газеты136.
Запрос министра был получен 1 ноября 1860 года, а уже на следующий день Лескова отстранили от расследования дела о совершённом полицейскими ограблении. Стало очевидно: новый следователь небезопасен. Отчасти повторилась история литературного наставника Лескова, Громеки, уволенного с государственной службы из-за цикла очерков о злоупотреблениях полиции, опубликованных в тогда еще либеральном журнале «Русский вестник». Служивший полицейским чиновником на Николаевской железной дороге Степан Громека писал свои очерки с натуры, но правда слишком больно колола глаза.
На счету Лескова к тому моменту было уже три публикации в местной газете, про полицейских врачей – четвертая; кто мог поручиться, что пятой не станет заметка о том, как полицейские сначала грабят честных граждан, а затем пытаются замять дело? Вольного стрелка необходимо было обезоружить. Но как? Не убивать же его, в самом деле. Поступили хитрее и не без извращенного остроумия – обвинили во взяточничестве самого Лескова. Интрига свелась к тому, чтобы доказать, что следователь Лесков вместе со штабс-капитаном Крижицким вымогал деньги у главного обвиняемого по делу об ограблении, полицейского пристава Крамалея. Даже «своего», Крижицкого, решено было, похоже, принести в жертву – до такой степени хотелось избавиться от следователя-публициста.
Жандармский подполковник Грибовский и чиновник особых поручений надворный советник Руккер произвели секретное дознание и сообщили о его итогах в рапорте губернатору.
Лесков пытался оправдаться. В подробном письме Васильчикову он объяснял, что не стал бы в первом же, испытательном, деле действовать столь «неестественно», что, конечно, не бросился бы «на первую подачку» и что вымогать деньги при свидетеле (Крижицком) не было никакой надобности, учитывая, что Крамалей предлагал ему встретиться на своей квартире и принять благодарность. Лесков называл губернатору и тех чиновников, с которыми советовался о расследуемом деле, посвящая их во все подробности, – вот кого можно было бы расспросить и убедиться в полной его невиновности. Добавим: эти чиновники могли бы и заступиться за Лескова, но, понятно, не стали. Завершалось письмо печально и предсказуемо: «В заключение моего объяснения позволяю себе доложить Вашему сиятельству, что я не могу нести безвозмездного служения, а к должности судебного следователя признаю себя неспособным и потому, имея в виду другие занятия, нахожу необходимым просить у Вашего сиятельства распоряжения об освобождении меня от государственной службы»137. Он сделал единственное, что мог в этой ситуации и чего от него ждали, – вышел из игры.
Параллельно шло разбирательство вокруг статьи о полицейских врачах. И Лесков, и Вальтер написали подробные объяснения: доказать факты, приведенные в заметке, невозможно, о них все знают, но никто никогда по доброй воле не признается в лихоимстве; целью статьи было не наказать конкретных людей, но «путем литературным изыскать меры лучшего вознаграждения тех врачей по службе»138. Васильчиков предложил министру оставить дело без последствий, тем всё и завершилось. Просьбу Лескова об отставке губернатор наверняка прочитал с облегчением.
Оставаться в Киеве было невозможно. Лесков оказался замешан сразу в двух скандалах, журнальном и полицейском, и теперь не только коммерческая, но и государственная служба стала для него недоступна.
В «Указателе экономическом» от 19 ноября появляется анонимное «Извещение об ищущем места», очевидно, написанное Лесковым:
«Русский человек, не лишенный некоторого образования научного и практически приспособленный к торговому делу, знающий близко жизнь и потребности разных мест России от Саратова до Житомира и от С.-Петербурга до Одессы и не замеченный в склонностях не полагать границы между хозяйским и своим добром, предлагает кому угодно из торговых обществ или частных лиц избавить его от голодной смерти, купив его труд за такое вознаграждение, какого он окажется достойным по оценке. Предлагающий свои услуги, зная слабый кредит писанных аттестаций, желает принять обязанности с условием: всякое его движение, клонящееся ко вреду хозяйских интересов, предать общественному суду, путем печатной гласности, и находит такое условие достаточною гарантиею за добросовестность своих действий. Те, кому нужен такой рабочий человек, благоволят открыть свои требования редакции “Экономического указателя”. Соискателю работы 30 лет от роду, и он – и телом, и умом здоров.
Он может представить за себя и обеспечение в женином недвижимом состоянии до 9 тыс[яч] руб [лей] сер[ебром]»139.
Возможно, этот крик отчаяния был услышан: с декабря Лесков числился представителем фирмы Биккенса, занимавшейся удобрением земель в Киевской, Волынской и Подольской губерниях. Но уже в двадцатых числах января он оставил эту службу140.
Безработное положение главы семьи вряд ли способствовало мирной семейной жизни. За душой у Лескова было несколько заметок, опубликованных в киевской «Современной медицине» и в петербургском «Указателе экономическом». Главный редактор «Указателя…» Иван Васильевич Вернадский, очевидно, и пригласил Лескова в Петербург.
Он уже бывал там, гулял по Невскому, дивился на Медного всадника, рождественские витрины и ледяную сияющую Неву. Но то были поездки по делам компании Шкотта. Теперь он ехал не принимать на таможне машины из-за границы. Он ехал на писательство.
Глава третья
Журналист
Вот и приходит Петр Петрович ко мне: «проедемтесь, батенька, в санках! первопуток!»
– Помилуйте, Петр Петрович, до санок ли мне! – воскликнул я, вскакивая из-за стола и кидая перо. – Мне надо на воскресенье написать фельетон, ничего в голову нейдет, а вы зовете кататься на санках…






