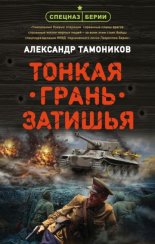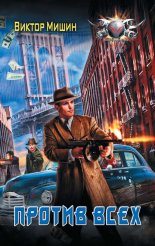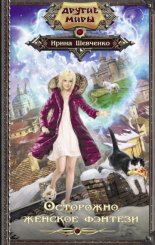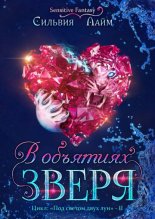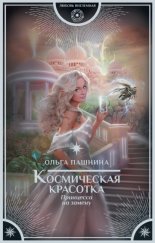Княгиня Ольга. Невеста из чащи Дворецкая Елизавета
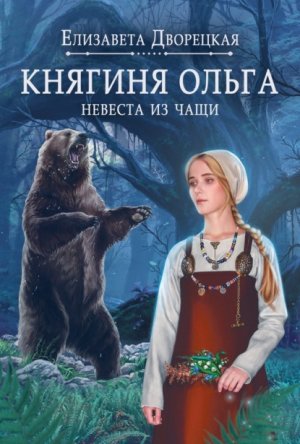
– Еще нет. Вроде бы жена мне ничего такого не говорила.
– У моего старшего сына молодуха нынешней зимой умерла. А и сам он молод еще, чтобы вдовцом век доживать. Нам бы с Судогостем породниться – лучше не бывает. Ратимер, что скажешь?
– Это ты мне задачу задал! – протянул брат плесковского князя. – Это как Судогость посмотрит и старцы наши… Она хоть девка во всем справная… да ведь поневу только первый год носит, приданого мало скопила. Ей был еще пару зим поработать… Да к тому ж она – старшая внучка моего брата, а дочерей у него, кроме ее матери, больше нет. Сам понимаешь: первая наша невеста ныне, дорого будет стоить…
– Ну, нам-то с тобой спешить некуда, обо всем успеем потолковать! – ухмыльнулся Житинег.
По лицу Ратимера было заметно, что это сватовство ему нравится, но где же видано, чтобы родичи невесты прямо так сразу соглашались! Приди хоть сам Дажьбог на порог – делу не бывать без рассуждений о том, что «девка молода», «приданое не готово», «дома некому работать» и «наше тесто не приспело».
Вальгард не стремился соблюдать эти сложные обычаи, однако взял день на раздумье. И назавтра дал согласие.
– При свидетельстве всех этих свободных людей я, Вальгард сын Асмунда, обещаю во исполнение договора об обмене заложниками между нашим родом – родом Эльга по прозвищу Вещий, и родом Олава сына Хакона из Хольмгарда, отдать мою дочь Эльгу в жены Ингвару сыну Олава, – произнес воевода на прощальном пиру и, по обычаю плюнув на пол и обтерев уста полотенцем, поцеловал меч. – Призываю богов и предков хранить наш уговор. И вы послухи днесь, – добавил он по-славянски, кивнув здешним старейшинам.
Он плеснул немного пива из посеребренного рога в очаг, отпил сам и передал рог Ветурлиди.
– Послухи мы днесь! – поклонились в ответ словене и плесковичи, а потом Ратимер подтолкнул плечом сидевшего рядом Житинега и усмехнулся:
– Ну, одну девку пропили! Скоро нашей черед!
– Мы еще всех обскачем! – поддержал тот. – Уж мы-то с тобой, сват Ратеня, на свадебке-то первые спляшем! А эти пока соберутся – сколько воды утечет!
Больше медлить было нечего, и на следующий же день Олег пустился в путь. Даже такое событие, как обручение в семье, не позволяло особенно задерживаться. Дорога предстояла долгая, а случись оттепель или ранняя весна – придется дожидаться где-нибудь в чужом месте, пока сойдет ледоход.
Жена Житинега усердно старалась получше накормить отъезжающих, но Олегу и Мальфрид так не терпелось ехать, что их миска осталась почти полной. И вот Олег вновь усадил жену в сани, закутал в платок, поцеловал в кончик носа и его тоже прикрыл платком. Молодой князь глядел весело: сложное важное дело оказалось улажено быстро, и он счел это добрым знаком. Огорчало только то, что жена, казалось, не разделяет его радости.
– Малоня, ну, что ты такая квёлая! – ласково упрекнул он ее, усаживаясь в сани рядом и делая знак возчикам трогать. – Вот и поехали! А я уж, знаешь ли, боялся, до весны здесь застрянем, пока будем судить и рядить.
– Ой, нет! – Мальфрид поморщилась. – Только не до весны…
– Что ты куксишься? – Олег вдруг осознал, что жена уже давно выглядит больной. Не только же из-за беспокойства! – Ты здорова ли? Может, надо было задержаться? Может, тебе каких травок попить? Хоть и спешим, да уж лучше приедем попозже, чем я с хворой женой на руках в зимнюю дорогу пущусь!
– Нет, поедем! – Мальфрид вцепилась рукой в вязаной варежке в его руку. – Непременно поедем. Поскорее!
– Да что с тобой? – Олег повернулся, тревожась уже не на шутку.
Даже в рассветных сумерках было заметно, что Мальфрид бледна и тяжело дышит.
– Я… нет…
Вдруг она скинула с головы большой платок, отвернулась к борту саней, наклонилась, и ее стошнило. На ходу она подхватила горсть снега почище, потом бросила, мокрой варежкой провела по лицу.
– Ты больна! – Олег схватил ее за плечи. – Зачем молчишь? Вернемся в Будгощ, отлежись, там бабы тебя полечат.
– Нет, мы не вернемся… погоди… лежать долго придется… месяца три…
– О боги, да что с тобой такое? – Олег испугался не на шутку, тем более что крепкая здоровьем жена его к такому не приучила.
Отчаянно морщась и ловя воздух открытым ртом, Мальфрид снова перегнулась через край саней и судорожно закашлялась.
Позывы были напрасны: она ведь почти ничего не ела утром. Молодая княгиня опустила голову на мешок, крепко держа Олега за руку, будто заклиная просто ждать, пока она оправится.
– Потому… и молчала… – отдышавшись, с трудом выговорила она. – Нельзя им знать. Отцу… матери… этим всем… и родичам твоим плесковским.
– Почему? – пробормотал озадаченный Олег.
– Понесла я… затяжелела. Второй месяц знаю… скоро третий, но не уверена была… Хотела сказать, а тут… эти приехали. Ведь если… у нас дитя… его и оставят в залог. Это же твой сын! Старший. И пока единственный. А он им всем нужен! Его еще на свете нет, а они уже слетелись и каркают: нам, нам! Я и думаю: тебя отошлют, меня дома запрут до родов, а потом сына моего отнимут. И останусь я – мать без ребенка, а ты – князь без наследника. А я… нет!
Мальфрид собралась с силами и села прямо. Обеими руками держа руку Олега, устремила ему в лицо решительный взгляд слезящихся глаз.
– Не отдам! Он мой! И он у меня один! Никому не отдам! Увезу, пока не догадались, сама выращу. Хоть до семи лет, пока мать сына растит, он со мной будет! А там… как судьба велит. И решила: начнет меня мутить, молчать буду, терпеть буду, а никому догадаться не дам – ни матери, никому! Хоть умру, а скрою! Но мне и везло покуда – только вот на днях, вчера-позавчера, и впрямь тошнить начало.
– Ох, ты… родная моя… – не зная, что в нем сейчас сильнее, облегчение или потрясение, Олег еще не мог по-настоящему обрадоваться этой вести. – Умирать-то не надо! Нам с тобой теперь только жить!
Утомленная душой и телом, Мальфрид привалилась к его груди и закрыла глаза.
– А они видишь, и без нас справились, – пробормотала она. – Вальгардову дочку к нам привезут за братца Инги выдавать, я за ней пригляжу. И сама нам не чужая, твоя племянница… или кто?
– Она мне… наоборот, двоюродная тетка! – Олег усмехнулся этому родству, которое связывало его с незнакомой семилетней девочкой.
– Вот и хорошо! – для Мальфрид, избежавшей разлуки с неведомым еще родным ребенком, сейчас все было хорошо. – А там и сынок наш подрастет…
Но сколько Мальфрид ни храбрилась, дух не одолел немощи тела. В Зорин-городце за устьем Ловати она все же слегла. Приступы тошноты повторялись раз по десять в день, не давая подняться.
Здешняя хозяйка, княгиня Всевида, поила гостью отваром нивяницы и мяты, утром почти силой заставляла есть. У нее уже было трое подрастающих детей – от двух до шести лет, и она хорошо знала, что и как.
– Это у тебя, пожалуй, дочка будет, – приговаривала она, сидя у лежанки, где распростерлась Мальфрид – бледная, с распущенными волосами, не отодвигаясь далеко от края и лохани на полу. – У меня все четыре раза так было. Когда озноб пробирает – это к девочке, мне еще мать говорила, а нас у нее было пять дочерей. А коли в жар и пот бросает – это к мальчику. Еще если меду хочется или морковки сладенькой – это к девочке, а если все мяса или грибов соленых – к мальчику.
– О-о…
От одной мысли о чем-то из перечисленного Мальфрид снова сморщилась и потянулась к лохани.
Через пару недель Мальфрид полегчало: то ли помогли заботы Всевиды, то ли крепкое здоровье молодой. Она перестала извергать все съеденное и объявила, что готова продолжать путь.
Олег не без пользы провел это время в обществе мужа Всевиды, князя Дивислава. Тот был всего на несколько лет его старше, но правил с отрочества и даже расширил доставшиеся по наследству угодья. Он происходил из тех же вождей, что привели сюда будущих словен три века назад, но не пошли на Ильмень-озеро, а осели на Ловати. Все старинные роды, живущие вдоль этой реки до самой Двины и смолянских волоков, признавали его главой над собою. С князьями западных кривичей он породнился, женившись на Всевиде – дочери полоцкого князя. Его дед поставил городец для защиты от набегов варяжских дружин с Ильменя, и потому владения хольмгардских конунгов не продвинулись дальше на юг. Сам Дивислав, кроме дани со своих подданных, брал десятину с проезжающих через Ловать торговых гостей.
– Вот послушай, я как рассуждаю… – говорил он Олегу, в задумчивости пропуская между пальцами пушистую русую бородку.
Был он довольно хорош собой. Короткий прямой нос придавал мягкости грубоватым внушительным чертам, и портил его только глубокий шрам на лбу, тянущийся почти до затылка, и видный, будто просека, среди волос: след столкновения с каким-то очередным лиходеем, что пытался не только пройти, не заплатив, но и поживиться на счет ловатичей.
– Род жены твоей ведь из Ладоги ведется?
– Так, – Олег кивнул. – Олав рассказывают, будто лет двести назад был в заморских странах такой князь – Харальд по прозвищу Боезуб. Владел он всеми землями, какие только есть на свете…
– Кроме наших! – ухмыльнувшись чужому бахвальству, вставил Дивислав.
– Не поверишь: будто бы и нашими тоже! – улыбнулся в ответ Олег. – Но, я думаю, это для красного словца прибавляют. И вот жил он столько, сколько не живут – лет сто или полтораста. Уже и самому надоело. Тогда велел он всем соседям войско собирать и идти с ним ратиться. Собралось войско великое – столько лодий согнали, что от одного берега моря до другого по ним перейти можно было, будто по суше. Даже боги их варяжские на ту рать явились! Там и погиб князь Харальд, как и хотел, и не к себе домой, а в небесные покои пировать с того поля отправился. И был у него сын по имени Ингвар. Тот после смерти отцовой за море пустился доли искать – и в Ладоге уселся. Там про него тоже много чудного повествуют. Его род в Ладоге лет сто сидел, а потом Тородд, дед моего тестя, от родни подался на юг, Волхов прошел и сел в старом словенском гнезде. И раньше ходили там гости торговые, да было раздоров много: то варяги словен ограбят, то словены варягов побьют. А при Тородде завелся порядок: мирным гостям защита, лиходеям отпор. Тут они и разжились. Через них серебро хазарское с Волги на север идет – чего же не разжиться.
– Теперь вы и с Плесковом родня будете, и с Будгощем. Я слышал, тамошний князь за своего сына высватывает внучку Судогостя плесковского. Боярин рассказывал, – Дивислав кивнул на Честонега. – А я со всеми соседями в родстве: моя мать была из рода смолянских князей, а жена – полоцких. Видишь, какая связка собирается? Если бы мы все, князья, что на реках живем, были бы единым родом – никакие варяги бы… никакие враги бы нам были не страшны! – поправился он, не уверенный, что его собеседника можно исключить из этого полезного, но и опасного племени. – Ты пойми: от руси, конечно, пользы много, но ведь наша эта земля. Пути торговые мы и сами теперь ведаем, и чужим людям платить, чтобы наших же купцов на нашей же земле охраняли, нам без надобности. Мой отец держал воеводу варяжского, а я его отпустил с честью. Сами справляемся. А вы с дедом, хоть родом из руси, правите полянами как князья, вот и думайте, как князья. В нас друзей ищите, в тех, кто на земле сидит крепко. А не в руси, что сегодня здесь, а завтра за Хазарским морем.
– Да… Правду говоришь… – задумчиво согласился Олег.
Уехав из Киева отроком, он слабо представлял себе те далекие земли, которыми ему предстояло править, точнее, не мог уверенно отличить настоящие детские воспоминания от образов, навеянных чужими рассказами. В глубине души он вдруг ощутил зависть к этому человеку – такому уверенному, сидящему возле могил дедов и прадедов, которому никуда не нужно уезжать: ни ребенком, ни взрослым мужем.
О родных краях деда Олег знал лишь по преданиям – найдя новую родину в земле полян, Вещий не особенно любил их вспоминать. Дед пришел когда-то в Гарды, вероятно, намереваясь найти себе место одного из тех дружинных вождей, что сидят на перекрестках торговых путей. Но судьба повела его дальше и сделала полноправным князем. А ему, Олегу-младшему, предстояло утвердиться и укрепить род, дав ему продолжение.
Его дед и станет для будущих далеких потомков тем богоравным предком, в честь которого сооружают святилища, дают названия городам и о подвигах которых рассказывают предания по большим праздникам. Для них, потомков, он сойдет прямо с неба, ступая по облакам и не оставляя следа на земле…
– О чем размечтался? – зять, Острогляд, подтолкнул его локтем. – Небось, уже семерых сыновей перед собой выстроил и учишь мечом орудовать?
– Вроде того! – Олег потряс головой и с облегчением рассмеялся.
Наконец Мальфрид обрадовала его известием, что готова к дальнейшему пути.
Велев слугам собираться, Олег вышел из городка посмотреть дорогу.
Несколько дней перед этим продолжался снегопад, и теперь вся округа была укрыта сплошным пушистым покрывалом. Сияющая белизна простиралась во все стороны, только вдали нарушаемая черным очерком леса.
Но Олег смотрел на русло Ловати. Его еще не успели разъездить, прочертить санные колеи в желтых и бурых пятнах; на белом одеяле реки под солнечными лучами горели жаркие искры – больно смотреть.
Путь Серебра звал его, своего нового хозяина.
Глава 2
Вояна всегда предводительствовала над всеми нами. Братья находились под ее началом до семи лет, после чего переходили на руки мужчинам; мы же, девочки, должны были оставаться в ее власти до тех пор, пока нас не разлучит замужество.
Об этом – далеко ли нас увезут к мужьям? – мы не могли не думать, хотя не любили говорить. Чем знатнее невеста, тем меньше у нее надежды остаться вблизи родительской семьи, и нас с ранних лет приучали к мысли, что замужество неизбежно разлучит на с родными и обречет на жизнь среди чужих.
Моя мать сказала однажды, трепля меня по затылку: «Хорошо, хоть ты у меня не княжья внучка!» Она намекала на Эльгу: будучи дочерью плесковской княжны, та почти наверняка должна была выйти за какого-нибудь князя. Мысль об этом запала в наши головы так рано, что мы совершенно сжились с ней. Но знатную невесту должны сопровождать родственницы, и мы с Эльгой всегда знали: когда она поедет выходить замуж, то возьмет меня с собой. А там, среди родни и дружины ее мужа, наверняка найдется кто-нибудь для меня, и так мы с ней сможем не разлучаться всю жизнь.
Первой, как старшей, идти замуж предстояло Вояне. Но вот наши отцы вернулись из Будгоща, куда ездили знакомиться с родичем, будущим киевским князем, и принесли важнейшую новость: Эльга теперь обручена.
Правду сказать, мы нисколько не удивились. С прошлой зимы мы обе учились прясть. Для того же дела к нам, на «малую беседу», ходили по вечерам все девочки, еще не надевшие поневу, начиная от шестилетних. Взрослые девки собирались на свои отдельные «большие» супрядки, и к ним туда приходили парни. Наши матери давно запрятали в свои укладки по первой ниточке, спряденной каждой из нас: неказистые, они, однако, должны были остаться нашими оберегами в будущем замужестве и на всю дальнейшую жизнь. Моя мать свою первую ниточку так и носила на шее в мешочке с каким-то особым корешком, который ей дала ее собственная мать.
С этой зимы Вояна обучала нас делать тканцы[1] на дощечках, заправленных пока лишь в две дырочки, и на бердышке – без узоров, гладкие, в простую полоску. Мы уже соткали себе по мутовозу – тесемке, которой кудель привязывают к лопаске прялки.
Словом, по нашему мнению, мы уже вполне годились если не в жены, то в невесты. Конечно, до свадьбы мы сначала должны были надеть поневу и походить на «взрослые» супрядки, но ведь и замуж нам еще не завтра! Это простых девок, бывает, уводят прямо с купальских игрищ, если окажется, что в роду жениха некому жать или сгребать сено. Судьбу знатных невест решают заблаговременно, и почти все они оказываются обрученными, едва им впервые заплетут косу. Чем дольше обручение – тем почетнее брак.
Мы с Эльгой приняли новость как должное. Эльга лишь уточнила:
– А он, этот Ингвар, будет князем?
– Будет, когда умрет его отец, – пояснила ей ее мать, Домаша. – Станет править в Холм-граде.
– А там у него большие владения?
– Его род сидит на Волхове близ Ильмень-озера и собирает дань со словен и чуди окрестной. С гостей торговых подать берет, сами купцов рассылают к и хазарам, и к грекам, и к свеям. Они богаты очень.
– Их пращур – Харальд Боезуб! – вставил мой брат Аська, с лихим видом опираясь о свой деревянный меч, который везде таскал с собой. – Он целых сто лет прожил и с самим Одином вышел в поле сражаться!
И воинственно взмахнул своим оружием.
– Не сто, а сто пятьдесят! Ута, правда же? – Эльга взглянула на меня. – Я помню, отец рассказывал про Харальда. Но у него под рукой было столько разных земель… Нет, молчи, я сама помню: он владел Данией, Вестфольдом на Северном Пути, и Сконе, Нор…там-бер-ландией, и Эстландией, и Зеландией… и еще другими. Если Ингвар от него происходит, почему он не князь во всех тех странах?
– Потому что там свои князья сидят! – засмеялась Домаша. – Это же так… басни одни.
– Нет, это правда! – горячо воскликнула Эльга. – Если его деды половиной всего света владели, он тоже должен половиной света владеть! Иначе он просто дурак и растяпа, мне такого в мужья не надо! Встречу его, так и скажу: он должен собрать войско и захватить все земли, где были князьями его деды! И пока не захватит, пусть даже не думает, что я за него пойду!
– Хорошо! – Домаша погладила ее по голове. – Когда придет пора, поедешь к нему в Холм-град и все это скажешь. Но ты понимаешь, когда он захватит весь белый свет, ему же понадобится жена, чтобы умела шить, и прясть, и ткань, и узоры брать лучше всех на свете! Так что подите-ка к Вояне, она себе пояса ткет, и вы рядом садитесь.
– Пойдем! – Эльга, признав справедливость этого довода, тут же вскочила и схватила меня за рукав.
И мы пошли к Вояне.
Она сидела в избе-беседе, где стоял ткацкий стан: его собирали здесь каждую зиму. По вечерам, когда начинались настоящие супрядки, нас сюда не допускали, но Домаша разрешала нам заходить, когда хотела, чтобы Вояна нас чему-нибудь поучила.
Сегодня для Вояны выпал особенный день. Вместе с нашими отцами приехал Житинег из Шелонь-городца со своим сыном Видятой, и за него Вояну сватали. Поломавшись ради обычая, Судогость дал согласие, а значит, согласилась и Домаша. Дядя Вальгард только двинул бровями: когда он женился на молодой вдове, Судогость поставил условие, что право выдавать замуж внучку Воиславу останется за ним. И это было чуть ли не единственное условие, которое он сумел поставить: в то время без помощи наших отцов с их дружиной князь не уберег бы ни своей город, ни семью, ни, пожалуй, голову.
Сколько ни ждешь своей судьбы, а она всегда приходит неожиданно. Вояна, взбудораженная и потрясенная, дрожащими руками расправляла нити для заправки бердышка. Причитать еще не пришла пора, но ей позволили в оконце глянуть на жениха, пока он проходил мимо, и первая встреча так ее потрясла, что к более сложной работе она сейчас была неспособна. Однако и сидеть без дела не могла. До свадьбы оставался год, а то и два, однако казалось, они пролетят мгновенно, а у нее ничего не готово!
– Ох, да не кручинься! – успокаивала Домаша старшую дочь. – Не бывать свадьбе, пока не запасешь всего полные укладки: сорочек, рукавиц, поясов, рушников, постельников, настилальников, семь понев, и вершников, и завесок, и убрусов! Все у тебя будет!
И Вояне хотелось, чтобы все это появилось как можно быстрее! О том и поют на «взрослых» супрядках девушки-невесты:
- Сестрицы мои, подруженьки!
- Как же мне быти,
- Как же мне быти, чем свекра дарити?
- Подарю я свекра шитою рубашкой,
- Шитою,
- Белою,
- Тонкою льняною!
Когда мы вошли, Вояна вскинула глаза, будто от каждого ожидала новостей. Мы с Эльгой тоже видели ее жениха, и нам он не слишком-то глянулся: рослый молодец, худощавый, с выступающим длинным носом и глазами цвета желудя. Ему тогда было восемнадцать, но нам он показался староват – не только для нас, но и для Вояны. Не хуже других, но и позавидовать нечему. Так рассуждали мы в семь лет, когда будущий муж представляется красным солнышком, наряженным в шелковый кафтан.
Однако старики – Судогость и его княгиня – женихом остались довольны. Он был старшим сыном будгощского князя, а значит, под стать старшей невесте нашего рода.
Весь прошлый вечер мы корпели над заправкой бердышка нитями трех цветов, чтобы сделать узорные пояски. Их нужно заправлять в известном порядке, по счету: две желтых, зеленая, желтая, зеленая… В щели – еще куда ни шло, но засунуть нитку в дырочку нашим детским пальчикам было не так легко. «Ужо я вас!» – угрожающе бормотала Эльга, склоняясь над бердышком и в третий раз облизывая лохматый кончик нити. Нас утешало то, что это самая трудная часть работы, потом думать не нужно: знай, просовывай челнок туда-сюда и меняй зев, а узор будет получаться сам собой.
У меня поясок был из нитей желтого, бледно-зеленого и бурого цвета: четырнадцать, двенадцать и одна. Летом мы с матерью и Эльгой красили белую пряденую шерсть крушиной, толокнянкой и дубовой корой с ржавиной – водой, настоянной на разных мелких железных обрубках из Радульвовой кузни. Радульва мы любили: закопченный и страшный, с черными руками, он был добрым человеком и охотно разрешал нам набрать всяких кусочков, хотя мог бы вновь пустить их в дело.
У Эльги заправка была еще лучше моей: из белой шерсти, бруснично-красной и синей. Это две Домаша красила дорогой привозной краской – соткала себе большой платок на голову, а остаточки отдала дочери. Прочие сестры уже заранее завидовали Эльге, которая будет носить такую красоту.
В беседе обнаружилась старая княгиня Годонега, бабка Вояны и Эльги.
Она сидела напротив старшей внучки и смотрела на нее, подпирая подбородок, будто пригорюнясь, но морщинистое лицо ее было радостным. Услышав, с чем приехал зять, князь и княгиня явились к нам в Варягино, хотя обычно это дядя Вальгард ездил к ним.
– Авось доживу я, старая, до твоей свадебки, а там и помирать пора, – говорила бабка. – Успею, дадут боги веку, тебя в мужний дом снарядить, а сама к дедам отправлюсь.
И взгляд ее светлых глаз был при этом таким отрешенным, что нас пробрало морозом.
Мы не сомневались, что княгиня Годонега – для нас баба Годоня – и правда знает дорогу «к дедам», то есть к предкам своего рода. Вот так однажды утречком выйдет за ворота, в платочке, с палочкой и котомочкой, и пойдет туда, где они живут с тех пор, как умерли… Сперва по земле, потом – по небу…
– Вас уже не успею проводить… – она посмотрела на нас с Эльгой (мы поспешно поклонились) и покачала головой. – А жаль! Вас отцы-то как еще снарядят замуж…
Она помрачнела, свет ее лица угас, сменился тенью недовольства.
Мы мало что об этом знали и еще меньше понимали, но улавливали из обрывков разговоров, что у взрослых нет согласия насчет нашего воспитания и подготовки к замужеству. Что мы должны учиться прясть и всему прочему – это само собой. Расхождения касались чего-то загадочного, что имело отношение к лесу.
Однажды мы услышали, как кто-то произнес странные слова «медвежья свадьба». Эльгин отец тогда вскипел, что для него было редкостью, злобно выругался и сказал, что придушит каждого, кто еще хоть раз заговорит об этом. Нас это успокоило: мы выросли на страшных сказках о медведе – лесном хозяине, хотелось держаться от этого подальше.
Вояны споры не касались: как воспитывать ее, решал князь. Обсуждали только нас с Эльгой и еще Володейку с Беряшей. Но их срок должен был наступить на три-четыре года позже, а вот с нами уже подходила пора что-то решать.
Наши отцы не хотели пускать нас в страшный лес, и это радовало. Но было и смутное впечатление, что этот пугающий поход – немалая честь, что в него снаряжают только лучших дочерей самых знатных старинных родов. Тех, что происходят от пращуров племени и сами в будущем станут владычицами и жрицами.
Эта честь была опасна, но уклониться от зова предков – стыдно. Однако мы были слишком малы, чтобы во всем разобраться и решить, как для нас лучше. Да и зачем: мы знали, что решать будут другие.
– А вы сами-то что скажете? – неожиданно обратилась к нам баба Годоня. – Неужто забоитесь в лес идти, медведю кашу варить? Или варяжское ваше племя гораздо только на пирах смелостью своей похваляться, а как до дела – так в кусты?
– Медведю… кашу?
От изумления мы даже выпустили нитки и повернулись к ней.
– Вот слушайте, расскажу я вам баснь одну. Да и посмотрю, внучки вы князей Судиславичией или так, мокрицы варяжские!
Внучкой плесковских князей из нас двух была только Эльга, и к нашим семи годам мы уже прочно усвоили: это различие неминуемо скажется на наших судьбах. Однако мы привыкли с рождения быть всегда вместе: матери зачастую укладывали нас в одну колыбель и смотрели за нами и кормили обеих по очереди. И вся усадьба привыкла видеть нас вместе, поэтому о нас часто говорили так, будто мы «двояки», то есть близнецы.
– Жили-были старик со старухой, и была у них дочка Нежанка… – начала бабка.
В ее баснях девочка или девка всегда носила имя Нежанка. Позднее я узнала: так звали ее старшую дочку, что умерла, еще не успев надеть поневу.
– И вот пошла она с девками в лес по ягоду: идет, аукает, и кто-то ей из леса все отвечает: «ау!» да «ау!» Так она брела, полное лукошко набрала малины, уже еле ноги волочет. Думает, пора домой собираться. Опять кричит «ау!» – а отзыву нет. Кричала, пока с голоса не спала. Надо, видать, как-то самой пробираться… Идет сквозь малинник, лукошко тащит, тяжко ей: кусты за подол цепляют, рубаху ободрали, ноги поцарапали, косу растрепали. Устала с походу. Вдруг слышит: ломит кто-то ей навстречу. Обрадовалась, кинулась туда, глядь: медведь!
Баба Годоня резко подалась в нашу строну, выставив руки, будто лапы с когтями; я от неожиданности вскрикнула, захваченная повествованием, а Эльга лишь крепче вцепилась в скамью. Однако она была непривычно бледна. Я хотела придвинуться к ней, но не смогла пошевелиться, будто старая княгиня, ведунья и старшая жрица плесковских кривичей, и впрямь набросила на нас путы колдовства.
– Нежанка так и обмерла… А медведь ей говорит: «Идем со мной, поживи у меня, послужи мне. Коли хорошо послужишь, я тебя потом домой провожу, в белый свет дорогу укажу». Пошли они…
Краем глаза я заметила, что и Вояна оставила работу и сидит неподвижно, прислушиваясь к рассказу. А ведь она должна была уже все это знать. Вспомнились разговоры, что Вояна в свое время ходила на «медвежьи каши», но мы с Эльгой тогда были совсем дитяти и ничего не поняли. Взрослые дела – такая чащоба непролазная, за всем не уследить!
– Сварила Нежанка кашу, сидит, сама не ест. Вдруг вылазит из-за печки мышка-щурка и говорит: «Дай мне кашки, а я тебе помогу». Дала ей Нежанка кашки…
Мы вспомнили, как на Осенних Дедах наши матери оставляли на столе угощения для невидимых ночных гостей, а потом клали ложку каши в черепок и посылали нас отнести за печку: «для мышки-щурки». В шкурке мышки приходили духи давно умерших прабабок, и считалось большой удачей, если удавалось увидеть какую-то из них возле поминальной каши.
Значит, Нежанке на помощь пришла прабабка, и у нас полегчало на сердце: теперь не пропадет!
– Поел медведь каши и говорит: «Давай со мной в жмурки играть. Не поймаю – твое счастье, а поймаю – съем». Не успела Нежанка испугаться, как мышка на нее платок набросила и в угол толкнула. Она стоит там, ничего не видит, ни жива, ни мертва, а мышка стала по избе бегать. Топочет, попискивает, будто девка. Медведь ловит ее, ловит, а поймать не может, она у него под лапами проскакивает. Ловил медведь, ловил, не поймал, устал – упал прямо посреди избы да и заснул. Тогда мышка с Нежанки платок сдернула, из берлоги ее вывела и дорогу домой показала…
Бабка замолчала, но мы так и сидела застыв, едва смея дышать. Аська хмурился и тайком сжимал рукоять своего деревянного меча – точного подобия отцовского. Ему хорошо, у него хоть такой меч есть. Но почему-то во всех сказках с медведем в лесу встречаются лишь девочки, а у них только ягоды лукошко, да и все…
В этот вечер все взрослые уехали в Плесков на обручение Вояны: выдавая внучку в другой княжий род, дед Судогость решил провести обряд возле старшего родового очага. Мы, дети, остались под присмотром одной только челяди; нас собрали в избу Вальгарда и уложили здесь. Ночуя вместе, мы с Эльгой всегда долго шептались и смеялись на полатях, пока мать не начинала бранить нас, что не даем спать, и грозила выгнать на мороз. Но в этот раз мы молчали. Баба Годоня неспроста рассказала нам «про медведя», и видения из ее сказки так живо стояли перед глазами, что навевали жуть. Особенно страшной казалась слепота зверя: это означало, что здесь, в земном мире он – пришелец, чужак среди живых. Гость из мира мертвых. Позволь девочка ему поймать себя – он проглотил бы ее и забрал с собой туда, в вечный мрак Кощеева подземья…
– Я все поняла, – вдруг шепнула мне Эльга. – Она нам рассказала, чтобы мы знали, что делать.
– Как это – что делать?
– Ну, как быть, когда пойдем в лес и медведя встретим.
– Мы не пойдем! – я испугалась еще сильнее, подозревая, что она права. – Такого сейчас не бывает! Это в давние времена…
– Для князей бывает и сейчас. Вояна ведь в лес ходила.
– Не может быть!
– Даже два раза. Один раз – после той зимы, когда прясть научилась, а второй – прошлым летом, когда уже поневу надела. Так для княжеской внучки положено, а она ведь такая и есть… И я тоже, – чуть помолчав, добавила Эльга.
Будто пробовала на вкус свою судьбу.
– А я нет… – пробормотала я, не зная еще, обрадоваться или огорчиться.
Радовало, что мне можно в лес не ходить, но я хотела, чтобы у нас с Эльгой всегда все было общее. Я очень любила Эльгу. Пожалуй, в то время я любила ее больше всех на свете, да и потом она делила мое сердце только с моими детьми. Боги не послали мне родных сестер, она была мне ближе всех. Мы с ней даже менялись иногда черевьями или кожухами, как будто были одним человеком в двух телах. Нам это очень нравилось, особенно когда родные матери со спины нас путали – а отцы и подавно. Мы радовались всему, что находили у себя одинакового. Особенно я, потому что уже тогда, в семь лет, Эльга казалась мне лучше всех на белом свете. И в тот темный зимний вечер я мысленно прикинула: готова ли я пойти в лес, если это будет нужно ей? Она и правда может пойти – она же такая смелая! А вот я…
Но ведь если я останусь дома, а она уйдет одна, будет еще хуже. И я поняла, что судьба моя предрешена. Раз она – моя сестра, то и дорога у нас одна.
– Я не боюсь, – Эльга будто угадала мои мысли. – Я все запомнила, что надо делать. Сварить кашу, покормить мышку, потом покормить медведя, а мышка поможет, чтобы он не поймал.
– А вдруг ей каша не понравится?
Приготовление каши в то время было для нас очень сложным делом, и мы управлялись с ним обычно вдвоем. И то, начиная, никогда не были уверены, чем наша стряпня закончится.
– Понравится. В лес ходят летом, а до лета мы еще научимся варить кашу как надо.
– Тогда ладно, – согласилась я.
В те дни зима лишь заворачивала к концу, до лета было еще далеко. Эта отдаленность успокаивала: для семилетнего ребенка прожить полгода почти то же, что проехать через полсвета. И я заснула, а наутро образы бабкиного сказа уже не казалось такими яркими и пугающими.
Вскоре начались обряды и всякие забавы в честь наступающей весны, и я уже не боялась ряженого «медведя», которого «ходили будить» в «берлогу», устроенную в овраге. Лелей-Весной тогда нарядили Вояну, и когда «медведь» в косматой шкуре и страшной зубастой личине уносил ее к себе, мы кричали вместе со всеми, но скорее весело, чем испуганно.
Мы ведь знали – ее вот-вот спасут.
Для будущей свадьбы Вояне требовалась добрая сотня поясков, рукавиц, рушников, чулок – чтобы одарить всю многочисленную родню жениха и гостей. А что гости съедутся со всех берегов Ильмень-озера, было ясно. Поэтому не только она, но и мы все трудились не покладая рук. За остаток зимы и весну мы с Эльгой достигли немалого искусства в изготовлении поясков – они получались уже почти ровные и без пропущенных нитей, – и очень гордились тем, что Вояна десятка два наших изделий сочла годными и спрятала в свои свадебные укладки. Наши пояски будут дарами для родни ее мужа!
Кроме того, мы научились вязать. Мой отец вырезал нам по игле из коровьей кости; моя вышла короче обычных, но мне нравилась, и мы усердно старались запомнить, как проводить иглу через петлю. Беда была в том, что до завтра мы успевали забыть то, что запомнили сегодня, и Вояне приходилось показывать нам все заново. Но она не роптала: когда мы выучимся, чулки-копытца для ее будущих гостей примутся вязать уже три пары рук!
По паре чулок мы и правда сотворили: мои вышли покороче, у Эльги – подлиннее. А что в них кое-где зияли дыры от пропущенных петель – так ведь самим и носить!
Эта первая вязальная игла и сейчас еще у меня. Страшно подумать, сколько пар чулок и рукавиц она с тех пор связала; от постоянного трения о шерстяную нить она сделалась гладкой и блестящей, как стекло, почти прозрачной. Отца моего давно нет в живых, и я очень дорожу этой иглой.
В конце весны по большой воде ушли два обоза: вниз по реке Великой – в Варяжское море, и вверх – тот, что стремился после долгого путешествия по рекам и озерам попасть на Днепр, а там и в Греческое море.
Увезли они главным образом лен. Мы уже знали, что наш лен – лучший на всем белом свете, потому его и покупают везде: от Северных Стран до Серкланда. В наших краях водилось много сказаний о берегинях-льняницах: дескать, берегут поля, потому и лен у нас так хорош. Сама Леля полила эту землю слезами из голубых своих глаз, когда тосковала по добру молодцу Дажьбогу, и осенила серебряными своими волосами, пока ходила, искала его…
Созрела земляника. С нашими матерями, а то и бабкой Годоней (если в тот день у нее не сильно болела спина) мы ходили по рощам и лугам, собирали травы: красить пряжу и лечить разные хвори. Весь месяц кресень, когда зелия имеют наибольшую силу, мы только этим и занимались. Если баба Годоня в какой-то день не могла идти сама, мы приносили ей ствольник-траву: дома кипятили воду, обливали свежие листья, заворачивали в ветошку и прикладывали к бабкиной спине – ей становилось легче. А она всякий раз напоминала нам, что ствольник ядовит и чтоб мы с ним не шалили.
После Купалий поспела черника, все дети ходили с черными от ягод ртами и дразнили друг друга страшными синими языками. Мы с Эльгой любили бродить с туесками вокруг сосен, перебираясь от одной кочки к другой с грабилкой в руке. Брат Аська ходил впереди нас и шевелил в черничнике палкой, чтобы выгнать змей, если затаились. Свой деревянный меч он держал в другой руке или вешал на плечо в ременной перевязи, тоже в точности как у отцовых хирдманов. Мы рассказывали друг другу какие-то сказы, сочиняя на ходу, иногда спорили, «как было дальше». Побеждала обычно Эльга: у нее была цепкая память, складная речь, а еще такой уверенный вид, будто она лучше всех всё знает. С ней обычно соглашались не только я, но и Аська.
Вояна в то лето с нами не ходила: она стала достаточно взрослой, чтобы работать на сенокосе. Особенно усердствовать, как простых девок, ее не заставляли, чтобы личико солнцем не пожгло, но появляться на покосе ей было надо, а то слух пойдет, будто невеста никуда не годна.
Однажды мы так увлеклись, что забыли и про чернику.
На днях в веси Видолюбье, что неподалеку от нашего Варягина, случилось дивное дело: баба встретила прямо на дороге перед избами белку. А у бабы умер сын, на днях только схоронили. И вот вдруг сморил ее сон, и приснилось, будто сын ей говорит: «Иду в гости». Она вышла его встречать, глядь – белка: скачет прямо к дому. Не дошла немного и пропала. Потом искали в огороде, все гряды обшарили – не нашли.
Все говорили, это тот покойник и был, но Эльга не верила.
– Не приходят покойники белками! – твердила она. – Птицами ходят, и мышами, и змеями являются, а белками не могут!
– Но белки и в дом к людям не ходят! Как бы она из леса вышла?
– А может… – Эльга огляделась, будто подбирая для белки подходящую причину для такого путешествия, и замолчала.
И в тишине я осознала то же, что и она: мы тут вдвоем. Исчезли куда-то все наши спутники: и Аська, и баба Годоня, и Бобреня, и Пестрянка с Утрянкой. Никого не видно.
– А где все? – спросила я.
Эльга промолчала.
– А куда идти? – опять спросила я.
Привыкнув, что Аська или баба Годоня нас приводят в лес и отводят обратно домой, мы не очень-то примечали, куда идем.
Заболтались и… заблудились?
– Давай покричим, – предложила она.
Мы покричали, но отклика не услышали и скоро умолкли: стоя вдвоем посреди леса, подавать голос страшно. Но как же нас найдут, если мы будем молчать?
Пробрала дрожь: лес вокруг был таким огромным, а мы – такими маленькими…
Солнце спряталось, небо посерело. Мы вдруг озябли: на нас были только сорочки с поясками да белые косынки на головах. Потянуло заплакать, но я сдержалась: уж слишком очевидно было, что пожалеть нас тут некому.
Я посмотрела на Эльгу: она нахмурилась и тоже крепилась. Тогда я сглотнула и постаралась утешиться: нас найдут. Надо подождать, и кто-нибудь появится.
– Кажется, нам… туда, – Эльга показала между двумя кочками, которые мы уже обобрали. – Я знаю! Смотри, где нет черники – значит, мы там проходили. Так мы дорогу и найдем!
Я обрадовалась: как она здорово придумала!
Лукошки от усталости казались тяжелыми, но бросить их мы не решились: получится, попусту сходили. И мы потихоньку двинулись через лес, внимательно оглядывая кочки и выбирая те, что были обобраны. Иногда мы расходились, но не далее чем шагов на семь-десять, чтобы не терять друг друга из виду.
– Иди сюда! – позвала меня Эльга. – Куда ты забилась?
– Ты иди сюда! Здесь все обобрано.
– Это здесь все обобрано, нужно сюда!
По привычке уступать я подошла: кустики на кочках перед ней тоже были пусты.
– Это не мы тут ходили, – заметила я. – Это уже давно обобрали.
– Ну, значит, ходил кто-то другой. И он тоже ведь пошел потом домой?
– А может, он живет вовсе не у нас?
– Ну, и что? Найдем хоть какое жилье, а там нас выведут. Наших отцов все знают. А еще больше – деда!
Конечно, о княжеских внучках люди бы позаботились и проводили домой, но мы никак не могли решить, в какой стороне нам этих добрых людей искать.
Вдруг что-то зашевелилось в кустах в десятке шагов от нас – такое огромное, что от неожиданности мы вздрогнули и я, кажется, даже взвизгнула. В ужасе мы отшатнулись и прижались к сосне.
Лапы молодых елей раздвинулись, и перед нами очутился… медведь.
При виде огромной туши в бурой шкуре и с оскаленной пастью я пискнула, крепко вцепилась в Эльгу и зажмурилась. Во мне еще живо было младенческое убеждение, что таким способом можно избавиться от любой беды.
Но Эльга оттолкнула меня, схватила с хвои кривой сук и с натугой подняла перед собой.
– А ну, подойди! – воинственно выкрикнула она. – Ужо я тебя!
– Кто тут шумит у меня в лесу? – низким голосом проговорил медведь. – Кто мне спать не дает?
«Почему он спит – ведь сейчас лето?» – мельком подумала я. Именно это удивило меня в тот миг больше всего.
Что медведь ходит на двух ногах и говорит человеческим голосом, было более-менее понятно: ведь во всех сказках медведь и разговаривает, и поет. Мы знали, что медведи вступают в беседы не всегда, но то, что они это могут, не сомневались. Жизнь тогда еще не вполне обозначила для наших семилетних умов границу между тем, что бывает обычно, и тем, чего не бывает почти никогда.
Сейчас-то я уже достаточно стара и мудра, чтобы понимать, как зыбка эта граница на самом деле…
Но тогда мы не сильно удивились, а только испугались. Если медведь все же заговорил с нами, значит, это не простой медведь, а оборотень. Тот, кто живет между белым светом и Навью!
А то, что находится между, и пугает сильнее всего.
Эльга от неожиданности даже выронила сук.
– М-мы забл-лудились, – дрожащим голосом, но довольно внятно выговорила она. – М-мы – к-княжьи внучки. Не ешь нас, он тебя наградит.
– Меня наградит! – медведь хрипло рассмеялся. – Погляжу я на того, кто меня наградить сумеет!
Мне показалось, что морда у него какая-то странная: оскаленная пасть с желтыми зубами находится слишком высоко и не двигается, а под ней видно что-то похожее на бороду. В этой-то бороде и шевелился рот, из которого исходил голос. Медведь слегка шепелявил – наверное, клыки мешали.
– Еще кто кого наградит! Это я – хозяин лесной, я сам девок награждаю и счастьем наделяю. Вот такое дело… Которая мне послужит хорошо, ту я самым дорогим подарю: будут у нее рождаться ребята, здоровые, как медвежата! Но это вам пока рано ведать.
– Проводи нас домой! – попросила чуть ожившая Эльга. – А мы тебе… чернику нашу отдадим. Смотри, сколько набрали.
– Ягоды у меня не счесть – скажу слово, она сама будет с куста прыгать да прямо мне в пасть! – медведь опять захохотал. – Вот такое дело… Вам до дому далеко, а я устал. Поведу к себе: отдохнем, а там и видно будет. Ступайте за мной.
Он начал было поворачиваться, но заметил – он этого явно ожидал, – что мы не шевелимся и не торопимся выполнить его приказ. Тогда он резко обернулся снова к нам и рявкнул:
– А не то – съем!
Мы взвизгнули и схватились друг за друга.
Медведь сделал знак высоким посохом, который держал в лапе, и мы побрели. Боялись отвести от него взгляд и потому все время спотыкались.