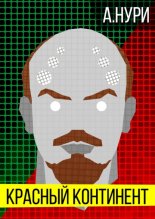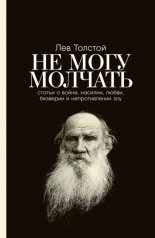Сердце Тьмы Конрад Джозеф

© Школа перевода В. Баканова, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Сердце тьмы
Глава 1
Яхта «Нелли» повернулась на якоре и застыла. Начинался прилив, паруса висели неподвижно – стоял почти полный штиль, – и нам ничего не оставалось, кроме как дожидаться отлива.
Впереди раскинулось устье Темзы, бесконечный водный простор. Море и небо были спаяны воедино без намека на горизонт, и в этой сияющей дали баржи, идущие с приливом вверх по реке, казалось, стояли на месте – в рдяных скоплениях дубленых парусов поблескивали лакированные бушприты. На пологих берегах и песчаных отмелях лежал туман. Воздух над Грейвзендом был темен, а дальше еще темнее: скорбная тьма клубилась над самым большим и великим городом земли.
Нас принимал капитан и владелец яхты, он же директор акционерного общества. Сейчас он стоял на носу и смотрел вдаль, словно лоцман, а мы четверо любовались его благородной спиной. На всей реке не было никого и ничего, что в той же степени олицетворяло бы собой моряцкое дело, – недаром лоцманы пользуются безоговорочным доверием моряков. Трудно было даже представить, что призвание этого человека лежало не впереди, в сияющей морской дали, а позади, под завесой тьмы.
Как я уже когда-то говорил, всех нас связывало море. Эта духовная связь между нами крепла с каждым дальним плаванием, и мы сделались на удивление терпимы к байкам и даже убеждениям друг друга. Адвокату – приятнейшему старику – в силу преклонных лет и многочисленных заслуг досталась единственная подушка и единственный коврик. Счетовод уже вынес на палубу домино и выстраивал из костяшек архитектурные сооружения. Марлоу сидел на корме, скрестив ноги и прислонившись к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтое лицо, прямая спина и аскетический облик. Он опустил руки и вывернул наружу открытые ладони, отчего стал похож на идола. Убедившись, что якорь держит как надо, директор присоединился к нам на корме. Мы благодушно обменялись парой слов, после чего на борту яхты воцарилась тишина. Играть в домино отчего-то расхотелось. Всех охватила томная задумчивость и молчаливость; мы только и могли, что миролюбиво поглядывать по сторонам. День подходил к безмятежному и сияющему своему завершению. Вода мягко сверкала на солнце; бескрайние небесные просторы дарили ласковый свет. Даже туман над эссекскими болотами казался отрезом воздушной сверкающей ткани: прозрачными складками он спадал с лесистых склонов и ложился на взморье. Однако тьма на западе, словно разъяренная приближением солнца, с каждой минутой становилась все гуще.
Наконец солнечный шар в своем незримом падении коснулся горизонта. Из сияющего белого он превратился в красный и больше не испускал ни лучей, ни тепла, будто приготовился погаснуть, сгинуть в мгновение ока от соприкосновения с той тьмой, что висела над скопищем людей.
Тотчас перемены постигли и водную гладь: сияние ее ослабло, но зато она стала еще спокойней. Древняя широкая река на исходе дня несла свои воды бесстрастно и невозмутимо – спустя долгие века исправного служения людям, заселившим ее берега, она раскинулась вальяжно, как и подобает великому потоку, ведущему к самым отдаленным уголкам земли. Нам посчастливилось наблюдать достопочтенную Темзу не в яркой суете мимолетного дня, но в августейшем сиянии воспоминаний, которые остаются надолго. И действительно, в низовьях Темзы человеку, который, как говорят, с почтением и любовью «посвятил жизнь морю», не трудно воочию увидеть великое прошлое нашей страны. Приливы и отливы несут здесь свою вечную службу: влекут корабли, людей и их воспоминания то к родному дому, то на поля морских сражений. Эти воды служили всем, кем гордится английский народ, от Фрэнсиса Дрейка до сэра Джона Франклина, всем героям, титулованным и нетитулованным, всем странствующим рыцарям моря. По Темзе ходили корабли, чьи имена сверкают, подобно драгоценным каменьям, во тьме времен: начиная от «Золотой лани», что вернулась из кругосветного плавания, наполненная сокровищами, и принимала на своем борту ее величество, после чего навсегда выпала из жизни и истории великой страны, заканчивая «Эребусом» и «Террором», что ушли осваивать Арктику и не вернулись. Река знала корабли и людей. Они шли сюда под парусом из Дептфорда, Гринвича и Эрита – искатели приключений и колонисты; королевские и торговые суда; капитаны, адмиралы, нечистые на руку восточные купцы и «генералы» ост-индских флотилий. Искатели золота и славы, все они шли по этим водам, с мечом – и часто с факелом – в руке, посланцы сильных мира сего, хранители искры священного огня. Какое величие несли эти воды навстречу тайне неизведанных земель! Мечты людей, зачатки держав, семя империй…
Солнце село; туман опустился на реку, и вдоль берегов уже загорались огни. Над илистой отмелью ярко светилась трехногая тварь – маяк Чэпмен. По фарватеру, сверкая огнями, скользили корабли. А небо над чудовищным городом, где при свете дня клубилась тьма, ночью отметилось зловещим ореолом.
– А ведь и в этих местах когда-то царила тьма, – вдруг молвил Марлоу.
Из всех собравшихся на борту яхты он один по сей день «посвящал жизнь морю». Ничего плохого о нем сказать не могу, разве что он был нетипичным представителем своего ремесла – не только моряком, но и подлинным странником. Большинство моряков ведут, если можно так выразиться, оседлый образ жизни. Они предпочитают не выходить из дома, а дом их – борт корабля, и не покидать родной страны – то есть моря. Все корабли очень похожи друг на друга, и море везде одно. Когда окружение неизменно, даже далекие берега, лица чужестранцев и меняющаяся беспредельность жизни лишь проплывают мимо, прикрытые вуалью не тайны, но слегка презрительного неведения, ибо нет для моряка ничего таинственнее самого моря. Море – единственный владыка его существования, непредсказуемый, как сама судьба. В часы, свободные от службы, моряку достаточно прогуляться по набережной или пропустить стаканчик-другой в кабаке, чтобы познать суть всего континента, причем обычно он приходит к выводу, что суть эту не стоило и познавать. Моряцкие байки всегда просты, и понять их смысл так же легко, как извлечь ядро из расколотого ореха. Но Марлоу был необыкновенным моряком (хотя, признаться, байки травить любил), и для него истинное значение рассказываемой истории крылось не в ядре, а в оболочке, которая окутывала ее подобно тому мглистому ореолу, что проступает в призрачном сиянии луны.
Его слова ничуть нас не удивили. Таков был наш Марлоу. Мы выслушали его молча, никто даже не хмыкнул в ответ. Вскоре он медленно произнес:
– Я думал о тех давних временах, когда здесь впервые высадились римляне, – девятнадцать столетий назад, то есть, считай, вчера… Эта река несет свет в темные уголки земли со времен… рыцарей, говорите? Да, но свет их был подобен пожару, вспыхнувшему на поле, молнии, что на миг озарила небеса. Мы все живем в ее отблеске – и пусть он длится, покуда вертится старушка Земля! Однако еще вчера здесь было темно. Представьте себе чувства капитана славной… как бишь они назывались?.. триремы, рассекающей Средиземное море. Его вдруг отправляют на север, в спешке переправляют сушей через Галлию и назначают командиром одного корабля из тех, что легионеры строили чуть ли не сотнями и буквально за месяц-другой. Превосходные были ребята, умелые! Так вот: представьте, как этот капитан попадает сюда, на самый край света, и видит море цвета свинца, небо цвета дыма, и судно у него несговорчивое, как концертина. Он идет вверх по реке с товарами, или приказами, или бог знает с чем еще. Песчаные отмели, болота, леса, дикари… Есть почти нечего, а пить воду из Темзы цивилизованному человеку не пристало. Никакого тебе фалернского вина, да и на берег не сойти. Тут и там средь дикой глуши, точно иголки в стоге сена, попадаются военные лагеря. Холод, сырость, туман, бури, болезни, изгнание и смерть – смерть всюду, она таится в воздухе, в воде, в зарослях на берегу. Люди, должно быть, дохли здесь как мухи. О да, наш капитан справился с заданием, прекрасно справился – и без лишних размышлений, между прочим. Разве что потом, на склоне лет, любил прихвастнуть и вспомнить былые подвиги. Возможно, сердце ему грела мысль о продвижении по службе и поступлении в Равеннский флот – если, конечно, удастся выжить в этом ужасном климате и обзавестись добрыми друзьями в Риме. Да, люди в те времена не боялись заглянуть в лицо тьме. Или представьте себе приличного римского юношу в тоге, который, может быть, проигрался в кости и прибыл сюда вместе с префектом, сборщиком податей или даже купцом, дабы поправить свое положение. Он высаживается на сушу и попадает в болото, бредет сквозь лесную чащу, а потом приходит в какой-нибудь глухой лагерь и сознает: тьма сомкнулась вокруг него, беспросветная первобытная тьма – эта таинственная жизнь природы, что копошится во мраке леса, в джунглях и сердцах дикарей. В подобные тайны никто не посвящает. Юноше приходится жить среди непознанного – и глубоко презираемого. Постепенно в нем просыпается странный восторг – очарованность мерзостью, понимаете? Представьте себе его сожаления, мечты о доме, беспомощное отвращение, смирение, ненависть…
Марлоу умолк.
– Заметьте… – начал он снова, приподняв и согнув в локте одну руку и обратив к небу открытую ладонь. При этом он сидел по-турецки, отчего напоминал Будду, но в европейском платье и без цветка лотоса в руках. – Заметьте, мы бы на их месте чувствовали себя иначе. Нас спасает деловая хватка, стремление к результату. А эти ребята, чего уж там, звезд с неба не хватали. Колонистами они не были, а их правители, подозреваю, преследовали единственную цель – выжать из новых земель побольше. Завоевателю достаточно грубой силы, и хвастаться здесь нечем, ведь сила эта происходит лишь от слабости других. Они гребли под себя все, что плохо лежало. То был самый натуральный грабеж, зверство в крупных масштабах, и люди предавались этому зверству вслепую – как и подобает тем, кто бросил вызов тьме. Завоевание земель – то есть, в сущности, отнятие земель у людей с другим цветом кожи или чуть более плоскими носами – не самое благородное дело, если вдуматься. Оправдывает его лишь идея, великий замысел, лежащий в основе. Не сентиментальное притворство, но идея и бескорыстная вера в эту идею, которой человек готов служить, поклоняться и приносить жертвы…
Он умолк. Огни скользили по реке – маленькие зеленые, красные и белые огоньки преследовали и захватывали друг друга, пересекались и сливались воедино, затем расходились – медленно или поспешно. Река не знала сна, и движение судов по ней продолжалось даже ночью. Мы смотрели на воду и терпеливо ждали отлива. Делать все равно было нечего, и лишь после того, как Марлоу нерешительно проговорил: «Вы, верно, помните, как мне однажды довелось ходить по пресной воде…», – мы поняли, что нам предстоит выслушать очередную неоднозначную историю о его моряцкой жизни.
– Не хочу мучить вас лишними подробностями о том, что происходило со мною лично, – начал он, демонстрируя слабость, свойственную многим рассказчикам: не догадываться, что действительно интересно слушателю, – однако, дабы вы лучше поняли, как на меня повлияла эта история, я должен рассказать, зачем отправился в те края, что видел и как поднимался по реке к тому месту, где познакомился с бедолагой, о котором пойдет речь. В те времена дальше заплыть на корабле было попросту невозможно. Эту историю я по сей день считаю кульминационной точкой своей жизни; она пролила новый свет на меня самого, на мои чаяния и мысли. То был безрадостный и тяжелый опыт, весьма прискорбный и не сказать, чтобы исключительный. У меня до сих пор нет ясного мнения о тех событиях… Да, полной ясности не наступило. Но все же свет был пролит.
В ту пору я, если помните, только что вернулся в Лондон после того, как лет шесть бороздил Индийский, Тихий океаны и китайские моря, – словом, на Восток насмотрелся вдоволь. Ничем особенным я дома так и не занялся, разве что мешал вам, ребятки, спокойно работать и врывался в ваши дома так, будто Господь возложил на меня высокую миссию: расширить ваш кругозор. Хорошее было время, спокойное. Однако отдыхать мне быстро надоело, и я стал подыскивать себе новый корабль – самое непростое дело на свете, ей-богу. На кораблях меня и видеть не хотели, и эта игра тоже мне вскоре опротивела.
В детстве я обожал карты. Часами разглядывал Южную Америку, Африку или Австралию, представляя себя великим первооткрывателем. В те времена на карте Земли было множество белых пятен, и я, завидев какое-нибудь соблазнительное пятнышко (впрочем, все они манили меня одинаково), говорил: «Когда вырасту, отправлюсь туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Что ж, могу сказать, на Северном полюсе я так и не побывал – а теперь и не рвусь. Очарование померкло. По обоим полушариям земного шара было разбросано множество подобных мест. Кое-где я побывал и могу заключить… а, ладно, сейчас не об этом. И все же одно пятно, самое большое и самое белое, так сказать, надолго запало мне в душу.
Впрочем, с годами оно перестало быть белым. Постепенно оно наполнялось озерами, реками, новыми названиями и уже не таило в себе пленительной загадки, каковую мечтал разгадать маленький мальчик. Края эти покрыла тьма. Но была там одна река, большая и могучая, которая на карте походила на огромную змею, расправившую кольца: голова ее скрывалась в море, тело вилось по обширному континенту, а хвост терялся в его глубине. Когда я стоял перед витриной и разглядывал эту карту, она зачаровывала меня подобно тому, как змея гипнотизирует птаху – маленькую глупую птаху. А потом я вспомнил, что на этой самой реке ведет торговлю одна крупная контора, одна Компания. Черт подери! – подумал я. Без пароходов на такой огромной реке не поторгуешь, это как пить дать! Отчего бы мне не стать капитаном речного парохода? Я прогулялся по Флит-стрит, но мысль все не шла из моей головы. Змея очаровала жертву.
Как вы понимаете, торговая контора располагалась на континенте, но у меня предостаточно родственников в тех краях: по их уверениям, жизнь там дешевле и не так отвратительна, как может показаться на первый взгляд.
Словом, я начал донимать этих родственников – что для меня уже само по себе было в новинку. Я не привык просить о помощи и всегда шел туда, куда меня могли донести собственные ноги, но тут почувствовал, что должен попасть в те края любой ценой, всеми правдами и неправдами. Сперва я прицепился к родственникам мужского пола. Они в ответ только восклицали: «Дружище!» – и ничего не делали. Тогда – подумать только! – я начал надоедать женщинам. Я, Чарли Марлоу, задал работенку прекрасному полу, чтобы те пристроили меня на работу. Силы небесные! Но, как видите, я был одержим идеей. Моя тетушка, добрейшая и увлеченная душа, написала: «Помогу с огромным удовольствием. Ради тебя я готова на все, на все! Какая славная затея. Я знакома с женой одного высокопоставленного местного чиновника, весьма влиятельного человека…» И так далее. Словом, она готова была пойти на любые хлопоты, чтобы пристроить меня шкипером на речной пароход, раз уж мне так вздумалось.
Разумеется, меня вызвали на работу – и очень скоро. Контора получила весть о том, что один из капитанов погиб в стычке с туземцами. Я понимал, что это прекрасный шанс, и в то же время изрядно струсил. Лишь многие месяцы спустя – пытаясь добыть останки того капитана – я узнал, что ссора разгорелась из-за куриц. Да-да, из-за двух черных куриц. Фрэслевен – так звали погибшего датчанина – решил, что с ним несправедливо обошлись в некой сделке и вздумал поколотить старейшину деревни палкой. Между прочим, мне говорили, что Фрэслевен был милейшим и добрейшим созданием, когда-либо ходившим на двух ногах. Но я ничуть не удивился. Уверен, он и впрямь был славным человеком, вот только к тому времени он уже года два служил благородной цели и, вероятно, ощутил потребность как-то самоутвердиться. Фрэслевен принялся безжалостно колошматить старого негра, причем на глазах у всего честного народа. Народ ошарашенно наблюдал, не в силах ничего предпринять, но тут какой-то юноша – сын старейшины, как мне сказали, – не вытерпел криков старика и осторожно ткнул белого человека копьем промеж лопаток. Копье легко прошло насквозь. В следующий миг вся деревня скрылась в лесу, испугавшись страшной кары, а пароход Фрэслевена в панике покинул дикие берега – под командованием судового механика, как я понимаю. До останков Фрэслевена никому дела не было, покуда его место не занял ваш покорный слуга. Когда мне наконец представился шанс повстречаться лично со своим предшественником, трава, проросшая сквозь его ребра, уже полностью скрыла кости. Они все были на месте. Никто не осмелился притронуться к трупу сверхъестественного существа. Местные жители забросили свою деревню, хижины стояли пустые и покосившиеся, ограда валялась на земле. О да, их постигла страшная кара: они исчезли. Безумный ужас вынудил этих мужчин, женщин и детей скрыться в зарослях. И домой они больше не вернулись. Что стало с курицами – тоже неизвестно. Полагаю, их в конечном итоге заполучили служители прогресса. Зато благодаря этому примечательному случаю я получил работу – и притом в кратчайшие сроки, не успев даже как следует о ней помечтать.
Я носился по городу точно угорелый, готовясь к отплытию, и уже через двое суток пересек Ла-Манш, дабы лично показаться работодателю и подписать контракт. Через несколько часов я прибыл в город, который всякий раз наталкивает меня на мысли о гробе повапленном, – но это предрассудки, разумеется. Я без труда нашел контору той самой Компании, самого крупного предприятия в городе. Все, кого я встречал, имели о нем свое мнение. Компания задумала выстроить заморскую империю – наладить торговлю на континенте и лопатой грести оттуда золото.
Узкая, темная и безлюдная улочка, высокие дома, жалюзи на бесчисленных окнах, мертвая тишина, всюду сорная трава, огромные тяжеленные ворота раскрыты настежь… Я пролез в какую-то щелку, поднялся по чисто выметенной лестнице, сухой и бесцветной, как пустыня, и открыл первую попавшуюся мне дверь. На стульях с плетеными сиденьями восседали две женщины, толстая и худая. Обе вязали что-то из черной шерсти. Худая встала и, не прекращая вязать, направилась прямо ко мне. Когда я уже собрался отскочить в сторону – так уходишь с дороги лунатика, чтобы ненароком его не разбудить, – она вдруг остановилась и подняла глаза. Платье у нее было простое, как чехол для зонта. Женщина, не сказав ни слова, повела меня в приемную. Я представился и огляделся. Сосновый стол посреди комнаты, простые стулья вдоль стен, в углу – большая блестящая карта мира, расцвеченная всеми цветами радуги. На карте было много красного – на красный всегда приятно посмотреть, потому что знаешь: люди в тех краях заняты делом, – и ужасно много голубого, немножко зеленого, кляксы оранжевого и, на восточном побережье, заплатка фиолетового – в том месте, где славные пионеры прогресса попивали славное легкое пиво. Впрочем, все эти цвета меня мало интересовали. Я быстро нашел желтое пятно – аккурат посередине карты. И река была на месте: чарующая смертоносная змея. Ой! Дверь отворилась, в нее просунулась седая секретарская голова с кислой сострадательной миной, и тощий указательный палец поманил меня в святая святых. Внутри было темно, посередине стоял массивный письменный стол. За этой громадиной виднелся некто бледный, пухлый и в сюртуке: судя по всему, он самый. Росту он был не слишком высокого, примерно пять футов шесть дюймов, но от него зависели судьбы миллионов. Главный растерянно пожал мне руку, что-то пробормотал, выразил удовлетворение моим французским. Bon voyage[1].
Через полминуты я вновь очутился в приемной, где тот же секретарь, исполненный уныния и сострадания, попросил меня подписать какие-то бумаги. Полагаю, помимо прочего они обязывали меня не разглашать коммерческие тайны. Что ж, я и не собираюсь это делать.
Мне стало не по себе. Как вы знаете, я не привык к такого рода церемониям; в атмосфере конторы чувствовалось что-то зловещее. Меня словно пытались посвятить в некий заговор… не знаю… сделать участником чего-то недоброго и постыдного. Словом, я был рад оттуда убраться. В передней две женщины по-прежнему яростно вязали что-то из черной шерстяной пряжи. Пришли какие-то люди, и та, что помладше, заходила туда-сюда, представляя их друг другу. Старуха ни разу не встала со стула. Ноги в домашних туфлях она держала на грелке, а на коленях у нее спала кошка. Голову старухи венчала сложная накрахмаленная конструкция, щеку украшала бородавка, на кончике носа висели крошечные очки в серебряной оправе. Вдруг она глянула на меня поверх этих очков. Признаться, меня потряс ее странный, равнодушно-безмятежный взгляд. В кабинет главного повели двух юношей с глупыми жизнерадостными минами, и их она окинула тем же быстрым взглядом, полным безучастной мудрости. Казалось, она все знает про этих молодых людей – и про меня тоже. Страх овладел мною. Было что-то жуткое и пророческое в этой старухе. Потом, на чужбине, я часто вспоминал двух женщин у Врат Тьмы, вяжущих черный шерстяной саван: одна без конца отводит, отводит людей в неизвестность, а другая мерит равнодушным взглядом их глупые веселые лица. Мы, идущие на смерть, приветствуем тебя, вязальщица черной шерсти! Немногим из тех, на кого старуха обращала свой взгляд – полагаю, даже не половине, – выпал шанс увидеть ее вновь.
Мне предстояло еще посетить врача.
– Простая формальность, – заверил меня секретарь. Вид у него был такой, словно он брал на себя ответственность за все невзгоды, что выпадут на мою долю. Сразу же откуда-то явился молодой человек в надвинутой на левую бровь шляпе – видимо, мелкий конторский служащий (должны же быть какие-нибудь служащие в этой конторе, пусть и похожей на дом в городе мертвецов!). Юноша повел меня за собой. Одет он был скверно и неряшливо: рукава в чернильных пятнах, широкий мятый галстук, над которым торчал острый, похожий на мысок старинного сапога, подбородок. До приема врача оставалось еще немного времени, и я предложил парню выпить, отчего он тотчас повеселел. Пока мы попивали вермут, он только и делал, что пел дифирамбы Компании. В конце концов я не выдержал и спросил, отчего ж он сам не отправится на континент. Юноша моментально принял серьезный и собранный вид. «“Я не такой дурак, каким кажусь”, – говорил Платон своим ученикам», – напыщенно произнес он, одним махом опустошил стакан, и мы оба встали.
Старик врач посчитал мой пульс, явно думая при этом о чем-то другом.
– Превосходно, превосходно, – пробормотал он, после чего заметно оживился и попросил разрешения измерить мою голову. Я не без удивления согласился. Тогда врач взял нечто вроде кронциркуля и обмерил мою черепушку со всех сторон, прилежно записывая что-то в тетрадь. Он был невысок ростом и небрит, носил протертый до дыр долгополый сюртук и домашние туфли. Мне он показался безобидным идиотом.
– У всех, кто уезжает за море, я в интересах науки измеряю череп, – сказал врач.
– И потом, по приезде обратно, тоже? – спросил я.
– О, я их больше не вижу, – ответил старик. – Кроме того, все перемены происходят внутри, если вы меня понимаете. – Он улыбнулся, словно бы некой шутке, понятной лишь ему самому. – Итак, вы решились ехать. Потрясающе. Весьма любопытно. – Врач бросил на меня искательный взгляд и что-то записал в тетради. – Были ли у вас в роду безумцы? – непринужденно спросил он.
Я порядком рассердился.
– Это вы тоже спрашиваете в интересах науки? – буркнул я.
Не обращая никакого внимания на мое раздражение, старик ответил:
– С научной точки зрения было бы весьма интересно понаблюдать за переменами, каковым подвергается психика и рассудок человека там, на месте, однако…
– Вы психиатр? – перебил я.
– Любой врач немножко психиатр, – невозмутимо ответил мне этот чудак. – У меня есть кое-какая теория… И вы – господа, отправляющиеся на чужбину, – поможете мне ее доказать. Моя страна получит массу преимуществ от обладания этой славной колонией, и я хочу, как говорится, внести свою лепту. Деньги и богатство пусть достаются другим. Простите меня за назойливость, но вы – первый англичанин, попавший под мое наблюдение.
Я поспешил заверить его, что отнюдь не считаю себя типичным англичанином.
– Иначе мы бы с вами так мило не беседовали, – заметил я.
– Какое глубокомысленное наблюдение – и почти наверняка ошибочное, – засмеялся врач. – Раздражения остерегайтесь даже больше, чем солнца. Adieu[2]. Как бишь прощаются англичане, м-м? Гудбай! Adieu. В тропиках прежде всего необходимо соблюдать спокойствие. – Он предостерегающе поднял указательный палец. – Du calme, du calme[3].
Мне оставалось всего одно дело – попрощаться с моей чудесной тетушкой. Она ликовала. Я выпил чашку чая – последнего приличного чая на много месяцев вперед, – и в приятнейшей гостиной, какая и должна быть в доме всякой настоящей леди, мы уселись поболтать в кресла у камина. Из долгой задушевной беседы с тетушкой я извлек, что жене того высокопоставленного чиновника и бог знает скольким еще людям я был представлен как создание исключительного таланта и ума, дар свыше, прямо-таки самородок. Силы небесные! И эдакому гению предстояло стать капитаном речной развалюхи с дуделкой на макушке! Впрочем, нет, я был бы не просто капитан, а Сотрудник Компании – с большой буквы, – посланец света, практически апостол. В ту пору много подобного вздора можно было встретить в газетных статьях и разговорах, и моя славная тетка, жившая в ногу с нашим безумным временем, потеряла голову. Она несла чепуху о «миллионах несчастных, которых мы избавляем от зверских обычаев», и очень скоро мне стало дурно от ее речей. Я робко намекнул, что единственная цель Компании – зарабатывать деньги.
– Вы забыли, мой милый Чарли, что трудящийся достоин награды за труды свои! – прощебетала она.
Поразительно, насколько женщины бывают далеки от истины. Они живут в собственном мире, который не имеет и никогда не имел ничего общего с действительностью. Он слишком красив, этот их мир. Случись ему стать настоящим, он разлетелся бы на куски еще до первого заката. Какой-нибудь досадный факт – из тех, с какими мы, мужчины, прекрасно уживаемся со дня творения, – непременно выскочил бы наружу и разрушил дивную постройку.
После того как тетушка заключила меня в объятья, велела носить фланель, почаще писать письма и тому подобное, я ушел. На улице, сам не знаю почему, меня охватило странное чувство: я ощутил себя обманщиком и самозванцем. Еще удивительней для такого человека, как я – который мог не задумываясь в считаные часы сорваться с места и отправиться на другой конец света, как большинство из нас переходят улицу, – был незнакомый трепет в груди или испуганное замиранье сердца при мысли о грядущем путешествии. Едва ли я смогу лучше описать это чувство: на секунду или две мне представилось, будто я отправляюсь не в глубь континента, а к центру Земли.
Я сел на французский пароход, который останавливался в каждом треклятом порту с единственной, насколько я мог судить, целью: высадить солдат и таможенников. Я тем временем разглядывал побережье. Разглядывать проплывающие за бортом берега все равно что предаваться размышлениям о тайне. Вот он, пред тобою, этот берег: улыбчивый ли, хмурый, манящий, великолепный, невзрачный, подлый или дикий, – и всегда безмолвный. Кажется, он так и шепчет: «Сойди, и все узнаешь». У тех берегов, что раскинулись за бортом моего парохода – однообразных и угрюмых, – не было никаких особых примет, над ними словно бы еще велась работа. Колоссальные джунгли темно-зеленого, почти черного цвета тянулись прямо, точно по линейке, окаймленные белым прибоем; сиянье синего моря приглушал ползучий туман. Солнце палило нещадно, и земля будто покрывалась знойной испариной. Тут и там за белой полосой прибоя виднелись серо-белые скопленья точек, над которыми наверняка реяли флаги. То были древние многовековые поселения, однако среди бескрайних первозданных просторов моря и джунглей они выглядели крошечными, с булавочную головку.
Мы шли вдоль берега, останавливались и высаживали солдат; шли дальше, вновь останавливались, высаживали таможенных чиновников, которым предстояло взымать подати с местного населения в этой богом забытой глуши, посреди которой торчал какой-нибудь одинокий жестяной сарай и флагшток; тут же высаживали еще солдат – видимо, им надлежало охранять тех самых чиновников. Некоторые из них, говорят, тонули в прибое, но никому не было дела, правда это или нет. Мы просто высаживали людей и шли дальше. Берег всегда выглядел одинаково, будто мы и не двигались вовсе, хотя на самом деле мы прошли множество торговых портов с названиями вроде Гран-Бассам или Маленький Попо. От этих названий казалось, что перед нами, на фоне зловещих декораций, разыгрывается некий дешевый балаган. Праздность пассажира и нежелание общаться с людьми, у которых не было со мною никаких точек соприкосновения, томное маслянистое море, однообразная угрюмость побережья словно мешали разглядеть истинную суть вещей, не давали стряхнуть тяжелое, мрачное и бессмысленное наваждение. Единственной моей отрадой был голос прибоя, долетавший до меня время от времени, словно голос родного брата. Это было нечто естественное, объяснимое и осмысленное. Иногда нам попадались лодки, и эти встречи тоже позволяли на несколько секунд приобщиться к действительности. На веслах сидели чернокожие; издалека было видно, как сверкают белки их глаз. Они кричали, пели; пот тек с них ручьем; лица напоминали причудливые маски – ну и люди! Но в них чувствовалась плоть и кровь, яростная жизненная сила, мощная энергия движенья, естественная и правдивая, как морской прибой. Они не искали оправданий своему присутствию здесь. Один их вид приносил успокоение. Глядя на них, я ощущал свою принадлежность к миру фактов, но чувство это вскоре меня покидало. Какое-нибудь странное происшествие непременно его отпугивало. Раз, помню, мы наткнулись на военное судно, бросившее якорь неподалеку от берега. На берегу даже не было ни единого сарая: судно палило прямо по зарослям. Видимо, французы вели в этих краях свою очередную войну. Флаг был спущен и болтался над мостиком, как тряпка; из корпуса торчали длинные дула шестидюймовых орудий; корабль мерно поднимался и опускался на сальной илистой волне, покачивая тонкими мачтами. Среди необъятных просторов неба, воды и земли он неизвестно зачем палил по материку. «Бах!» – стреляло шестидюймовое орудие. Из дула вырывался маленький огонек и вспархивал белый дым, крошечный снаряд жалобно взвизгивал – и ничего не происходило. Ничего и не могло произойти. На наших глазах творилось безумие, какой-то унылый балаган, и я лишь укрепился в этом чувстве, когда кто-то из пассажиров заверил меня со всей серьезностью, будто в зарослях скрывается лагерь туземцев – он назвал их врагами!
Мы передали на корабль почту (я слышал, моряки на этом судне гибли от лихорадки по три человека в день) и двинулись дальше, заходя в местечки с такими же нелепыми балаганными названиями, где в затхлой, землистой атмосфере разогретых катакомб продолжалась веселая пляска смерти и торговли. Мы все шли и шли вдоль бесформенного морского берега, окаймленного опасным прибоем – казалось, сама Природа пытается отпугнуть незваных гостей, – мимо устьев рек, несущих смерть всякой жизни, чьи берега были покрыты гниющей жижей, а илистые воды то и дело затопляли мангровые леса, которые будто бы корчились от боли и бессильного отчаяния. Наш пароход нигде надолго не останавливался, и я не мог подробно все осмотреть и осмыслить, однако мною постепенно овладевало смутное, гнетущее потрясение. Я чувствовал себя паломником в странном краю ночных кошмаров.
Устье великой реки я увидел лишь спустя тридцать дней. Мы бросили якорь неподалеку от административного центра. Однако до парохода, на котором я собирался служить, оставалось еще миль двести, поэтому я как можно скорее отправился дальше, в следующее поселение, находившееся в тридцати милях вверх по реке.
Это путешествие я совершил на небольшом морском пароходе. Его капитаном оказался швед. Узнав, что я тоже моряк, он пригласил меня на мостик. То был еще молодой человек, тощий, светловолосый и угрюмый, с длинными тонкими волосами и шаркающей походкой. Как только мы отчалили от хлипкой пристани, он презрительно тряхнул головой в сторону берега.
– Жили там?
– Недолго.
– Ну и народ эти чиновники, а? – продолжал капитан, тщательно и с изрядной долей горечи выговаривая английские слова. – Подумать только, на что готовы люди ради нескольких франков в месяц! Интересно, что с эдаким народом случается в самой глуши?
– Я собираюсь в кратчайшие сроки это узнать.
– Во-от как! – воскликнул капитан и поковылял к правому борту, краем глаза продолжая воинственно смотреть вперед. – Я бы на вашем месте не был столь уверен. Недавно я вез одного чиновника – тоже был швед, – так он повесился еще по дороге к месту службы.
– Повесился! Силы небесные, почему? – вскричал я.
Капитан по-прежнему осматривался по сторонам.
– А кто его знает! То ли солнце допекло, то ли эта страна.
Наконец мы вышли на широкое место. Впереди замаячил скалистый утес, а на берегу под ним – высокие груды перелопаченной земли. На склонах теснились домики: одни, с железными крышами, стояли прямо посреди раскопа, другие, казалось, вот-вот сорвутся и полетят под откос. Над всей этой картиной обитаемого разорения стоял несмолкаемый рев воды с ближайших речных порогов. Еще я увидел множество людей, черных и обнаженных, которые ползали среди гор земли, как муравьи. Реку перерезала дамба. Внезапные вспышки солнца время от времени заливали все это безжалостным ослепительным светом.
– Вон там станция вашей Компании, – сказал швед, указывая на три деревянных барака на каменистом склоне. – Вещи я вам вышлю. Четыре ящика, говорите? Ну, прощайте.
В траве на берегу валялся котел. Наконец я обнаружил тропинку и начал подъем. Тропинка огибала несколько валунов и крошечную, перевернутую вагонетку без одного колеса. Она была похожа на остов мертвого зверя. Дальше мне попалась еще пара покалеченных механизмов и груда ржавых шпал. Слева росло несколько деревьев, отбрасывавших на землю жидкую тень, и в этой тени слабо копошилось что-то темное и живое. Я поморгал; тропинка была крутая. Вдруг справа затрубили в рог, оттуда побежали чернокожие рабочие. Тяжелый и глухой взрыв сотряс землю, из-за утеса повалил дым, и на этом все кончилось. Каменистый склон ничуть не изменился. Здесь явно шло строительство железной дороги. Вот только утес никому не мешал, а кроме бессмысленных взрывов, никакой другой работы почему-то не велось.
У меня за спиной раздался тихий лязг, и я обернулся. Шесть чернокожих двигались гуськом по тропинке. Шли они прямо и медленно, удерживая на голове ведра с землей. Лязг звучал в такт их шагам. Чресла рабочих были прикрыты завязанными сзади черными лохмотьями – концы тряпок болтались туда-сюда словно хвосты. При желании я мог бы сосчитать их ребра; суставы на их руках и ногах напоминали твердые узлы. У каждого на шее был железный ошейник, и все ошейники соединялись друг с другом длинной цепью – она-то и лязгала на ходу. Очередной взрыв со стороны утеса напомнил мне о том военном корабле, что обстреливал берег: звук был такой же зловещий, – однако никто в здравом уме не назвал бы этих людей врагами. Еще их называли преступниками, и вот этих преступников постигла справедливая кара – загадочная, непостижимая кара в виде разрывных снарядов с моря. У всех рабочих тяжело вздымалась слабая грудь, их ноздри тяжело раздувались, окаменевшие взгляды были устремлены на вершину холма. Они прошли буквально в нескольких дюймах, даже не взглянув на меня, с мертвенным равнодушием на диких несчастных лицах. Позади этих дикарей – необработанного сырья, так сказать, – уныло плелся один «окультуренный», продукт новых порядков. В руке он держал винтовку и был одет в форменные брюки и китель без одной пуговицы. Завидев на тропинке белого человека, он из предосторожности вскинул винтовку на плечо – издалека все белые кажутся им на одно лицо, и я мог быть начальником. Убедившись, что это не так, он улыбнулся широкой белозубой плутовской улыбкой и пылко выразил мне свое глубочайшее доверие. В конце концов, мы с ним были заодно в этом благородном и справедливом деле.
Вместо того чтобы подняться по тропинке к зданию конторы, я свернул налево и пошел вниз – не хотел всю дорогу плестись за кандальными. Вы прекрасно знаете, что я не слабонервен: на мою долю выпало немало испытаний, – приходилось и нападать, и защищаться, держать оборону и атаковать без лишних размышлений, не задумываясь о последствиях, как того требовал избранный мною образ жизни. Я собственными глазами видел демона насилия, демона алчности и пылкого вожделенья, но – клянусь звездами! – то были могучие страстные красноокие демоны, способные покорить даже сильных мужчин – мужчин, говорю вам! Однако на том холме я внезапно осознал, что скоро столкнусь с мягкотелым и хилым демоном-притворщиком – демоном захватнического сумасбродства и хищничества. Спустя несколько месяцев и тысячи пройденных миль мне предстояло узнать, сколь он коварен. На миг я в ужасе замер, словно получил предостережение, но потом пришел в себя и стал наискосок спускаться по склону к тем деревьям, что заметил ранее.
Я обогнул большую яму, вырытую прямо в склоне, предназначение которой осталось для меня загадкой. То был даже не карьер, а просто яма. Возможно, она здесь появилась благодаря филантропическому желанию колонизаторов дать преступникам какую-то работу. Точно не могу сказать. И тут путь мне преградила очень узкая канава – буквально царапина на склоне холма, в которую я едва не свалился. На дне валялись привезенные из-за моря дренажные трубы для строительства поселения. Все до единой были перебиты. Но зачем? Какое-то бессмысленное разрушение. Наконец я добрался до деревьев, думая немного передохнуть в их тени, и очень скоро понял, что очутился в одном из сумрачных кругов ада. Неумолчный, однообразный, рокочущий рев воды с речных порогов наполнял скорбную тишину этой рощицы, в которой все замерло: не было ни ветерка, ни шелеста листьев. Казалось, здесь слышно, как рвется на куски сама земля.
Под деревьями корчились черные тени – одни сидели, прислонившись к стволам, другие льнули к земле, наполовину скрытые мраком, наполовину озаренные тусклым светом. На их лицах я разглядел все оттенки боли, отчаянья и безысходности. Прогремел очередной взрыв, земля под моими ногами слегка дрогнула. Работа кипела. Работа! А сюда, по-видимому, работники приходили умирать.
Умирали они медленно и в муках, это было совершенно ясно. Какие враги? Какие преступники? Они на людей-то были непохожи – черные тени хвори и голода смятенно корчились в зеленоватом мраке. Собранные со всех глухих местечек на побережье в полном согласии с законом и трудовыми соглашениями, они оказывались в чуждой среде, питались незнакомой пищей, тяжело заболевали и больше не могли работать. Тогда им дозволялось уползти сюда. Эти обреченные были свободны как воздух – и почти столь же прозрачны. Постепенно я начал различать в темноте блеск их глаз. Я посмотрел вниз и увидел рядом со своей рукой лицо. Черный скелет растянулся на земле, одним плечом опираясь на ствол дерева. Медленно разлепив веки, создание посмотрело на меня: в глубине огромных и пустых, почти незрячих глаз едва теплился – и угасал – огонек жизни. Человек этот показался мне совсем юным, почти ребенком, но вы сами знаете, что их возраст бывает трудно определить. Я не придумал ничего лучше, чем протянуть умирающему шведское печенье, которое лежало у меня в кармане. Черные пальцы медленно сомкнулись на печенье и застыли – человек больше не двигался и не смотрел на меня. На шее у него белела какая-то шерстяная нитка. Зачем она? Откуда взялась? Что это – отличительный знак, украшение, амулет, искупительный дар? А может, и не было у белой заморской нитки никакого предназначения? На черной шее она выглядела странно и пугающе.
К тому же дереву привалилось еще два мешка острых костей. Ноги их были согнуты в коленях. Один, уронив голову на колени, смотрел в пустоту невыносимым, ужасающим взглядом. Его собрат, такой же призрак, сидел, склонив голову, будто его внезапно сморила усталость. Вокруг в мучительных позах валялось еще множество черных скелетов – словно жертвы жестокого побоища или смертельной хвори. Пока я стоял как громом пораженный, один больной поднялся на четвереньки и пополз к реке. Набрав в ладони воды, он вылакал ее и без сил уселся прямо на солнцепеке, скрестив ноги. Через минуту его курчавая голова упала на грудь.
Отдыхать в тени мне перехотелось, и я поспешил к зданию конторы. Неподалеку от входа я встретил белого человека – столь элегантного и нарядного, что я сперва принял его за видение. Высокий накрахмаленный воротничок, белые манжеты, легкий альпаковый пиджак, белоснежные брюки, чистый галстук, лакированные туфли, ручка за ухом. Шляпы на человеке не было. Его напомаженные волосы лежали на пробор, а в большой белой руке он удерживал зонтик с зеленой подкладкой. Словом, он был великолепен.
Я пожал чуду руку и узнал, что это главный бухгалтер Компании и что все бухгалтерские дела ведутся именно в этом отделении. Он ненадолго вышел из конторы «глотнуть свежего воздуха». Слова эти звучали в высшей степени странно, подразумевая обычный сидячий образ жизни конторского служащего. Я бы не стал и рассказывать вам об этой встрече, но именно от него я впервые услышал имя человека, с которым неразрывно связаны все мои воспоминания о той поре. Кроме того, я проникся уважением к бухгалтеру. Да, глубоким уважением к этому воротничку, огромным манжетам, гладко причесанным волосам. Пусть он выглядел совершенно как парикмахерский болван, все же его умение поддерживать внешнее благообразие среди кромешного ада чего-то стоило. Для этого требуется внутренний стержень. Его накрахмаленные воротнички и манишки были признаком сильного характера. Он жил здесь уже три года; чуть позже я не выдержал и спросил, как ему удается так превосходно выглядеть. Он едва заметно покраснел и скромно ответил:
– Я научил одну из местных женщин вести хозяйство. Непростое дело, скажу я вам! Работать она не любила.
Выходит, этот человек в самом деле чего-то добился. И бухгалтерию он вел безукоризненно.
В остальном на станции – в головах людей, в домах и дворах – царил полный разброд. Приходили и уходили толпы пыльных косолапых негров; тюки с фабричными товарами, дрянными хлопковыми тканями, бусами и медной проволокой скрывались в глубинах тьмы, а оттуда на станцию струился тонкий ручеек драгоценной слоновой кости.
Мне пришлось прожить там десять дней – целую вечность. Во дворе конторы имелась хижина, где я и жил. Чтобы немного отдохнуть от хаоса, я иногда забредал в бухгалтерию, кое-как сколоченную из необработанных досок, – когда бухгалтер склонялся над своей конторкой, его с головы до ног покрывали тонкие полоски солнечного света. Улицу было прекрасно видно даже с закрытыми ставнями. И да, стояло жуткое пекло; всюду с дьявольским жужжанием летали крупные мухи, которые не кусались, а прокалывали кожу насквозь. Я обычно сидел на полу, а бухгалтер, одетый с иголочки (и даже слегка надушенный), примостившись на высоком табурете, все писал, писал… Изредка он вставал и разминал затекшую спину. Когда в бухгалтерию однажды принесли тяжело больного человека (какого-то агента, получившего травму в глубине страны), он тактично выразил свое недовольство.
– Стоны больного отвлекают меня от работы. А ведь в этом чудовищном климате бороться с канцелярскими ошибками и так непросто!
Однажды, не поднимая головы от бухгалтерской книги, он сказал:
– Внутри страны вы, несомненно, встретите мистера Куртца.
На мой вопрос, кто такой мистер Куртц, он ответил, что это превосходнейший агент, а заметив мое разочарование, отложил перо и добавил:
– Необыкновенная личность!
Дальнейшие расспросы позволили мне узнать, что мистер Куртц – начальник торгового поста, весьма крупного и расположенного в самой глубине «страны слоновой кости».
– Он поставляет столько же драгоценного материала, сколько все остальные агенты вместе взятые…
Бухгалтер вновь начал писать. У больного больше не было сил на стоны. Миролюбиво жужжали мухи.
Внезапно на улице забегали, поднялся шум. На станцию прибыл караван. Из-за дощатых стен летели грубые гортанные крики: все носильщики голосили разом, и среди этого гомона слышались причитания старшего агента, который в двадцатый раз за день слезно обещал бросить все к чертям… Бухгалтер медленно поднялся из-за стола.
– Какой жуткий гвалт! – Он тихо подошел к больному, лежавшему в противоположном конце комнаты, и, вернувшись, сказал: – Он ничего не слышит.
– Как? Умер?! – воскликнул я.
– Нет, пока нет, – ответил бухгалтер, не теряя присутствия духа. Затем кивком указал на переполох, поднявшийся на улице, и добавил: – Когда твоя задача – не наделать ошибок, начинаешь ненавидеть этих дикарей… смертельно ненавидеть! – Он на минуту задумался. – Если встретите мистера Куртца, передайте ему, что дела здесь идут весьма удовлетворительно. Я не люблю ему писать. С этими гонцами никогда не знаешь, в чьи руки попадет письмо на той центральной станции. – Он взглянул на меня своими спокойными, слегка выпученными глазами. – О, этот человек далеко пойдет, очень далеко! Вот увидите, скоро он займет высокий пост. Наверху – в Европейском совете, я имею в виду – ему прочат большое будущее.
Бухгалтер вернулся к работе. Шум на улице стих, и я собрался выйти, но ненадолго замер у двери. В монотонном жужжании мух один агент Компании лежал без сознания на смертном одре, а второй вносил безупречные записи в свои безупречные книги. В пятидесяти футах от бухгалтерии виднелись неподвижные кроны рощи смерти.
На следующий день я наконец покинул станцию – нашему каравану из шестидесяти человек предстояло пройти пешком двести миль.
Не вижу смысла подробно рассказывать об этом путешествии. Тропы, тропы всюду; обширная сеть тропинок словно бы отпечаталась на пустынной местности; они вели сквозь высокую траву, сквозь выжженную траву, сквозь густые заросли, по склонам прохладных оврагов, по пышущим жаром каменистым холмам; и повсюду безлюдье, ни души вокруг, ни хижины. Все живое давным-давно отсюда скрылось. Что ж, если бы на дороге между Дилом и Грейвзендом вдруг объявились таинственные негры, вооруженные страшными орудиями, и принялись отлавливать крестьян да заставлять их таскать тяжести, очень скоро местные фермы и дома тоже бы опустели. Правда, в этом краю исчезли и сами жилища. Лишь изредка мы натыкались на заброшенные деревни. Есть что-то жалкое и детское в рухнувших соломенных стенах. День тянулся за днем, у меня за спиной шаркали и спотыкались шестьдесят пар ног, шестьдесят человек, каждый из которых тащил на себе шестидесятифунтовый груз. Разбили лагерь, приготовили еду, заночевали, собрали вещи, двинулись дальше. Несколько раз мы видели трупы носильщиков, рядом валялись пустые бурдюки для воды и длинные посохи. Всюду необъятная тишина. Очень редко тихими вечерами откуда-то издалека доносился барабанный бой, глубинный, нарастающий, словно едва ощутимая дрожь самой земли. Странный, притягательный, непристойный, дикий звук – вероятно, имеющий столь же глубокий и важный смысл, какой в христианском мире имеет колокольный звон. Однажды нам встретился белый человек в расстегнутом кителе и с вооруженным эскортом из тощих занзибарцев, весьма добродушный и жизнерадостный – по всей видимости, он был навеселе. Ему поручили следить за ремонтом дороги. Никакой дороги я не заметил, впрочем, как и ремонта – если не считать признаком такового труп чернокожего рабочего с пулей во лбу, который валялся прямо на тропе в трех милях от лагеря и о который я в прямом смысле слова споткнулся.
Между прочим, был у меня и белокожий спутник, вовсе не плохой человек, но чересчур полный. Он завел себе дурную привычку падать в обморок в самый неподходящий момент, на подъеме, за много миль от спасительной тени и источников воды. Это весьма раздражает, знаете ли: сдирать с себя одежду и растягивать над головой человека как зонтик, пока тот приходит в себя. Однажды я не удержался и спросил, чего ради он вообще сюда приехал.
– Ради денег, конечно. А вы как думали? – презрительно ответил он.
Потом его разбила лихорадка, и пришлось тащить его в гамаке, привязанном к длинному шесту. Поскольку весил он добрых шестнадцать стоунов, я то и дело вступал в перебранки с носильщиками. Они упрямились, сбегали, исчезали в ночи вместе с поклажей… Самый настоящий бунт! Однажды вечером я произнес пылкую речь на английском и сопроводил ее множеством выразительных жестов, ни один из которых не ушел от внимания шестидесяти взиравших на меня пар глаз. Утром мы двинулись в путь, и носильщики не бунтовали, но час спустя я обнаружил в кустах все предприятие: моего спутника, гамак, одеяла, стоны, кровь, ужасы. Тяжелый шест упал ему на лицо и ободрал нос. Он все требовал, чтобы я кого-нибудь убил, но рядом не было даже намека на носильщика. Я вспомнил слова старого врача: «С научной точки зрения было бы весьма интересно понаблюдать за переменами, каковым подвергается психика и рассудок человека там, на месте». Я чувствовал, как превращаюсь в объект научного интереса. Впрочем, это все не имеет отношения к делу. На пятнадцатый день я вновь увидел великую реку и наконец доковылял до Центральной станции. Она стояла на берегу окруженного лесом затона. С одной стороны постройки были обнесены длинной полосой вонючей грязи, а с трех других – каким-то безумным забором из тростника. Вместо ворот – неопрятный пролом в тростниковой стене. С первого взгляда мне стало ясно, кто здесь заправляет: тот самый гадкий обрюзгший демон. Нам навстречу неторопливо выбрели белые люди с длинными шестами в руках. Взглянув на меня, они вновь скрылись из виду. Один из них, коренастый взбудораженный парень с черными усами, сообщил, то и дело пускаясь в ненужные многословные отступления, что мой пароход лежит на дне реки. Я был потрясен. Что, как, почему? О, да «все в порядке». «Сам начальник» здесь, волноваться не о чем.
– Все вели себя отменно! Отменно! А вам, – тараторил он, – надлежит прямо сейчас явиться к начальнику. Он ждет!
Далеко не сразу мне открылось истинное значение кораблекрушения. Теперь-то, вероятно, я все понимаю, но точно сказать не берусь. Происшествие кажется неестественно абсурдным, такого просто не могло случиться. И все же… Впрочем, я тогда воспринял его просто как досадное недоразумение. Пароход затонул. Два дня назад они в спешке начали подниматься по реке – на борту был сам начальник, кто-то добровольно согласился управлять судном, но не прошло и трех часов, как пароход ободрал себе днище об камни и сел на мель. Затонул у южного берега. Я гадал, что же теперь делать – ведь судна у меня больше нет. Но я зря волновался: работы оказалось предостаточно. Мне поручили поднять пароход со дна реки, чем я и занялся на следующий день. Затем я должен был доставить обломки на станцию и починить судно, на что у меня ушло еще несколько месяцев.
С начальником состоялась прелюбопытная беседа. Он даже не предложил мне сесть, хотя знал, что за утро я успел пешим ходом одолеть двадцать миль. Ничего примечательного в его лице, фигуре, манерах и голосе не было. Средний рост, телосложение тоже среднее. А вот глаза его, обыкновенного голубого цвета, были поразительно холодны: на собеседника он бросал взгляд, тяжелый и разящий как топор. Притом все остальное в нем как будто противилось этому намерению. На лице его играло смутное, неопределенное выражение, что-то коварное – улыбка, не улыбка… Я хорошо ее помню, но описать толком не могу. Она была бессознательной, эта улыбка, но после каждого высказывания на миг становилась заметнее и ощутимее. Ею он завершал свои речи – словно ставил печать, делавшую даже самые простые слова загадочными и двусмысленными.
Он был обыкновенный торговец и работал в этих краях с юности. Его слушались, однако он не вызывал в людях ни любви, ни страха, ни мало-мальского уважения, зато вызывал тревогу. Да, пожалуй, это самое подходящее слово! Тревогу, а не явное недоверие. Вы даже не представляете, как полезна может быть эдакая… способность. Никаких особых талантов у него не было: ни находчивости, ни предприимчивости, ни даже любви к порядку, что было видно по плачевному состоянию, в котором пребывала станция. Ни умом, ни образованием он похвастаться не мог, и место это получил только потому… Почему же? Быть может потому, что никогда не болел… Он отработал три срока по три года… Ведь такое недюжинное здоровье само по себе редкость и огромное преимущество. Отправляясь в отпуск домой, он устраивал колоссальные пирушки, кутил на широкую ногу. Эдакий матрос в увольнении – впрочем, сходство было лишь внешнее. Это можно было легко понять по словечкам и фразам, которые проскальзывали в его речи. Ничего нового он не придумал, никаких основ не заложил – просто поддерживал заведенный порядок, и только. Притом он был по-своему великий человек, хотя бы потому, что никто не знал, как им можно управлять, что им движет. Этой тайны он так никому и не выдал. Вполне возможно, что внутри у него была пустота. И, надо признать, это вселяло определенный страх, ведь в тех краях никакой управы на него не было. Как-то раз, когда тропические болезни скосили почти всех «агентов» станции, он высказался следующим образом: «Хорошо бы у людей, которые сюда приезжают, не было вовсе никаких внутренностей». Он скрепил это высказывание своей знаменитой улыбкой, как будто на миг приоткрыл дверь в кромешную тьму, которую охранял, но только ты начал что-то различать в темноте – все, дверь закрыта и опечатана. Однажды ему надоели бесконечные склоки подчиненных о том, кто, где и когда сядет за обедом, и он приказал сколотить огромный круглый стол, а для него и специальное помещение – столовую. Первым садился он, а дальше – хоть потоп. Все остальные места никакого значения не имели. Похоже, он действительно так считал. Его нельзя было назвать неотесанным, но и обходительным, цивилизованным я бы тоже его не назвал. Скорее – тихим. Он позволял своему личному «бою» – перекормленному негритенку с побережья – откровенную наглость в отношении приезжих белых.
Итак, я вошел к начальнику прямо с дороги, и он тут же начал говорить. Оказывается, они отправились в путь без меня, поскольку надо было как можно скорее посетить станции, расположенные в верховьях реки. Поставок оттуда не было так давно, что непонятно даже, кто там жив, а кто мертв, как они перебиваются и так далее и тому подобное. На мои объяснения он внимания не обращал, а лишь вертел в руках палочку сургуча и все твердил, что «положение крайне бедственное, крайне». Ходят слухи, что одна важная станция находится под угрозой, а ее начальник – мистер Куртц – тяжело болен. Остается лишь надеяться, что это неправда. Мистер Куртц… Тут я разозлился, поскольку устал с дороги. Да к черту Куртца, подумал я, и прервал его речь: мол, слыхали мы про вашего Куртца…
– О, значит, и на побережье о нем говорят… – пробормотал он себе под нос и принялся объяснять, какой мистер Куртц исключительный агент, самый лучший, и какое огромное значение он имеет для Компании.
Тогда я понял причину его тревоги.
– Мне крайне неспокойно, крайне, – сказал он и принялся ерзать на стуле, потом воскликнул: – Ах, мистер Куртц! – и сломал сургучную палочку.
Эта неприятность почему-то его ошарашила. И тут же он захотел знать, «сколько времени потребуется на…». Я вновь его перебил, ведь я был с дороги и страшно голоден. Своей бессмысленной болтовней он довел меня до белого каления.
– Откуда мне знать? – воскликнул я. – Ведь я не видел затонувшего судна! Несколько месяцев, это точно.
– Несколько месяцев… – повторил он. – Что ж, положим, через три месяца мы сможем отправиться в путь. Хорошо. Такие сроки меня устраивают.
Я вылетел из его хижины (он жил один в мазанке с небольшой верандой), бормоча про себя все, что думал об этом человеке. Идиот и болтун! Позже я взял свои слова обратно – когда понял, с какой потрясающей точностью он определил «сроки» окончания работ над судном.
На следующий же день я приступил к работе, повернувшись, так сказать, спиной к станции. Лишь таким образом мог я сохранить свою приобщенность к фактам, к реальной жизни. Однако человеку иногда приходится смотреть по сторонам. Порой я отрывался от своего дела и видел тех же странных работников, бесцельно шатающихся туда-сюда с нелепыми длинными жердями в руках – словно пилигримы-безбожники, которых кто-то заколдовал и бросил в заточение за этот гнилой забор. В воздухе, шепотах и вздохах то и дело звенели слова «слоновая кость». Это был самый настоящий культ, и люди будто возносили молитвы драгоценному материалу. От всего происходящего, точно трупным смрадом, несло какой-то слепой и безмозглой ненасытностью. Бог ты мой, я словно угодил в чей-то сон – в жизни не видел ничего подобного! Немые дебри, раскинувшиеся за пределами нашего пятачка, представлялись мне великой неукротимой силой, подобной Злу или Истине, терпеливо дожидавшейся конца этого фантастического вторжения.
Ох, чего я только не повидал за те месяцы! Всякое бывало. Однажды загорелся соломенный сарай с хлопком, ситцем, бусами и прочими товарами – да так внезапно, словно сама земля в этом месте раскололась и выпустила столп карающего пламени, дабы оно поглотило весь этот мусор. Я в ту минуту тихо сидел возле обломков своего парохода, покуривал трубку и смотрел, как они скачут вокруг горящего сарая, воздевая руки к небу. Тут мимо меня к реке пронесся тот самый коренастый усач с ведром, проорал, что все «ведут себя отменно, отменно», набрал примерно кварту воды и помчался обратно. Ведро у него было дырявое.
Я зашагал к сараю – неспешно, поскольку спасти сарай все равно было невозможно. Он вспыхнул, как спичечный коробок. Пламя взмыло к самому небу, распугало толпу, осветило все ярким заревом – и опало. Сарай уже превратился в кучку яростно тлеющих углей. Рядом избивали негра. (Якобы он устроил пожар.) Как бы то ни было, кричал он страшно, истошно, а потом несколько дней сидел в тени и пытался прийти в себя. Вид у него был очень больной. Через некоторое время он с трудом поднялся на ноги и ушел. Лес беззвучно принял его в свое лоно.
Выходя из темноты навстречу зареву, я увидел двух беседующих людей. Я уловил имя Куртца и слова «воспользоваться этим печальным происшествием». Один из беседующих оказался начальником станции. Я поздоровался.
– Видали когда-нибудь нечто подобное, а? Поразительно! – воскликнул он и ушел.
Его собеседник остался. То был агент первого класса, обходительный, немного чопорный молодой человек с раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С остальными агентами он вел себя сдержанно, и те думали, что начальник подослал его шпионить за ними. Что же до меня, то я еще не успел сложить о нем какого-либо мнения. Мы впервые разговорились и постепенно отошли от шипящих руин. Он пригласил меня в свою комнату, располагавшуюся в главном здании. Там он чиркнул спичкой, и я заметил, что в распоряжении молодого аристократа есть не только отделанный серебром дорожный несессер, но и целая свеча. В ту пору пользоваться свечами имел право лишь начальник станции. На глиняных стенах висели плетеные коврики, а также целая коллекция военных трофеев: копий, дротиков, щитов и кинжалов. Этому малому, как я слышал, поручено было наладить производство кирпичей, однако на станции я не заметил ни единого кирпичного осколка, хотя он провел здесь целый год – чего-то ждал. Вроде бы не мог начать производство без какого-то материала: соломы, что ли, – точно не знаю. Найти этот материал на месте не представлялось возможным, и его вряд ли стали бы возить из Европы, так что мне было совершенно неясно, чего он ждал. Видимо, некоего акта творения. Но там все чего-то ждали – все шестнадцать или двадцать пилигримов. Причем, судя по лицам и поведению людей, ожидание было не таким уж тягостным, хотя, кроме болезней, они пока ничего не дождались. Время коротали за склоками, кознями и глупыми интригами. Вообще на станции царила атмосфера некоего заговора, только, разумеется, ничего из этого не вышло. Все казалось нереальным, абсурдным: филантропические цели правительства, беседы о высоком, показной труд. Приезжих одолевало единственное подлинное чувство: желание устроиться на работу в какое-нибудь торговое поселение, где есть слоновая кость, и получать проценты с добытого. Они строили козни, клеветали, ненавидели друг друга, но чтобы при этом сделать что-то полезное, хоть пальцем о палец ударить… Нет, что вы! Все-таки странно устроен наш мир, где одному человеку можно украсть лошадь, а другому нельзя даже взглянуть на узду. Положим, он украл лошадь. Молодец. Быть может, он даже умеет ездить верхом. Но ведь и на узду некоторые взглянут так, что самый добродетельный святой захочет дать пинка.
Поначалу я не мог взять в толк, с чего он вдруг захотел моего общества, но в ходе беседы стал понимать: он преследует некую цель, надеется что-то из меня вытянуть. То и дело он заговаривал о Европе, будто невзначай ронял имена людей, которых я должен был там знать, задавал наводящие вопросы о моих знакомствах в повапленном городе и тому подобное. Как ни пытался он напустить на себя важный вид, в его маленьких глазках слюдой блестело любопытство. Сперва я очень удивился, а потом мне стало интересно, чего же он добивается. Ради чего тратит столько времени и сил, что во мне нашел? Приятно было взглянуть на его недоумение, когда он всякий раз натыкался на глухую стену, ведь в моем теле не было ничего, кроме лихорадки, а в голове бродили мысли об одном лишь затонувшем корыте. Судя по всему, он принял меня за отъявленного плута. В конце концов он разозлился и, чтобы скрыть яростную гримасу, зевнул. Я встал и вдруг заметил небольшой этюд маслом, портрет: женщина в длинном одеянии и с завязанными глазами несет горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина двигалась грациозно и царственно, а на лице ее горело зловещее огненное зарево.
Я невольно замер перед картиной, и молодой человек почтительно остановился, держа в одной руке свечу в бутылке из-под шампанского (принимаемого в медицинских целях, конечно же). На мой вопрос о картине он рассказал, что примерно год назад на этой самой станции ее написал мистер Куртц – пока ждал парохода, который должен был отвезти его на торговый пост.
– Объясните же толком, умоляю! – воскликнул я. – Кто такой этот мистер Куртц?
– Начальник Внутренней станции, – буркнул мой собеседник. – Посланец науки, прогресса, милосердия и черт знает чего еще. Ведь для успеха великого предприятия, – вдруг принялся декламировать он, – доверенного нам Европой, требуется колоссальный ум, высокие устремления, единая цель.
– Кто это говорит?
– Да многие. А некоторые даже пишут. И вот к нам прибывает он – высшее существо! Ну да вы сами знаете…
– Откуда мне знать? – в искреннем удивлении перебил его я, но он как будто и не заметил моего вопроса.
– Да. Сегодня он распоряжается лучшей станцией, завтра поднимется еще выше, а года через два… Впрочем, смею полагать, вы и сами знаете, кем он станет через два года. Вы ведь представитель новой шайки, шайки добродетели. Люди, приславшие Куртца, рекомендовали вас. О, не оправдывайтесь, я же все вижу. И склонен доверять собственным глазам.
Наконец меня осенило. Влиятельные знакомые моей драгоценной тетушки имели влияние и на этого молодого человека. Я едва не расхохотался.
– Так вы читаете конфиденциальную корреспонденцию Компании? – спросил я.
Он потерял дар речи. Это было очень смешно.
– Когда начальником станции станет мистер Куртц, – сурово произнес я, – такой возможности у вас не будет.
Он вдруг задул свечу, и мы вышли на улицу. Луна уже взошла. Вокруг бесшумно двигались черные тени: носили ведра и поливали водой тлеющие угли. Те шипели, в лунном свете белели клубы пара; где-то стонал избитый негр.
– Ну и свинью нам подложил этот дикарь! – сказал неутомимый усач, внезапно выскочивший нам навстречу из темноты. – Поделом ему. Проступок – бах, и наказание! Действовать надо жестоко и беспощадно. Так и только так можно чего-то добиться от этих бестий. Так мы обезопасим себя от любых конфликтов в будущем. Я сейчас говорил начальнику… – Тут он заметил моего спутника, сразу оробел и залепетал угодливо и подобострастно: – О, еще не спите!.. Конечно, конечно, это и понятно. Ха! Опасности, волнения… – С этими словами он исчез.
Я направился к реке, и мой спутник пошел следом.
– Болваны и неумехи… Проваливайте! – раздался рядом яростный шепот.
Вокруг группами стояли пилигримы и что-то обсуждали, оживленно жестикулируя. У некоторых в руках до сих пор были длинные шесты. Честное слово, мне кажется, они и во сне не расставались с этими палками! За забором темнел призрачный в лунном свете лес; пробиваясь сквозь шорохи и жалкую людскую суету во дворе, всепоглощающее безмолвие этого края разило в самое сердце – его загадка, его величие, удивительная подлинность его затаенной жизни. Избитый негр, мычавший неподалеку, вдруг издал столь глубокий и тяжелый стон, что я поспешил убраться оттуда. Кто-то взял меня под локоть.
– Дорогой сэр, – сказал молодой человек, – надеюсь, вы меня поняли правильно… Тем более вы увидите мистера Куртца гораздо раньше, чем такая честь выпадет мне самому. Я бы не хотел, чтобы у него сложилось превратное впечатление о моем настрое…
Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше; казалось, его легко можно проткнуть пальцем, и внутри будет лишь пустота да немного пыли. Поймите, он собирался в скором времени стать помощником нынешнего начальника станции, и прибытие Куртца подпортило планы им обоим. Он взбудораженно о чем-то рассуждал, а я молча слушал, прислонившись спиной к разбитому судну, лежавшему на склоне холма, словно остов огромного речного зверя. Запах грязи, первобытной грязи – силы небесные! – стоял у меня в носу, а перед глазами раскинулся неподвижный первобытный лес; на поверхности черной протоки тут и там мерцали лунные блики. Луна покрыла тонким слоем серебра все вокруг – вонючий тростник, грязь, спутанные зеленые стены джунглей, что взмывали выше храмовых к самому небу. Серебро окутало и могучую реку, которую я видел в унылом проломе изгороди: неслышно и широко катила она свои воды и мерцала, мерцала… Величественный и безмолвный мир словно замер в ожидании, а этот глупец все никак не мог угомониться, болтал о себе без умолку. Я гадал: эта колоссальная неподвижность и безбрежность, что смотрит на нас двоих, для чего она? Каково ее предназначение – очаровать нас или напугать? Кто мы, путники, забредшие в эти края? Удастся ли нам обуздать эту громадину, или она обуздает нас? Огромны, дьявольски огромны были эти немые – и, вероятно, глухие – дебри. Что они таили? Я видел, как оттуда приносят слоновую кость, и знал, что где-то там живет мистер Куртц. Слыхал я тоже немало – Бог свидетель! – однако никакого ясного образа, никакой четкой картинки у меня не сложилось: с тем же успехом мне могли сказать, что там обретаются ангелы или черти. Я верил в это так же, как кто-то из вас, возможно, верит в жизнь на Марсе. Знавал я одного шотландца, парусного мастера, который был абсолютно убежден в существовании жизни на этой планете. Когда его спрашивали, как выглядят и ведут себя марсиане, он терялся и начинал бормотать что-то про «четвероногих», но стоило вам хотя бы улыбнуться, этот человек – шестидесяти лет от роду! – кидался на вас с кулаками. Разумеется, я не стал бы драться ради Куртца, но я практически позволил себе солгать. Вы знаете, как я всей душой ненавижу, презираю ложь, – не потому, что я такой благородный и честный, а потому, что она наводит на меня ужас. От вранья несет смертным духом, а именно смерть я ненавижу, презираю и хочу забыть больше всего на свете. При мысли о ней меня одолевают мерзость и тошнота – будто надкусил что-то протухшее. Таков уж мой нрав. И этот идиот, представьте себе, едва не вынудил меня солгать – очень мне захотелось подтвердить его опасения касательно моей влиятельности в Европе. На миг я стал таким же притворщиком, как все здешние заколдованные пилигримы. Случилось это потому, что я думал таким образом помочь таинственному Куртцу, которого никогда даже не видел, понимаете? Он был для меня лишь именем, и за этим именем стоял некий человек – такой, каким сейчас видите его вы. Видите вы человека? Видите его историю? Можете хоть что-нибудь разглядеть? Меня не покидает чувство, что я рассказываю сон – вернее, тщетно пытаюсь это сделать, – ведь никакой рассказ не передаст странных чувств, рождаемых сном: смеси абсурда, изумления, бессильного возмущения перед неправдоподобием, которое захватывает нас в плен и составляет самую сущность снов…
Марлоу на минуту умолк.
– Нет, это невозможно. Нельзя передать чувства человека, рождаемые жизнью в ту или иную пору его существования, – чувства, в которых сокрыта истина, смысл, неуловимая и всепроникающая суть. Этого не передать. Мы живем – и видим сны – в одиночестве…
Он вновь задумался, потом добавил:
– Конечно, вы теперь видите во всем этом куда больше, чем тогда видел я. Вы видите меня – человека, которого хорошо знаете…
В кромешной тьме мы – слушатели – почти не могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший поодаль, уже давно превратился для нас в один лишь голос. Никто не проронил ни слова. Быть может, остальные задремали, но я не спал. Я слушал. Все ждал, когда же проскользнет в его речи фраза или одно-единственное слово, которое позволит мне разгадать природу едва уловимой тревоги, вызванной его рассказом. Рассказ этот словно бы рождался в тяжелом ночном воздухе сам собой, без участия человеческих губ.
– …Итак, я дал ему выговориться, – продолжил Марлоу. – Пусть думает что хочет о моих «знакомых» в высших кругах, решил я. Да-да, я ввел его в заблуждение! Никаких знакомых у меня не было. А был лишь старый, разбитый пароход-калека, к которому я прислонялся, пока мой собеседник без умолку болтал что-то про «потребность каждого человека в достойной жизни». «И вы же понимаете, сюда приезжают не луной любоваться». Мистер Куртц, по его словам, был «несомненный гений», но даже гению проще работать при наличии «правильных инструментов – умных людей». Производство кирпичей он не наладил, поскольку это было «физически невозможно», а секретарскую работу для начальника станции выполнял лишь потому, что «разумный человек никогда не пренебрегает доверием начальства».
– Понимаете ли вы меня? – вопросил он.
– Понимаю.
– Чего же вам тогда еще?
Чего мне еще?.. По правде сказать, больше всего я нуждался в заклепках. В заклепках, боже ты мой! Чтобы продолжить работу и залатать брешь, мне нужны были заклепки. Ниже по реке, на побережье, во дворе той первой станции стояли целые горы ящиков, и все они буквально ломились от заклепок! Заклепки валялись на дорожках и тропинках, я то и дело раскидывал их носком сапога, чтобы пройти. Скатывались они и в рощу смерти. Хочешь – набивай заклепками полные карманы, никто тебе слова не скажет. А здесь, где они пригодились бы для дела, не было ни одной. Подходящие заплатки я нашел, но закрепить их оказалось нечем. Каждую неделю с нашей станции на побережье отправлялся посыльный – высокий худощавый негр с посохом и портфелем через плечо. Несколько раз в неделю оттуда прибывали караваны c товарами: омерзительным набивным ситцем, от одного вида которого меня передергивало, дешевыми стеклянными бусинами по цене одно пенни за кварту и какими-то хлопчатобумажными носовыми платками (зачем, зачем?), – но заклепок все не привозили. Трех носильщиков хватило бы, чтобы доставить на станцию все необходимое для судна.
Юный аристократ начал откровенничать, но моя сдержанность и нежелание вести беседу в конце концов его утомили. Он счел нужным сообщить мне, что никого не боится – ни Бога, ни дьявола, ни тем более человека. Я ответил, что прекрасно это вижу, но все-таки мне необходимо некоторое количество заклепок – а значит, они необходимы и мистеру Куртцу, только он об этом пока не знает. Письма на побережье относят раз в неделю…
– Уважаемый сэр! – вскричал он. – Я пишу лишь то, что мне диктуют!
Я потребовал заклепок. Ведь должен быть способ их получить – столь умный человек наверняка может что-то придумать. Мой собеседник вдруг переменился, стал очень холоден и заговорил о гиппопотамах. Спросил, не беспокойно ли спать на борту парохода (я не покидал своего спасенного судна ни днем, ни ночью). Один старый гиппопотам, живший в тех краях, завел дурную привычку выбираться по ночам на берег и бродить по станции. Пилигримы выскакивали из хижин и палили по бедному зверю из всех ружей, некоторые нарочно караулили его по ночам, но все было впустую.
– На этом звере, видно, лежит какое-то защитное заклятье. Но так можно сказать лишь о дикарях и животных этой страны. Никакие заклятья – зарубите себе на носу, никакие! – не спасут здесь обыкновенного человека.
Он постоял с минуту в лунном свете, немного скривив свой изящный крючковатый нос и сверля меня немигающим взором слюдяных глазок, а затем, сухо пожелав спокойной ночи, удалился. Я видел, что он искренне обеспокоен и озадачен, и впервые за долгое время почувствовал надежду. А как приятно было вернуться от этого типа к моему влиятельному другу – помятому, изувеченному жестяному корыту! Я вскарабкался на борт. Пароход звенел у меня под ногами, как жестянка из-под печенья «Хантли и Палмер», которую пинают по дороге. Сбит он был отнюдь не на совесть, а выглядел и того хуже, но я вложил в это суденышко столько тяжелого труда, что успел полюбить его всем сердцем. Никакой влиятельный друг не сослужил бы мне такой доброй службы. Пароход подарил мне возможность повидать мир и узнать, на что я способен. Нет, я не люблю трудиться. Будь моя воля, я сидел бы без дела и рассуждал о добрых делах, которые можно совершить. Я не люблю работать, да и никто не любит, но я ценю то, что дает труд: возможность найти себя, свою действительность – свою собственную, а не чью-то еще, – которую, кроме меня, никто не сможет познать. Люди видят лишь оболочку, то, что выставляется напоказ, но подлинной сути не понимают.
Я ничуть не удивился, обнаружив на корме гостя: он сидел, свесив ноги за борт и болтая ими над грязной жижей. Видите ли, мне куда приятнее было иметь дело с механиками и рабочими станции, которых пилигримы, естественно, презирали – за небезупречность манер, насколько я понимаю. Моим гостем оказался прораб, котельный мастер по профессии – славный работник. Он был худощав, костляв, с желтоватой кожей и большими проницательными глазами. Лысая его голова блестела, как моя коленка. По-видимому, волосы, падая с его макушки, застряли на подбородке и прекрасно зажили на новом месте: окладистая борода доходила ему почти до живота. Он был вдовец с шестью детьми, которых, уезжая на заработки, оставил на попечение родной сестры. Больше всего на свете прораб любил голубей – по части голубеводства он был большой знаток и энтузиаст, мог рассказывать об этом часами напролет. После работы прораб иногда забредал ко мне в гости – поболтать о своих детях и птицах. В рабочие часы, когда приходилось ползать в грязи под пароходом, он заворачивал бороду в эдакую белую салфетку, специально привезенную из дома для этой цели. У салфетки были длинные петли по бокам, которые надевались на уши. Каждый вечер он старательно и бережно полоскал ее в протоке, после чего с важным видом вешал на куст сушиться.
Я хлопнул его по плечу и воскликнул:
– Нам привезут заклепки!
Прораб вскочил на ноги и закричал, не веря своим ушам:
– Да вы что! Заклепки?!. – Тут он понизил голос и многозначительно произнес: – Так вы… это самое?
Не знаю, почему мы вели себя как сумасшедшие. Я поднес палец к носу и загадочно кивнул.
– Вот это я понимаю! – тут же вскричал он, щелкнул пальцами у себя над головой и поднял одну ногу.
Я попытался станцевать джигу. Мы плясали прямо на железной палубе, поднимая жуткий грохот: он отдавался эхом в девственном лесу на другом берегу протоки и прокатывался по спящей станции. Той ночью мы разбудили парочку пилигримов, это как пить дать. На секунду в освещенном дверном проеме начальниковой хижины возник темный силуэт, затем он исчез, а следом исчез и сам проем. Мы прекратили пляску, и тишина, которую мы распугали своим топотом, вновь потекла на станцию со всех уголков джунглей. Огромная, неподвижная в лунном свете зеленая стена – буйная спутанная масса стволов, ветвей, листьев, сучьев и лиан – была подобна замершему на миг восстанию безмолвной жизни, могучему растительному валу, что вскинулся над станцией и готов был в любую секунду обрушиться на нее и стереть с лица земли всех ее жалких обитателей. Однако волна не двигалась. Издалека донеслось громкое фырканье и плеск воды: как будто в великой реке принимал мерцающую ванну ихтиозавр.
– В конце концов, – рассудительно произнес котельник, – почему бы им и впрямь не выслать нам заклепки?
Действительно, почему? Я не смог придумать ни одной причины.
– Вышлют, вышлют. Через три недели, – заверил его я.
Но заклепок мы не дождались. Вместо поставки случилось вторжение, визит непрошеных гостей, кара небесная – не знаю, как и назвать. Гости прибывали понемногу в течение трех недель. Каждую группу возглавлял белый человек в новом костюме и блестящих ботинках. Он ехал верхом на осле и отвешивал поклоны восхищенным пилигримам. Вслед за ослом плелись злые хмурые негры со стертыми в кровь ногами. Своими палатками, складными табуретами, тюками, ящиками, сундуками и прочей поклажей они занимали весь двор, и над захламленной станцией воцарялась атмосфера загадочности. Всего прибыло пять таких нелепых караванов: казалось, эти люди разграбили бесчисленное множество магазинов экспедиционного снаряжения и продуктовых лавок, а теперь скрываются бегством и хотят разделить добычу где-нибудь в лесной глуши. Нашим взорам предстало удивительное нагромождение вещей, которые сами по себе были нужны и хороши, однако из-за глупости человеческой походили на награбленное добро.
Эта честна`я компания называлась исследовательской экспедицией «Эльдорадо», и, полагаю, все ее участники когда-то обязались не разглашать секретов предприятия. Однако своей болтовней и поведением они напоминали отъявленных бандитов: безрассудность без отваги, жадность без дерзновенности, жестокость без доблести. Ни толики предусмотрительности или хотя бы серьезности намерений не было у представителей этой банды, и они явно не считали сии качества необходимыми для своего ремесла. Ими двигала одна лишь алчность, желание поскорей выдрать сокровища из недр этой земли и утащить их домой – при этом морали в их помыслах было не больше, чем у грабителей, взламывающих сейф. Кто оплачивал расходы сей благородной экспедиции, я не знаю, но вожаком шайки был дядя нашего начальника.
Внешне он напоминал мясника из бедного квартала, а взгляд у него был сонный и коварный. Гордо нес он на коротких ножках свое толстое брюхо и за все время пребывания гнусной шайки на станции не перекинулся словечком ни с кем, кроме племянника. Эти двое целыми днями прогуливались по двору, склонив головы друг к другу в нескончаемой дружеской болтовне.
Я принял решение не волноваться больше по поводу заклепок. Человек гораздо быстрее остывает к подобным пустым занятиям, чем может показаться. Я сказал себе: «К черту!» – и плюнул на все. У меня было предостаточно времени на размышления, и я иногда думал о Куртце. Он не слишком меня интересовал, нет, но все же мне было любопытно взглянуть, как человек, имеющий какие-никакие моральные принципы, сумеет в конечном итоге покорить эту гору и к каким делам приступит, оказавшись на вершине.
Глава 2
Однажды вечером, полеживая на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса: по берегу гуляли дядя и племянник. Я практически задремал, как вдруг кто-то сказал мне прямо в ухо:
– Я безобиден, как малое дитя, но не люблю, когда мною помыкают. Начальник я или нет? Мне было приказано отправить его туда. Подумать только…
Я сообразил, что беседующие стоят на берегу, у носа моего парохода, то есть прямо под моей головой. Я не шевелился – очень уж меня разморило.
– Да, и впрямь неприятно, – буркнул дядя. – Он просил начальство отправить его в самую дремучую глушь – задумал проявить себя. И мне дали соответствующее распоряжение. Ты только подумай, какое влияние он может иметь… Ужасно.
Оба согласились, что это ужасно, затем обменялись еще несколькими странными фразами: «…вызывает дождь и управляет погодой… один человек… вся верхушка… пляшет под его дудку…» Этот нелепый сумбур окончательно разогнал мой сон, так что уже в полном сознании и ясном рассудке я услышал следующее высказывание дяди:
– Здешний климат, вероятно, сделает работу за тебя. Он там один?
– Да, – отвечал начальник станции. – Год назад, даже больше, он прислал мне своего помощника с запиской такого содержания: «Вышли этого несчастного идиота из страны и больше таких не присылай. Я лучше буду один, чем стану довольствоваться твоим сбродом». Ну и наглец!..
– Больше от него ничего не приходило? – просипел дядя.
– Слоновая кость! – рявкнул племянник. – Да так много… высшего сорта… Что самое досадное – вся от него.
– А помимо кости?..
– Накладные! – последовал бурный ответ.
Наступила тишина. Речь явно шла о Куртце.
К тому времени я уже не спал, но лежал совершенно спокойно. Ни малейшего желания двигаться у меня не было.
– Как же он эту кость сюда доставил? – не без раздражения поинтересовался глава экспедиции.
Племянник пояснил, что слоновую кость привезли на каноэ – целая флотилия пришла по реке, а руководил ею мулат-англичанин, подручный Куртца. Куртц, по всей видимости, и сам надумал вернуться: на его станции к тому времени не осталось ни провианта, ни товаров, но, пройдя по реке триста миль, он вдруг передумал. Взяв с собой четырех гребцов, он сел в каноэ и поплыл назад, а метиса со слоновой костью отправил дальше. Дядя и племянник были потрясены этой выходкой Куртца и никак не могли разгадать его мотивы. Зато я подумал, что впервые вижу его как есть. Картинка была отчетливая: долбленое каноэ, четыре негра и один белый, внезапно отринувший безопасность, блага цивилизации и мечты о родине. Он вернулся в глушь, на свою опустевшую и заброшенную станцию – ей-богу, я тоже не знал, что им двигало. Быть может, он просто привык трудиться ради самого труда. Как вы понимаете, те двое ни разу не произнесли вслух его имени, а всякий раз называли его «этот человек». Мулата, сумевшего ловко и без потерь спустить по реке множество каноэ со слоновой костью, они окрестили подлецом. Подлец доложил, что этот человек тяжело заболел, потом пошел было на поправку, но полностью не восстановился… Тут дядя и племянник двинулись дальше и в некотором отдалении от парохода принялись мерить шагами берег. До меня долетали лишь обрывки фраз: «Военный пост… врач… двести миль… совсем один… неизбежная задержка… девять месяцев… никаких вестей… странные слухи…» Они вновь пошли в мою сторону. Начальник станции говорил:
– Да почти никого, если не считать одного странствующего торговца… Гнусный человечишка, надо сказать! Уводил кость прямо у нас из-под носа!
О ком же они теперь говорили? Я послушал еще и понял: речь шла о человеке, который добывал кость в той же местности, что и Куртц (и которого начальник не одобрял).
– Мы не избавимся от недобросовестной конкуренции, покуда не повесим хотя бы одного из них, чтоб остальным неповадно было, – сказал он.
– Конечно, конечно, – проворчал его дядя. – Надо это устроить. Пусть вешают! А что? В этой стране все можно, я считаю. Здесь – именно здесь, учти – с тобой некому тягаться. А почему? Потому что тебе нипочем местный климат. Ты кого угодно переживешь. Опасность кроется в Европе. Но перед самым отъездом я потрудился…
Они отошли и стали переговариваться шепотом, потом начальник вновь заголосил:
– Эти недоразумения и задержки не моя вина! Я сделал все, что мог.
– Досадно, досадно…
– И как он мне докучал своей нелепой болтовней! – продолжил начальник станции. – Наслушался я будь здоров… «Каждая наша станция должна быть подобна маяку, освещающему путь к новому миру – славному миру! Безусловно, в первую очередь это место для торговли, но также и для просвещения, наставления и распространения гуманистических взглядов». Представляешь, какой осел! И еще метит в начальники! Нет, это…
Он едва не подавился от ярости, и тут я чуть-чуть приподнял голову. Оказалось, они стояли прямо подо мной – я мог бы при желании плюнуть им на головы. Оба, погрузившись в неприятные мысли, смотрели в землю. Начальник станции похлопывал себя по ноге тонким прутиком. Тут его дальновидный родственник поднял голову.
– Как твое здоровье? По-прежнему ни разу не болел?
– Кто? Я?! Что ты, я прекрасно себя чувствую, прекрасно. А вот остальные… мрут как мухи, ей-богу! Я не успеваю даже отправлять больных домой – просто удивительно!
– Хм-м, вот как, – проворчал дядя. – Что ж, на это и будем надеяться, мой мальчик, на это и будем надеяться.
Своей пухлой ручкой, похожей на тюленью ласту, он обвел все кругом: лес, протоку, грязь, реку, – словно призывая на службу зло, дьявола, кромешную тьму, что таилась в сердце этого осиянного солнцем края. Мне стало так жутко, что я невольно вскочил на ноги и посмотрел на лес – должен же последовать какой-то ответ на эдакую демонстрацию черной силы? Вы лучше меня знаете, какие глупости порой лезут в голову. Высокий зеленый вал по-прежнему зловеще и неподвижно возвышался над двумя человеческими силуэтами, терпеливо дожидаясь конца фантастического вторжения.
Они хором выругались – исключительно от страха, полагаю, – затем сделали вид, что меня вовсе не существует, и зашагали обратно к станции. Солнце почти село; дядя и племянник, низкий и высокий, плечом к плечу взбирались на холм. Казалось, они с огромным усилием втаскивают наверх собственные нелепые, разновеликие тени, что плелись за ними по высокой траве, не сминая ни единой былинки.
Через несколько дней экспедиция «Эльдорадо» ушла в безмолвную глушь, и та сомкнулась над ними, как волны смыкаются над головой ныряльщика. Много дней спустя от них пришла весть, что все ослы издохли. О судьбе менее ценных животных ничего не известно. По-видимому, им, как и всем нам, воздалось по заслугам. Я не спрашивал. В ту пору я с нетерпением ждал скорой встречи с Куртцем – относительно скорой, конечно. Путь до станции мистера Куртца занял у нас два месяца.
Подъем по великой реке был подобен возвращению к самой заре мира, когда на Земле буйствовала растительная жизнь, а в мире царили исполинские деревья. Безлюдье, всепоглощающая тишина, непроходимый лес. Воздух был знойный, густой, тяжелый, вязкий. Блеск солнца не приносил никакой радости. Длинные отрезы водяной глади простирались во все стороны, скрываясь во мгле далеких заросших берегов. На серебристых песчаных косах, греясь на солнышке, лежали бок о бок гиппопотамы и аллигаторы. Порой река становилась шире и текла меж поросших лесом островков; заблудиться на ней было так же легко, как в пустыне. Со всех сторон подстерегали отмели, и иногда мы по целым дням бодались с ними в поисках фарватера. Я начинал думать, что на нас легло колдовское заклятье и мы навек отрезаны от всего, что знали когда-то… давным-давно… вероятно, в другой жизни. Порой перед глазами вставали картины из прошлого (такое иногда случается в самый неподходящий момент, когда тебе и не до воспоминаний вовсе), но прошлое являлось подобием тревожного шумного сна, который ты с удивлением вспоминал средь ошеломительной яви этого странного мира растений, воды и тишины. Однако в его безмолвии не было даже намека на покой. То было безмолвие неумолимой стихии, размышляющей о чем-то непостижимом. Она глядела на тебя мстительно и злобно. Впоследствии я к этому привык, перестал замечать – других забот хватало. Мне приходилось ежесекундно следить за фарватером, различать впереди – в основном по наитию – невидимые отмели, выискивать подводные камни. Я учился предусмотрительно стискивать зубы, чтобы сердце не выскочило наружу, когда мы проходили в считаных дюймах от какой-нибудь коварной коряги, которая могла запросто выдрать жизнь из нашего корыта и потопить его вместе со всеми пилигримами. Я высматривал впереди сухостой, чтобы вечером порубить его на дрова для парохода. Когда ты ежечасно занят подобными делами, барахтаешься где-то на поверхности, действительность – действительность, говорю вам! – меркнет. Истина сокрыта на глубине – оно и к лучшему. Но все же я ее чувствовал, чувствовал, как это таинственное безмолвие наблюдает за моими обезьяньими трюками. Наблюдает оно и за вами – как вы скачете и кувыркаетесь на своих натянутых канатах, и все ради чего? Ради гроша, который вам заплатят за падение…
– Полегче, Марлоу, – пророкотал чей-то голос, и я понял, что на палубе, кроме меня, бодрствует по меньшей мере еще один человек.
– Простите. Я забыл о сердечной боли, что с лихвой искупает скудное вознаграждение. И впрямь исполненный с блеском трюк дороже денег! Вы все отменные трюкачи. Мой фокус тоже удался – каким-то чудом я сумел не загубить судно в первом же плавании по великой реке. До сих пор этому дивлюсь. Представьте себе человека, которому велели провезти карету по разбитой дороге да еще с завязанными глазами. Вот и с меня сто потов сошло, ей-богу. В конце концов, это непростительный грех для моряка – оцарапать дно судна, отданного ему в распоряжение. Может, никто и не узнает, но вы-то ни с чем не перепутаете этот глухой удар, а? И никогда его не забудете. Удар в самое сердце. Он вам снится, еще долгие годы вы в ужасе просыпаетесь среди ночи и слышите этот скрежет, вас бросает то в жар, то в холод. Не стану врать: мой пароход не всегда шел по реке без заминок. Иногда ему приходилось буквально ползти на брюхе, пока штук двадцать каннибалов толкали его вперед. Этих ребят мы взяли на борт по дороге, предложили им поработать матросами. Отличные парни каннибалы – работать умеют! Я им очень благодарен. У меня на глазах они друг друга не ели, поскольку запаслись провиантом – мясом гиппопотама. Вскоре оно протухло, и вонь этого таинственного безмолвия до сих пор стоит у меня в носу. Фу! На борту со мной был сам начальник станции и три-четыре пилигрима с длинными шестами – полный комплект. Порой мы натыкались на какую-нибудь прибрежную станцию, зависшую на самом краю неизвестности. Из разбитых лачуг к нам выбегали белые люди, сами не свои от радости, удивления и радушия. Вид и поведение их казались очень странными – словно на станциях их удерживала некая колдовская сила. Некоторое время в воздухе звенели слова «слоновая кость», а потом мы отправлялись дальше, в безмолвие, вдоль пустынных берегов, по спокойным изгибам реки, меж высоких зеленых стен, в которых отдавались эхом тяжелые удары нашего гребного колеса. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, высоченных, взмывающих под самое небо; у их подножия жался к берегу – в попытке справиться с течением – крошечный закопченный пароходик, словно жук, неторопливо ползущий по полу высокого портика. Я чувствовал себя ничтожно маленьким, одиноким, потерянным, но чувство это не было гнетущим или тягостным, нет. В конце концов, даже если ты мал, чумазый жук знай ползет себе вперед – а больше ничего и не надо. Не знаю, куда он полз, по мнению пилигримов: видимо, туда, где они смогут что-то получить или раздобыть. Я же думал, что он ползет навстречу Куртцу. Однако, когда паровые трубы прохудились, поползли мы очень медленно. Берега раскрывались перед нами и смыкались за нашими спинами, словно лес неторопливо выходил на воду и преграждал нам пути к отступлению. Мы проникали все глубже и глубже в сердце тьмы. Там было очень тихо. По вечерам из-за зеленых стен иногда доносился барабанный бой: летел над рекой и как будто замирал в воздухе над нашими головами – до самого рассвета. О чем гремели те барабаны – о войне, мире или Боге, – мы не знали. Вестником рассвета было пугающее затишье, спускавшееся на реку; лесорубы спали, их костры едва теплились; я испуганно подскакивал на месте от любого шороха и хруста ветки. Мы были странниками в доисторическом лесу незнакомой планеты. Мы могли бы вообразить себя людьми, на которых свалилось проклятое наследство и которое еще причинит нам немало страданий и потребует от нас тяжелого труда. Но вдруг, еле-еле одолев какой-нибудь поворот, мы различали на берегу тростниковые стены и остроконечные соломенные крыши, слышали дикие вопли; под тяжелым навесом неподвижной листвы мелькали черные ноги, хлопали руки, раскачивались тела, сверкали белки глаз. Наш пароход медленно шел мимо необъяснимой черной вакханалии. Первобытный человек… проклинал нас? Приветствовал? Возносил нам молитвы? Разве тут скажешь… Мы ничего не понимали в происходящем вокруг, мы просто скользили по реке подобно призракам, гадая и втайне ужасаясь, как душевно здоровый человек ужаснется, став свидетелем бунта в сумасшедшем доме. Да мы и не могли понять, ибо были слишком далеко, и вспомнить тоже не могли, ибо очутились во мраке первых, давно минувших веков, которые не оставили в разуме современного человека ни следов, ни воспоминаний.
Земля казалась неземной. Мы уже привыкли к виду закованного в кандалы и укрощенного чудища, но там… там это чудище вырвалось на волю. Неземные картины предстали нашему взору, а люди… нет, я не скажу, что они были бесчеловечны. Это и было хуже всего – подозрение, что они тоже люди. Оно приходило медленно. Дикари выли и скакали, крутились на месте и корчили страшные рожи, но душу леденила мысль об их человечности, о своем отдаленном родстве с этими дикими и страстными тварями. Безобразие? Да, это было безобразно, страшно, но честный человек не стал бы отрицать, что чудовищная искренность тех звуков рождала едва ощутимый отклик в его душе, смутный намек на смысл, понятный даже ему – ему, такому цивилизованному и далекому от тьмы первобытной эпохи. А почему бы и нет? Разум человеческий способен на все, ибо в нем заключено все – и прошлое, и будущее. Что крылось в этих плясках? Радость, страх, горе, преданность, отвага, гнев – да мало ли, но главное – истина, истина, лишенная покровов времени. Пусть дурак таращит глаза и содрогается, а нормальный человек все поймет и бровью не поведет. Но для этого в нем должно быть не меньше человечности, чем в этих дикарях на берегу. Тогда ему будет что противопоставить их истине – свою собственную суть, свою врожденную силу. Одних принципов мало. Приобретения, одежда, красивые тряпки – все это вмиг слетит, стоит только встряхнуть как следует. Нет, здесь нужна сознательная вера, ведь в диких плясках есть особый магнетизм, призыв… Да, я его слышу и признаю. Но ведь и я не обделен голосом, и мою глотку, к счастью или несчастью, так просто не заткнуть. Конечно, дураку, вооруженному страхом и сантиментами, ничего не грозит. Кто сейчас хмыкнул?.. Вас интересует, не сошел ли я на берег – поплясать да повыть с дикарями? Нет, не сошел. Из-за сантиментов? Да к черту сантименты! У меня попросту не было времени. Мне пришлось изрядно повозиться со свинцовой замазкой и искромсанным на полоски шерстяным одеялом, дабы соорудить повязки для моих раненых паровых труб. Одновременно я не сводил глаз с реки и пытался обходить коряги – словом, всеми правдами и неправдами поддерживал жизнь в пароходике и вел его вперед. В подобных занятиях достаточно поверхностной правды, чтобы спасти неглупого человека. Еще я время от времени приглядывал за дикарем, который работал у нас кочегаром. То была усовершенствованная особь, обученная топить вертикальные котлы. Он сидел прямо подо мной, и наблюдать за ним было столь же поучительным занятием, как смотреть на собаку в брюках и шляпе с пером, танцующую на задних лапках. Несколько месяцев тренировки не прошли даром для этого славного парня. На манометры он поглядывал с явно напускным бесстрашием; еще у бедняги были сточенные зубы, странно выстриженная шевелюра и по три шрама на каждой щеке. Ему следовало бы топать ногами и хлопать в ладоши на берегу, а вместо этого он – пленник неведомого колдовства, наделенный душеспасительными знаниями, – был занят тяжким трудом. Работать его научили: он знал, что, если вода в прозрачной штуке исчезнет, злой дух котла, разъяренный великой жаждой, обрушит на нас страшную кару. Поэтому негр потел, работал и испуганно косился на стекло (на руке у него висел самодельный амулет из каких-то тряпок, а из нижней губы торчала полированная кость размером с карманные часы). За бортом медленно проплывали лесистые берега, островки шума оставались позади, а впереди ждали бесконечные мили безмолвия – мы ползли к Куртцу. Однако коряги были толсты, воды мелки и коварны, в котле как будто и впрямь завелся упрямый дух, поэтому ни у меня, ни у кочегара не было времени предаваться нехорошим мыслям.
Примерно в пятидесяти милях от Внутренней станции мы наткнулись на тростниковую хижину с печальным флагштоком, на верхушке которого болтались вместо флага какие-то лохмотья. Рядом стояла аккуратная поленница. Неожиданная находка! Мы сошли на берег и обнаружили на поленнице дощечку с выцветшей карандашной запиской, которую мы разобрали с большим трудом: «Подготовил для вас дрова. Спешите! Но приближайтесь с осторожностью». Была там и подпись, какая-то длинная фамилия – явно не Куртц. «Спешите». Куда? Дальше, вверх по реке? «Приближайтесь с осторожностью». Осторожность мы не соблюдали – да и не могли бы соблюдать при всем желании, ведь записку с предупреждением нашли только здесь, на берегу. Значит, что-то стряслось в верховьях реки. Но что? И насколько серьезно обстоят дела? Вот в чем вопрос. Мы дружно осудили телеграфный стиль записки – автор мог бы и разъяснить, что к чему. Кусты вокруг ни о чем не говорили и не позволяли заглянуть в глубь леса. В дверном проеме хижины уныло болталась красная саржевая занавеска. Внутри царил разгром, но мы сразу поняли, что не так давно здесь жил белый человек. У стены стоял грубо сколоченный стол – доска на двух столбиках, в углу громоздился мусор, а у выхода я нашел книгу без обложки и с засаленными от частого чтения страницами. Корешок, однако, был заботливо прошит новыми белыми нитками. Я подивился этой находке. Книга называлась «Исследование некоторых вопросов мореходства», а написал ее то ли Тоусэр, то ли Тоусон, не помню фамилии, главный старшина флота его величества. Чтение было отнюдь не увлекательное: множество графиков и пренеприятных длинных таблиц. Этот томик, напечатанный шестьдесят лет назад, я держал в руках с великой осторожностью: казалось, он вот-вот обратится в прах. Свой труд Тоусон или Тоусэр посвятил подробному рассказу о пределах прочности всевозможных корабельных цепей, снастей и прочих подобных вещах. Да, эту книгу нельзя было назвать захватывающей, но с первого взгляда чувствовалось стремление автора к достойной цели, искреннее желание выполнять работу правильно и профессионально, и потому от скромных страниц сего древнего труда шел не только свет знаний. Бывалый моряк, со знанием дела повествующий о цепях и талях, помог мне забыть о джунглях и пилигримах, насладиться восхитительным чувством, рожденным встречей с миром настоящих, прочных вещей. Книга сама по себе была чудом, но еще удивительней оказались карандашные заметки на полях, явно относившиеся к тексту. Я просто не поверил своим глазам! Они были зашифрованы! Да-да, эти символы очень напоминали шифр. Что за человек мог притащить с собой в глушь эту книгу, изучать ее и делать подробные шифрованные заметки? Загадка, право слово.
Какой-то неприятный шум отвлек меня от чтения. Я поднял глаза и увидел, что поленницы уже нет, а начальник и пилигримы кричат мне с берега. С большой неохотой сунул я книгу в карман – казалось, покидаю доброго и надежного друга.
Наш хромой пароходик вновь двинулся по реке.