Тайна голландских изразцов Дезомбре Дарья
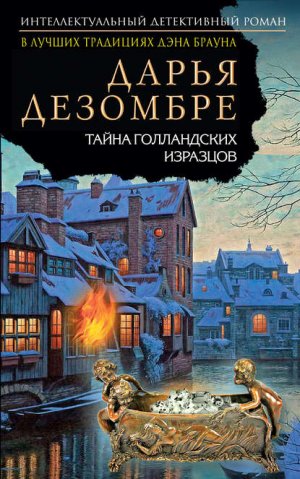
© Фоминых Д. В., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
mon mari et pre de mes enfants.
Моему мужу и отцу моих детей
Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.
Эдгар Аллан По.Похищенное письмо
Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!
Фридрих Ницше.Так говорил Заратустра
Пролог
«С чего все началось?» – спрашивал он себя без конца, осторожно пробираясь узкими улочками во влажных тревожных сумерках.
В Тренте – в семьдесят пятом? С убийства того мальчика, Симона? Или все-таки в девяностые – в Испании, Португалии, на Сицилии?
А возможно, уже позже – в Нюрнберге и Берлине – в десятом?
Откуда, из какой зловонной темной дыры, поднялась на поверхность та ненависть, что теперь, казалось, носилась не видимая никем, кроме него, над этими сверкающими под ласковым солнцем лазоревыми водами? А вдруг он просто старый испуганный дурак, который видит страшные знаки там, где их нет? И замечает тайную угрозу даже в этом волшебном городе, так непохожем на сухую раскаленную твердь его родины? «Родина? – усмехнулся он. – Какая родина?» У таких, как он, ее не было уже тысячу с лишним лет. Думать, что она у тебя есть просто по праву рождения, – горькое и унизительное заблуждение. И вылечат от него быстрым и жестоким способом, выгнав, как вшивую собаку, за ворота дома, который ты считал отчим.
И вот теперь, зайдя за угол покрытого сероватой плесенью палаццо и, как всегда, в восторженном ошеломлении замерев перед прекраснейшей в мире лагуной, он твердил себе: «Не мягчеть душой, не расплываться мыслью, не пытаться слиться с этим великолепием. Помнить – опасность близко».
Но, Господь Всемогущий, как хотелось слиться и – укрыться в этой сияющей красоте! О Серениссима, дивная раковина, вынесенная прозрачной бирюзовой волной на Адриатический берег! Слияние в едином месте творения Божеского и человеческого. Воды – от Бога. И камня – возведенного человеческой рукой.
Он вздохнул и вновь свернул на узкую полоску набережной, тянувшейся вдоль канала, уходящего в глубь города. Ветер стих, и, как всегда в отсутствие движения воздуха с моря, от застоявшейся воды внизу стал подниматься тяжелый запах испарений. Он поскользнулся на гнилых отбросах, едва успел ухватиться за влажную стену дома. И вдруг… Вдруг где-то высоко, над почти смыкающимися над его головой стенами домов, раздался первый удар колокола. Он вздрогнул и на секунду замер, а там, в далеком лиловеющем небе, на этот первый раскат откликнулась вторая, а потом и третья звонница. Колокольный гул плыл над городом, словно опутывая его невидимой сетью, и он внезапно почувствовал, что стал ее заложником. Мелкой мушкой, попавшей в широко расставленную паутину. Зачем, зачем он так задержался в порту? До дома было еще далеко, а темнело здесь осенью мгновенно.
Можно, – размышлял он, – взять частную лодку на Гранд-канале, но кто мог бы поручиться, что его, с мешочком голкондских камней, только что с таким трудом выторгованных прямо в порту на вернувшихся на рассвете судах, не выкинут, обобранного, в зловонный канал? – Он скривил тонкий рот. – Так же, как никто не может дать гарантию, что его не подкараулят на одной из этих тесных улочек и не выбросят, опять же, в ту же черную маслянистую воду. Он решился – и сделал знак рукой. Тотчас от темной стены отделилась темная же тень и беззвучно, как призрак, подплыла к маленькой пристани у горбатого мостика, на котором он стоял.
– Куда нужно синьору? – негромко произнес хриплый голос.
Он назвал адрес, сердце испуганно дрогнуло: что-то скажет? Но лодочник в ответ лишь кивнул и, схватившись длинной жилистой рукой за столбик у пристани, дал ему возможность осторожно шагнуть в качающуюся лодку.
Всю дорогу они молчали: лодочник ровными мерными движениями резал веслом кажущуюся плотной ночную воду, изредка сотрясаясь в приступе кашля, как вспугнутая птица – в крике. А пассажир кутался в плащ, задумчиво вслушиваясь в всплеск отходящей от лодки волну, в которой нервно дрожала выкатившаяся на иссиня-черное небо полная луна. «Надо уезжать, – думал он. – Пора, как бы ни хотелось остаться». Жил бы один, легко отмахнулся бы от тайных токов интуиции – мол, бабьи страхи! Но у него еще была семья. Точнее, то, что от нее осталось. И пусть его интуиция кажется иным колдовской, он-то знал: это не дар предвидения, а настоянный, как хорошее вино, в мехах страха и крови опыт. «Но куда бежать? – спрашивал он себя горько. И отвечал себе же: – Мир большой. Есть Левант, Константинополь и Польша. Выбирай – север или юг. Главное, чтобы можно было заниматься своим делом, которое кормит меня и детей».
– Приехали, – сказал баркайоло, пришвартовавшись к низкому берегу и с явной опаской глядя на то место, которое его пассажир уже пять лет считал своим домом. Мужчина в длинном плаще встал, кинул монету лодочнику и, зная, что руку ему тут не подадут, сам шагнул с качающейся лодки на скользкую, омываемую водой в лунных бликах лестницу, ведущую на набережную.
Здесь было еще тише, чем в оставшемся справа по борту ночном городе. После дневного портового многоголосья эта тишина показалась мертвой, зловещей. И, нарушая ее, он поднял руку и постучался в высокие ворота.
Шел 1548 год.
Маша
– Машенция, подъем! Завтрак готов! – услышала сквозь сон Маша и приоткрыла глаза: на высоком потолке плескались солнечные зайчики – отражение воды канала. Солнце. Сегодня светило редкое в этом городе солнце. Когда Маша была маленькая, Любочка говорила внучке, что это она, Маша, его привезла. И Маша в глубине души до сих пор в это верила: она дарила городу солнце, а он ей – ощущение счастья. Неразмытого, концентрированного воспоминания о детском беззаботном каникулярном времени. Проведенном здесь, в этой нелепой комнате с высоченными потолками, где овальная розетка лепнины почему-то уходила к правой стенке и обрывалась ровно на трети.
– Что ты хочешь? – говорила ей бабка, закуривая. – Нетипичный жилой фонд. Бог весть чьи тут были хоромы. Ясно одно: твоя комната и соседняя составляли единую, видимо, гостиную. А после, как выгнали бывших хозяев, квартиру, как старое пальто, перекраивали то так, то эдак…
Чтобы в результате получился такой нелепый расклад: посередке огромная, по советским понятиям, кухня. Слева – бабкина комната, более-менее пристойных пропорций, а справа – гостевая, она же – Машина. Длинная, как пенал, но освещенная высоким окном во всю узкую стену. Кровать стояла к окну впритык – и освещение, и настроение обитателей этой комнаты зависело от небес за окном. Выходило тройное отражение: неба в комнате, неба и солнца в зеркале воды внизу, в канале, и оттуда уже – отблеском на потолок. Это движение светотени сопровождало Машины пробуждения в Питере многие годы, убаюкивало и становилось фоном для детских бесконечных мечтаний.
Маша спустила ноги с кровати, зевнула и забрала волосы в хвост на затылке. Пора было вставать – вот уже неделя, как она приехала к бабке на Грибоедова, и неделю же не могла проснуться самостоятельно. Каждое утро Любочка будила ее из-за стенки призывом к столу. И это было чертовски приятное пробуждение. Маша принюхалась: запах бекона разлетался по родной питерской квартире – Любочка не признавала «легких» завтраков. Завтрак был ее основным приемом пищи, запивался литром кофе из большого ультрамаринового, закопченного по днищу от старости кофейника и сопровождался, плюс к яичнице, тостами. Из древнего же, советских еще времен, тостера, который бабка упрямо не выбрасывала, а раз за разом относила чинить. Ноые времена коснулись лишь сыра – финского, сменившего пошехонский. И заместившего вологодское финского же масла («Чухонские молочные продукты – самые лучшие», – наставительно говорила бабка).
Маша зашла на кухню и зажмурилась от солнца, бившего в широкое трехстворчатое окно. Подле окна стоял большой круглый стол, накрытый скатертью с мережкой. Слева по стенке располагались плита и длинный разделочный стол, справа – массивный буфет с посудой и диванчик, покрытый старым пледом. То, что самая большая комната в квартире была отдана под кухню, удивляло всех гостей, измученных убогим советским метражом, и казалось бессмысленным пространственным расточительством… Но на самом деле таковым не являлось. Кухонная комната была самой радостной, в любое время года, несмотря на погоду, светлой. Там царил уют, и можно было делать кучу разных дел, и все – приятные: готовить и поедать приготовленную еду, пить вино или чай с друзьями, читать книжку на продавленном диванчике, изредка поднимаясь, чтобы достать себе песочного печенья из буфета. В этой квартире, так же как во всем петербургском бытии, наблюдалась некая демонстративная отстраненность от московского приземленного прагматизма. Здесь легче дышалось, и именно сюда, к бабке, Маша всегда приезжала зализывать раны и оглядеться, чтобы решить, что делать со своей жизнью.
Впрочем, на этот раз официальной версией был грядущий Любочкин день рождения – ей перевалило за восемьдесят, и каждый «праздник детства» она встречала в глубокой печали, сетуя на неумолимость времени и мрачно попивая из наперсточных рюмочек «Таллинский бальзам». Обострялись артроз с артритом – все эта питерская сырость! – начинало шалить сердце.
– Не обращай внимания. Твоя бабка как-то мне призналась, что переживает из-за своего возраста лет с тринадцати, – однажды заметила мать. – Сначала она сетовала, что уходит детство, потом юность, зрелость… А теперь вот – боязнь глубокой старости, хотя, поверь, нам бы с тобой такую старость!
И Маша не могла не согласиться. Любочка жила вполне себе светской жизнью. Под боком были залы филармонии, Большой и Малый, и выставочный зал в корпусе Бенуа при Русском музее. Чуть подальше – Мариинка, которую бабка по старой памяти называла Кировским, и Эрмитаж, куда она ходила со служебного входа как к себе домой. Жизнь Любочки была комфортной и простой в использовании, потому что у нее имелись ученики. Точнее – УЧЕНИКИ. Любочка, она же Любовь Алексеевна, преподавала лет сорок подряд языкознание в Герцена, он же – Педагогический университет. Языкознание учили и сдавали инязовцы, которые при выпуске распределялись кроме как в школы в самые разнообразные структуры, ибо иностранный без словаря в то уже далекое, не избалованное специалистами «с языком» время был достаточен для начала недурной карьеры. Бывшие студенты шли в переводчики, экскурсоводы, в служащие отелей, принимающих иностранные делегации, и на предприятия, имеющие отношения с западными партнерами… А поскольку большинству Любочкиных учеников сейчас уже стукнуло пятьдесят, они успели весьма высоко подняться по карьерной лестнице и потому без труда могли доставить удовольствие любимой преподавательнице. Чего бы той ни хотелось: билетов ли на премьеру в Мариинке или круассанов на завтрак из «Европейской», где бывший студент занимал пост управляющего. Именно оттуда через день в квартиру на Грибоедова являлся посыльный в ливрее и с картонной коробкой с вензелями «Гранд-отеля».
Сдобное великолепие из коробки вкупе с яичницей украшало сейчас стол, залитый мартовским прохладным солнцем. Форточка была приоткрыта, и кремовая штора чуть колыхалась от осторожно впущенного в кухню весеннего ветра. За столом в махровом бордовом халате сидела Любочка и разливала кофий по серьезным, большим кружкам: начиналось время завтрака, прекрасное время, определяющее весь предстоящий день. Завтрак, по мнению Любочки, не мог быть скомканным – утренней обязаловкой, банальным перекусоном перед уходом на работу. Завтрак давал запас прочности перед выходом в этот жестокий мир. После правильного завтрака проще было выдержать любые испытания, посылаемые злодейкой-судьбой.
– Выспалась? – Бабка положила кусочек сыра на тост с расплавленным маслом, запила все это большим глотком кофе и подмигнула Маше веселым, несмотря на возраст, ничуть не выцветшим ярко-голубым глазом.
– Еще как! – Маша подмигнула в ответ, соскребая со старой сковородки яичницу-глазунью и стараясь не расплескать желток. – Чем сегодня займемся? У вас есть план, мистер Фикс?
Вопрос был праздный: у Любочки всегда имелся план и даже иногда несколько. И если по официальной версии Маша приехала к бабке с целью ободрить и развлечь ее в канун дня рождения, то истина располагалась, как водится, где-то между Любочкиной напускной тоской и Машиной профессиональной потерянностью. Это Маше нужно было уехать из Москвы «прополоскать мозги балтийским ветерком», как называла это бабка. И именно Любочка развлекала Машу, а вовсе не наоборот.
– Заедем к Сонечке? Помнишь ее? – спросила бабка, щедро выкладывая в прозрачную розетку клубничное варенье.
– Эта та, у которой муж полковник?
Любочка кивнула:
– Покойный. Она еще в Меншиковском гегемонит.
«Гегемонить» на поверку означало быть хранителем дворца-музея Меншикова на Васильевском. Маша усмехнулась: как не помнить? Она вообще наизусть знала всех бабкиных подруг, много лучше, чем материнских. Сонечка, Раечка, Ирочка, Тонечка. С истинно ленинградским интонированием в речи и по-петербуржски прямыми спинками. Большинство из них пережили блокаду, но это никогда не было темой бесед. Беседы велись вокруг временных выставок в Русском: «Привезли фарфор советской эпохи, помнишь, из того, с серпами, которым бы мы и стол накрыть постеснялись!» Смены экспозиции в Эрмитаже: «Зашла по привычке во французскую секцию на третьем, и ты не поверишь, куда они перевесили Матисса!» И гастролей пианистов: «Очень, очень фактуристый мальчик, знаешь, настоящий сибиряк, из Рахманинова выжимает то, чего сам Сергей Васильич, поди, не вкладывал!» Маша, помнится, пару лет назад оказалась с Тонечкой, бывшей профессоршей консерватории, в Мариинском театре. У Тонечки тоже были свои ученики, сидящие в оркестре и организовавшие им билеты – аж в Царскую ложу. Восьмидесятилетняя Тонечка пришла в узком черном платье, с драматически подведенными глазами и сухим ртом в ярко-алой, чуть подтекающей помаде. В потертой театральной сумочке кроме бинокля пожелтевшей слоновой кости лежала плоская фляга с коньяком. Тонечка, ничуть не смущаясь, перед спектаклем протянула ее Маше с бабкой и, получив вежливый отказ, на протяжении всего действа регулярно к ней прикладывалась. На напудренном лице нисколько не отражалось прогрессирующее опьянение. Лишь однажды, во время сольной партии Вишневой в роли Джульетты, она повернулась к подруге и вдруг громко и четко произнесла: «Страна – говно. Но танцуют – гениально!» Маша вряд ли когда-нибудь забудет выражение лиц мелкой и средней чиновничьей публики, соседствующей с ними в Царской ложе.
– Как дела у твоих «девочек»? – поинтересовалась она, разломив круассан и в предвкушении намазывая белую мякоть маслом, а потом вареньем.
– Сонечка подрабатывает консультациями у новых русских. – Любочка хмыкнула. – Рассказывает, бедняжка, чем отличается классицизм от идиотизма.
– С результатом? – искренне посочувствовала Сонечке Маша.
Бабка пожала плечами:
– По крайней мере денежным.
Сама бабка до сих пор подрабатывала частными уроками английского и решительно отказывалась принять материальную помощь от дочери.
– А Антонина?
– Выпивает, не без этого. Но, согласись, в нашем преклонном возрасте алкоголизм уже не так страшен. А вот Раечка… – Глаза бабки загорелись тайным огнем, и Маша улыбнулась: в жизни Раечки явно происходило нечто, достойное сплетни. – Не поверишь! Завела себе любовника!
Маша замерла, а потом расхохоталась: от Раечки, кокетливой, похожей на подвядшую, точнее, подчерствевшую сдобную булочку, можно было ждать всего. Бабкина подружка опробовала на себе все инновации пластической хирургии и подбивала на это же Любочку – пока безрезультатно, но кто знает?
– Почему не поверю? И кто ж тот счастливец?
– Молодой, лет шестидесяти пяти. Своя вроде как обувная лавка.
– То есть мужчина при деле? Отлично! – Маша, как и бабка, откровенно наслаждалась завтраком. – Вдовец?
– Упаси бог! Жена жива и здорова. Ничего не подозревает, бедняжка!
– Напротив. Бедняжкой она станет, когда все узнает.
– Да… – Бабка задумалась. – Но, по крайней мере, он оригинален: не молодуху взял, а… – Бабка тщетно искала подходящий, не обидный для подруги синоним.
– А даже наоборот! – с улыбкой закончила за нее Маша.
– Так что? – Любочка собрала со стола сковородку и грязные тарелки. – Заедем? Погода хорошая, прогуляемся заодно по Петропавловке…
Маша кивнула. Она понимала: кроме естественного желания увидеть приятельницу Любочке хотелось продемонстрировать единственную внучку, по твердому мнению бабки, умницу и красавицу. Маша была не против «смотрин» – в конце концов, мало кто на этом свете ею так неприкрыто гордился.
Маша настояла, чтобы они поймали частника – им оказался суровый мужчина южных кровей на потрепанной «Ниве». Утверждая, что все это – лишнее барство (отлично могли бы добраться и на троллейбусе!), бабка все же упросила мужчину поехать в объезд, через Троицкий мост. Вид в солнечный день на стрелку был, как всегда, прекрасен до перехваченного дыхания. Они прервали разговор на все время проезда по мосту и одновременно повернули головы, не желая упустить ни секунды из открывающейся панорамы.
– Да, – сказала бабка просто, когда они влились в поток машин на противоположной стороне. И в этом «да» было много чего намешано: и восторг перед красотой, от которой нельзя устать и к которой за восемьдесят лет невозможно привыкнуть. И обида на единственных дочку и внучку, которые предпочли Питеру «московские ухабы», как она их называла. Маша знала, что бабка долго не могла простить ее отцу, что тот умыкнул Наталью к себе в столицу. Многие годы Федор Каравай подшучивал над Любочкой и ее городом – болотистым, серым, построенным на костях, где, по его словам, невозможно жить человеку, не склонному к глубочайшей депрессии. Бабка же недобро усмехалась и говорила: «Вот и отлично, сидите сами подальше от нашего болота в своей большой деревне, в купечестве, в позолоте да безвкусице. Одно достойное место на весь город – Кремль, да и того скоро за новостройками будет не видать».
Маша в споры не вступала: было бы о чем спорить! Ей отлично дышалось и дома, и под питерскими небесами. И пусть отцу своему она не признавалась, но бабке этого и говорить было нечего: приезжая, Маша чувствовала, что вписывалась в Питер просто, будто всегда здесь жила. Что-то вроде генетической памяти или внутреннего созвучия: город соответствовал ей своей сдержанностью, отстраненностью, спрятанной от глаз досужего зеваки сокровенной жизнью. Если бы только папа прожил чуть больше, она сумела бы ему объяснить, что…
– Приехали, – прервал ее размышления частник, с визгом шин затормозив у тротуара. Маша вылезла, подала бабке руку, и они хором смерили взглядом желтый с белым фасад Меншиковского дворца.
– Как-то с особенной нежностью отношусь к Питеру восемнадцатого века, – сказала Любочка, направляясь к парадному входу. – Понимаешь почему? – И сама же себе ответила: – Его ведь и осталось-то совсем немного, и он еще не имперский, домашний какой-то, свой. Уютный.
Маша кивнула. Еще более уютным был кабинет Сонечки, Софьи Васильевны, бабкиной подружки со школьных времен. Маленькое помещение, отделанное темными дубовыми панелями, под покатой крышей и с круглым окном, выходящим на Неву. Сонечка, одетая в строгий костюм и белую блузку, встречала их уже накрытым столом: бумаги и папки отодвинуты в сторону, чашки с сине-золотой сеткой стоят в боевой готовности рядом с коробкой конфет. Расцеловавшись с Любочкой и критично оглядев Машу, Софья Васильевна благородно усадила гостей супротив окна (наслаждаться видом), а сама села к Неве спиной, разлила чай, подвинула сладкоежке Любочке конфеты. Старинные подруги слились в едином порыве: обсудили с пристрастием Тонечкину страсть к коньяку, Раечку и ее «обувщика» и мягко перешли к себе, грешным. Любочка между делом вставила, что Марья у нее звезда столичной Петровки и даже фигурировала на фото в какой-то московской газете, статью из которой Наталья ей отослала по старинке письмом, а Любочка так хорошо спрятала (чтобы, не дай бог, не потерять!), что забыла куда. Маша хмыкнула: бабка была в своем репертуаре.
Речь перешла тем временем на Сонечкиных новых клиентов – ни шиша не понимающих в архитектуре приобретенных ими памятников архитектуры, но «очень, очень милых мальчиков». Один из них, поведала Сонечка, попал в страннейшую историю, возможно, Машеньке будет интересно. Маша вежливо улыбнулась.
Итак, «очень милый мальчик» лет сорока решил побаловать себя недвижимостью рядом с царским парком в Царском же Селе. Особнячок небольшой, простенький, но все же – осьмнадцатый век, место жительства светской тусовки екатерининских времен. От времен, понятное дело, ничего уже не осталось, но мальчик решил, что он этого так не оставит – обставит дом как надо, чтоб перед гостями не стыдно. Большим плюсом мальчика можно считать тот факт, что он осознавал собственную ограниченность в вопросах интерьеров эпохи русского барокко. И решил проконсультироваться у специалиста – собственно, Софьи Васильевны. За пару дней до того, как мальчик с шиком докатил старушку на собственном «Лексусе»-кабриолете до императорского пригорода и, растрепав ей и без того негустую прическу, выслушал ее предложения и критику, и случился этот самый казус. А именно – кража. Кражей как таковой сейчас никого не удивишь, но в том-то и дело, что «милый мальчик» в дом пока не въехал и наличности или драгоценностей жены в сейф, врезанный в солидную капитальную стену барочной эпохи, еще не положил.
– Кстати, – добавила Софья Васильевна, подмигнув Любочке, – супруги у молодого человека, похоже, тоже не наблюдается.
Маша многозначительное подмигивание проигнорировала.
– И что же странного в краже? – спросила она.
– Украли только голландские изразцы, которые хозяин заказал для облицовки камина. Изразцы старинные, века XVI, но на рынке антиквариата стоят не бог весть сколько. Много меньше, к примеру, чем люстра муранского стекла, или инкрустированная мебель а-ля восемнадцатый век, или шпалеры льежских мануфактур, которые хозяин приобрел для стены в спальне.
– А сколько было изразцов? – Любочка положила в рот конфетку.
– Штук сто. Но украли только двадцать. Хозяин говорит, они были объединены одной темой, но в принципе ничего особенного. И заплатил он за них не больше, чем за остальные.
– Так в чем же проблема? – улыбнулась Маша. – Пусть закажет еще.
– Как же это, Маша? – Сонечка воззрилась на нее поверх очков с искренним недоумением. – А вор? Останется безнаказанным?
Маша усмехнулась:
– В нашем государстве, Софья Васильевна, остается безнаказанным воровство в куда более крупных масштабах. Вряд ли полиция будет сильно их искать. Мальчик ваш – явно не бедный. Легче забыть и купить новые.
Софья Васильевна покачала головой в редких белых кудельках:
– Маша, вы что, не знаете этих людей? Он ночей не спит, все голову ломает: почему? Почему именно эти и именно у него? Месть ли конкурентов каких или вор с придурью? Одним словом, спрашивал меня, не могу ли я его свести с кем-то, кто мог бы провести расследование, так сказать, частным образом. Я сначала отнекивалась: где я, а где частный сыск? А он мне вдруг как скажет эдак разочарованно: «Вы ж коренная, питерская! Неужто за всю жизнь не приобрели знакомых или знакомых знакомых в любой сфере?» И тут во мне взыграло ретивое: и правда, коренная я или…
– Пристяжная? – усмехнулась Любочка.
– Одним словом, я вспомнила, как Люба мне рассказала о твоем приезде и успехах в этих ваших сыщицких делах. Я ему ничего не обещала, конечно, но… – Софья Васильевна открыла ящик стола и перебрала стопку визиток, чтобы наконец вытащить нужную. – Вот.
Она подала Маше кусочек картона. «Ревенков Алексей», – прочла Маша тисненные золотом имя и фамилию. И протянула визитку обратно:
– Нет, Софья Васильевна. Простите, никак не смогу помочь вашему протеже. Удалилась от дел.
– Ну что ж… – Сонечка с улыбкой кивнула. – Ничего страшного. Пусть ищет кого-нибудь через Интернет. А карточку оставь себе: вдруг передумаешь?
Маша сунула визитку в карман – никому она звонить не собиралась, но обижать старушку не хотелось.
Любочка встала, обозначив конец светского визита. Уже выходя, Маша обернулась и спросила:
– Софья Васильевна, а что за тема?
Бабка подняла вопросительно бровь, но хранительница музея Машу поняла:
– Изразцов-то? Дети. Играющие дети.
Андрей
Андрей решил, что звонить Маше не будет. Все свое, не цицероновское отнюдь, красноречие он уже потратил, пытаясь доказать ей, что она не сможет заниматься ничем другим и работать нигде, кроме как сыщиком – на Петровке. Что нельзя закапывать свой талант: к чему было тратить больше половины своей сознательной жизни на то, чтобы стать уникальным специалистом, а затем похоронить эти знания где-нибудь в адвокатской конторе? Пусть в самом что ни на есть престижном тихом центре! И ладно бы дело было в деньгах! Но Андрей достаточно хорошо знал Машу, чтобы понимать: не нужны ей деньги. Не то чтобы вообще не нужны – «вообще» они нужны всем. Но не до такой степени, чтобы зарабатывать их, предавая любимую профессию. А то, что профессия была любимой, он не сомневался: в нелюбимом деле нельзя достичь таких высот, каких Маша Каравай достигла меньше чем за год работы в убойном отделе на Петровке. Другое дело, что любовь бывает разной, и мучительной в том числе. И Андрей сказал себе, что у Маши просто кризис – кризис взаимоотношений с профессией. Пройдет.
Но шли недели после того, как Маша официально «удалилась от дел» и даже «проставила поляну» отделу; Андрей бросал мрачные взгляды на ту часть стола, которую она занимала последний год, – и там по-прежнему было очень пусто.
– Я не хочу больше на это смотреть, – сказала ему Маша после того, как их энгровский маньяк попал за решетку[1]. Андрей было подумал, что речь идет о несправедливости – о Зле, порождающем Добро, и подобных сложных материях. Он со своей стороны уже давно в такие вопросы не вдавался. В конце концов, он занимается своим делом – ловит преступников. Объяснять, почему тому или иному парню надо скостить срок, поскольку он параллельно совершению преступления был честным отцом, мужем, спасал детей или стариков, – дело его адвоката. В этом прелесть работы в системе: не ты принимаешь решения этического толка. Пусть болит голова у прочих ребят, находящихся на госслужбе: судьи, прокурора, присяжных, наконец.
– Почему, почему нельзя просто хорошо делать свою работу, как в любой другой профессии? – приставал он к Маше, когда в очередной раз вывез ее к себе на дачу. Она молча выслушивала его аргументы, пока он вышагивал туда-сюда по веранде, а сама сидела, сгорбившись, на старой табуретке и все гладила, гладила башку Раневской, обалдевшего от столь долгой ласки. Но в какой-то момент Машина рука замерла, и прикрытый от блаженства глаз Раневской приоткрылся – пес почувствовал неладное.
– Дело не в профессионализме, Андрей! – начала Маша тихо, но за этим полушепотом чувствовалась набиравшая силу внутренняя истерика. – Я начала изучать маньяков, потому что хотела найти убийцу своего отца. Я изучала их в школе, читая вместо нормальных книжек только книжки по теме, потом поступила по этой же причине на юридический и писала по ним диплом. Затем, с грандиозным скандалом с матерью, устроилась на Петровку. И я нашла его… Цель была достигнута, но какой ценой?! У меня погибли… – Она на секунду замолчала, отвернулась к окну, вновь нашла ладонью голову Раневской, сглотнула. – Стало ли мне легче от этой правды? Ни капли! Стал ли мир от этого лучше? Тоже нет. Что ж, подумала я, везде есть исключения. И мы взялись за второе дело, и вот… Мы приехали посмотреть, что случилось со стариками. И что мы увидели?
– Их грузили в автобус, – мрачно сказал Андрей.
– Их грузили в автобус, как скот, который везут на убой, – тускло поправила его Маша. – Понятно, что без тех условий, которые им обеспечивал этот дом престарелых, долго они не протянут…
– Это как раз то, о чем я тебе говорю! – попытался вклиниться Андрей.
– Подожди. Представим себе, что это правда – я отлично умею ловить маньяков…
– Ничего себе, «представим»! Да ты лучшая, ты…
– А если я не хочу их ловить? – подняла на него Маша прозрачные глаза. – Мне это было интересно только из-за папы. А теперь я бы рада заняться чем-то другим. Но, видишь ли, – и тут она мрачно усмехнулась, – ничего другого я не знаю и ни в чем ничего не понимаю, кроме этих самых маньяков, от которых меня теперь тошнит! И еще. Я больше не хочу видеть изуродованные трупы. Никогда. А при нашей профессии это неизбежно. Так что, если позволишь, я все-таки сменю род занятий.
Маша
Маша прошла за изящной секретаршей в кабинет Торчанова, старшего партнера в адвокатском бюро «Торчанов и партнеры». Он с улыбкой встал из-за стола, чтобы ее поприветствовать: глаза его за стеклами модных круглых очков в черепаховой оправе прямо-таки лучились доброжелательством и – плохо скрываемым любопытством. Маша улыбнулась в ответ и протянула руку для рукопожатия. А чего она ожидала? Фамилия Каравай – не Кузнецова и не Иванова. Пусть прошло больше десяти лет, но за это время имя ее отца не забылось, а, напротив, стало классикой в адвокатском мире. Мифом. В этой профессии у ее фамилии было несомненное преимущество перед прочими, в чем таилась и опасность – слишком высока была планка. Нужно с самого начала подтверждать ценность своего имени, отдельно от знаменитой фамилии. «Блатная, – подумала Маша, оглядывая кабинет, пока его хозяин склонился над ее резюме. – Я вечно блатная. Надо было идти в медицину, по материнским стопам».
Секретарь просунула голову в кабинет:
– Может быть, чаю? Кофе?
– Мне зеленый, как обычно, – не отрываясь от резюме, ответил Торчанов.
– Мне ничего, спасибо, – покачала головой Маша. Она все-таки заметно нервничала.
Секретарша кивнула и исчезла. А Торчанов уселся поудобнее, закинув ногу на ногу так, что костюм из тонкой итальянской шерсти натянулся на угловатой коленке.
– Итак, вы решили поменять место работы… – Он мельком улыбнулся. – Что ж, дело молодое, еще не поздно сменить курс. Как вы знаете, наша фирма занимается разрешением международных споров. Мы часто представляем интересы клиентов в международных коммерческих арбитражах. Занимаемся вопросами, связанными с различными формами корпоративного мошенничества и злоупотреблений, недобросовестной конкуренцией, банкротством, розыском активов. Сотрудничаем с юридическими фирмами в Лондоне, Париже, Цюрихе, Женеве, Нью-Йорке…
Маша удивленно на него взглянула: казалось, он делает рекламу своему явно процветающему бизнесу. И хоть особой практики в прохождении собеседований у нее пока не было, ей казалось, что все должно быть с точностью наоборот.
Торчанов поймал ее взгляд и смущенно кашлянул:
– Я вижу, вы свободно говорите на французском и английском. Немецкий?
Маша отрицательно покачала головой, а адвокат продолжил:
– Что ж. Не страшно. Наши партнеры прекрасно владеют английским. По международному праву у вас, как я догадываюсь, пять?
Маша кивнула:
– Но диплом я писала по совсем другой теме, и опыта у меня…
– Да-да, это я понял. Отсутствие опыта могло бы быть проблемой, но не в вашем случае, верно? – Он белозубо улыбнулся. – Я тут, признаюсь, провел некоторые изыскания на ваш счет перед собеседованием… У вас, как все утверждают, блестящий интеллект, который вы проявили на ином поприще, но сила ума именно в маневренности, не так ли? Нам нужен свежий взгляд. Так что буду рад с вами работать. Что касается вознаграждения…
Десятью минутами позже Маша уже вышла из кабинета, пожав руку Торчанову и пообещав ответить как можно скорее. Она прошла по коридору мимо стеклянных стен, за которыми сидел десяток сотрудников: все, как один, в отлично сшитых костюмах, и почувствовала себя Золушкой. Идея пройти собеседование озарила ее внезапно. Во всех учебниках и на сайтах, посвященных проблемам поиска работы, говорилось об обязательном деловом стиле и еще о том, что не стоит ожидать удачи с первого раза: собеседования – как тренинг, чем больше проходишь, тем лучше получается. Вот Маша и решила потренироваться. У нее не было делового стиля – она пришла к «Торчанову и партнерам» одетая как обычно, в тонкий свитер под горло и джинсы (оба предмета туалета черного цвета). И была готова отвечать на серию бессмысленных вопросов вроде «Кем вы видите себя через пять лет?» или «Каковы ваши недостатки?» (о, если б вы только знали…). Но глупых вопросов ей не задавали. Честно говоря, ей вообще не задали никаких вопросов. Никто не обратил внимания на отсутствие у нее «делового стиля». Напротив, ей сразу же предложили работу с оплатой, на которую мало кто из вчерашних выпускников может рассчитывать. Пусть и с красным дипломом престижного вуза. И все же, все же… От одной мысли о том, чтобы пополнить ряды элегантных людей, сидящих за стеклянными стенками перед столами, заваленными папками с делами, ей становилось тоскливо, как при взгляде из окна в ноябрьские сумерки. «Это – или трупы. Выбирай! – строго сказала себе Маша. – Ничего, как-нибудь привыкнешь».
И, чтобы хоть чем-то себя порадовать, решила вернуться домой, прогулявшись по Мойке мимо пушкинской квартиры и французского консульства, и, взглянув на Михайловский замок, свернуть на Грибоедова. Весьма хитроумный план, дабы прийти под бабкины инквизиторские очи порозовевшей от прогулки, пусть и не с радостно блестящими глазами.
– Тебя не взяли, – постановила Любочка, лишь только разрумянившаяся внучка переступила порог.
– Почему же. – Маша устало присела на лавочку в прихожей. Ноги с непривычки гудели. – Взяли. Пообещали высокие гонорары. Все отлично.
– Хм, – Любочка повернулась и деловито прошла на кухню – ставить чайник. – Что-то не похоже на отлично.
Маша села за стол и вытянула ноги. Любочка поставила перед ней чашку, молча подвинула оставшуюся от завтрака булочку из «Европейской». Маша отхлебнула из чашки, подняла глаза на бабку и вдруг выпалила:
– А что, если быть сыщиком – вовсе не мое призвание, а просто… результат обстоятельств?
– Ты имеешь в виду убийство Федора? – Бабка не стала ходить вокруг да около.
Маша кивнула:
– Такое впечатление, что я выполнила миссию и у меня кончился завод. – Она вздохнула. – Пора просто смотреть на прекрасное и заниматься международным арбитражем.
– Глупости! – фыркнула бабка. – Если бы ты хотела заниматься этим самым арбитражем, давно бы уж занялась! А не сидела тут снулой рыбой после удачного собеседования. Или ты действительно решила, что смерть отца – единственная причина, по которой ты оказалась там, где оказалась?
Маша осторожно кивнула. Бабка в возмущении отодвинула от себя чашку.
– Девочка моя, убийство в этом мире – не такое уж редкое происшествие. Родственники всегда чувствуют боль, желание отомстить, тоску… Но очень редко эти чувства преобразуются в жизненную стратегию. Тем более в твоем тогдашнем, очень юном, возрасте!
– Хочешь сказать, я была к маньякам предрасположена? – улыбнулась Маша бабкиной страстной тираде.
– К маньякам – нет! Но к поиску правды, любви к загадке, которой является каждое нераскрытое преступление, конечно!
Маша покачала головой:
– Убийство – это не детектив в стиле Агаты Кристи, Любочка! Это ужасно неприятное для глаза и для души зрелище… Я не готова всю жизнь на это смотреть!
– А никто тебя и не заставляет заниматься убийствами, девочка! Преступления касаются не только лишения жизни! Есть другие возможности для использования твоих способностей… Вот, к примеру, Сонина история. Чем не шанс? Престижный пригород, особняк, интересный холостяк…
– Тебе так нравится эта идея, что ты даже заговорила стихами! – улыбнулась Маша.
– Мне не нравишься ты с тех пор, как сюда приехала! – возмущенно фыркнула бабка. – Любому из нас нужно дело, которое его увлекает! А такому, как ты, тем более! И чем раньше человек определяется с призванием, тем больше у него времени на разгон, тем больше шансов, что он станет настоящим профессионалом!
– Ты знаешь, что говоришь как… папин убийца? – тихо спросила Маша.
Но бабка только махнула рукой:
– Не пытайся меня смутить! Он же был не дурак, верно?
– Верно… – еще тише сказала Маша.
– Вот! – Бабка положила перед ней визитку. – Позвони.
Маша молча отвернулась к окну, крутя в руках уже пустую чайную чашку. А Любочка, погладив ее по плечу, вышла из кухни и прикрыла за собой дверь.
Ревенков встал ей навстречу, на ходу вытирая ладони бумажной салфеткой: рандеву он назначил в пирожковой в Конюшенном переулке. Маша оценила выбор: недалеко от ее дома, и само место вкусное и не жлобское.
– Берите с капусткой, – посоветовал он, когда она присела за столик и сделала знак официанту. – С капусткой – самые лучшие. Ну и еще с рыбкой красной.
Маша сделала заказ и, отложив меню, взглянула на своего возможного заказчика – крупного светло-рыжего голубоглазого мужчину в розовой рубашке, придававшей ему вид нежнейшего поросенка. Добродушного поросенка. На спинке стула висел коричневый пиджак и коричневый же галстук с геометрическими мотивами: Ревенков явно расслаблялся во время обеда, и встреча с ней не отменяла этой традиции.
– Только давайте сначала покушаем, а? – предложил он, со сладострастием по-настоящему голодного человека откусывая от пирога.
Маша, сдержав усмешку, кивнула и молча ждала, пока перед ней поставят тарелку с капустным и рыбным пирогами плюс широкую чашку с бульоном. Когда в полной тишине они закончили трапезу, Ревенков отодвинул от себя посуду, вытер жирные губы салфеткой и совсем по-новому – много более благосклонно – взглянул на Машу.
– Извиняюсь. – Он развел полными руками, отчего рубашка опасно натянулась под мышками. – Пока голодный, это самое, ни о чем думать и говорить не могу. Злой – ужас! А сейчас вроде отлегло.
– Ясно, – вежливо улыбнулась Маша. – Софья Васильевна сказала, что у вас есть для меня работа.
– Угум, есть. – Ревенков пригладил пальцем широкую белесую бровь. – Меня тут, по ходу, обнесли. Ну и я знать хочу кто. И почему.
– Простите мое любопытство… – Маша помялась. – Но зачем это вам? Изразцы, если я правильно поняла, не очень дорогие, а вы человек состоятельный, можете заказать еще… Это выйдет и быстрее, и, мне кажется, дешевле…
– А че, дорого берете? – сощурился Ревенков. И, заметив Машино замешательство, покровительственно похлопал ее по руке. – Да-да, слыхал. Вы, типа, крутая. Так не сомневайтесь, я к вашим гонорарам готов. – Он втянул носом воздух, посмотрел в окошко, явно собираясь с мыслями. – Вот прям не знаю, как это объяснить-то… Кто-то, по ходу, задумал чего-то за моей спиной. Проник в мой, понимаешь, – он подчеркнул голосом, – мой! – дом. Украл мои вещи. Кто и почему, ваще не ясно. Но, ясен пень, не сюрприз мне хотел сделать к празднику, так?
Он посмотрел Маше в глаза почти умоляюще – так ему хотелось, чтобы она его поняла. И Маша поняла, хоть и принадлежала к совсем другой людской породе. Ревенкову казалось немыслимым отдать без боя что-то свое. Любой, кто покушался на его собственность, становился врагом номер один. «Видно, – подумала Маша, – он долго и сложно шел к тому, что имеет, вот теперь и защищает добытое с упорством и яростью цепного пса». Ревенков улыбнулся – зубы были не слишком ровные, но свои, крепкие, явно не коренного питерского происхождения. Бабка как-то озвучила ей питерскую формулу взаимоисключающих понятий: либо истинный питерец с плохими зубами, либо не питерец, но с хорошими. «Тут уж не до рацио, – улыбнулась в ответ Маша. – Кто-то посмел вторгнуться в его жилище. Ату его, ату!» А вслух сказала:
– Расскажите, как это произошло?
– Да фигня какая-то! – почесал коротко стриженный затылок Ревенков. – Короче. Я был в городе, тут квартиру снимаю. На Таврической, – уточнил он не без гордости факт проживания в одном из самых дорогих кварталов, и Маша уверилась в своем анализе. – В Пушкин катаюсь пару раз в недельку да в выходные – поглядеть, как ремонт, не заснули ль там мои чучмеки. Дом на сигнализации, ясен пень. Ну и вот, позвонили из полиции часов в десять вечера. Сказали, было проникновение, приезжайте, посмотрите, что взяли. Я, значит, давай в Пушкин. Благо пробок не было – за полчаса доехал. В доме – окно на первом этаже, там окна низкие…
– Бельэтаж, – кивнула Маша.
– Что? – нахмурился Ревенков.
– Не обращайте внимания. Вор проник через окно?
– Да. Аккуратненько так стекло вырезал. Быстро вошел, взял изразцы – и вышел.
– В доме есть камеры наблюдения?
– Ага, – кивнул бизнесмен. – Только толку от них, по ходу, чуть. Можете сами посмотреть.
– Обязательно посмотрю. Что дальше?
– Этот гад был явно в курсе, сколько времени нужно охране, чтобы приехать. Когда те подъехали, в доме и рядом с ним уже никого не было.
– Соседей опрашивали?
– А как же! Все свои люди. Дружат – не разлей вода: охраняют как бы вдобавок к официальным структурам соседскую недвижимость. Типа договора: я за твоим особняком пригляжу, пока ты с семьей в отпуске на Таити, а ты – за моим.
– И что же?
– Не-а. Никто ничего не видел. Темно ж, как в… – Он осекся, взглянув на Машу, и поправился: – Типа очень. Дождь шел всю ночь. Как сработала сигнализация, соседи слева высунулись из окон… Ну и увидели только удаляющиеся фары машинки какой-то. Но ни номеров, ни цвета не разглядели.
– Ясно, – кивнула Маша, хотя ей было совсем не ясно. – Давайте посмотрим записи с камер наблюдения. Они у вас дома?
Ревенков самодовольно улыбнулся и достал из стоящего под стулом портфеля айпад:
– Техника! Вот из охранного агентства прислали по мейлу.
Он настроил и передал ей планшетник. Маша, сощурясь, посмотрела на экран: особняк стоял чуть в глубине, перед ним – два дерева, закрывающих обзор. Ближайший фонарь – метрах в ста, чуть дальше по каналу, отделяющему улицу от царскосельского парка. Свет фонаря казался призрачным, далеким.
– Как-то темновато у вас в Пушкине, – повернула она экран к Ревенкову.
Тот усмехнулся, кивнул:
– Темновато, это да. Только, по ходу, дело тут не в экономии электроэнергии. Два фонаря, ближайших к дому, разбили. За пару дней до ограбления.
– Вор, выходит, готовился. – Маша вернулась к происходящему на экране. Внезапно дом осветился.
– Это датчики движения, – пояснил Ревенков. Из сгустившейся еще больше тени дерева появилась черная фигура; вот она замерла перед большим окном, и через несколько минут неизвестный вынул стекло, подтянулся и перекинул ногу внутрь. – Подождите. – Ревенков кликнул следующий файл. – Вот. Данные со второй камеры, той, что внутри.
Второе видео оказалось еще более темным: какая-то тень проскользнула мимо и через пару минут так же быстро вернулась обратно. Третий ролик, опять с наружной камеры, продемонстрировал ту же человеческую тень с белеющим во тьме пакетом, вроде как с логотипом супермаркета, и чуть позже удаляющиеся задние фары автомобиля. Лучше всего машину было видно, когда она проезжала под дальним фонарем.
Маша повернулась к Ревенкову:
– Они смогли увеличить изображение?
Ревенков пожал плечами:
– Ага. А толку? Выяснили, что пакет из супермаркета «Карусель». А машина – черная, навроде «Жигулей». Номера замазаны.
Он поставил Маше последнее видео: осмотр места происшествия. Ревенков в сопровождении охраны обходил дом, пытаясь понять, что пропало. Внутри особняк был почти закончен: стены выровнены и покрашены в пастельные цвета, положен дубовый паркет. На полу еще запакованными, в коробках или обернутые в пластик, лежали ревенковские приобретения: венецианское зеркало в тяжелой раме («Это для холла», – уточнил он); огромная разноцветная мурановская люстра («Антикварная тоже, для столовой, стоила кучу бабла», – пояснил хозяин), ковры, мебель. Маша с удивлением отметила, что у ее «новорусского» клиента все в порядке со вкусом. Хотя – что это она? Не у него, а у его консультантов по интерьеру. Впрочем, защитила Маша бизнесмена от собственной же критики, правильных консультантов тоже выбрать непросто. И – да: и люстра, и старинные ковры явно стоили дороже двадцати плиток из старого фаянса.
Маша подняла на Ревенкова глаза:
– У нас есть два возможных пути развития. Первый – мы отрабатываем преступника. Но у вас в арсенале только я, а исходные данные более чем скудные.
– А второй?
– Мы будем отталкиваться от предмета кражи. Почему они, именно эти изразцы?
Ревенков кивнул и вдруг выдал крайне обаятельную ухмылку:
– Значит, все-таки возьметесь за дело?
Антикварная лавка, чей хозяин, по словам Ревенкова, «организовал» ему изразцы для камина, находилась на Большой Конюшенной. Просторное светлое торговое помещение эпохи модерна совсем рядом с ДЛТ[2]: большие окна во всю стену позволяли увидеть и оценить предлагаемый товар с улицы. Но Маша сразу зашла внутрь, а зайдя, даже несколько растерялась: никакого запаха «иных времен», а напротив, легкий парфюм, принятый в модных дорогих бутиках. Молодая блондинистая особа – продавец-консультант, на высоких шпильках и в обтягивающем невыразительные манекенные формы коротком платье. Минимум предметов, зато каждый явно представлен в наилучшем свете, будь то красного лака китайский комод, или парочка ампирных ваз севрских мануфактур, или старинные напольные часы с боем в бледно-голубом резном футляре. Сам антиквар, вызванный продавщицей по Машиной просьбе, тоже мало соответствовал стилистически образу: лет шестидесяти, явно молодящийся – бритая голова, а на лице, напротив, ухоженная двухдневная щетина. Дорогие джинсы с легкими потертостями, белая футболка, охватывающая чуть обрюзгший, но некогда весьма мускулистый торс.
Он по-деловому пожал Маше руку:
– Гребнев Иван Николаевич, к вашим услугам. – И, углядев на ее лице некоторое удивление, кивнул: – Да, согласен, мы нетипичный магазин антиквариата. Я, знаете ли, разрабатываю концепцию антикварного бутика. Никакого затхлого запаха – наши люди не любят старья.
– Даже те, кто приходит искать антиквариат? – удивилась Маша.
– Ну, не все же приходят по любви, – легко отмахнулся он пухлой ручкой с золотой печаткой. – Главное – сделать это дело модным трендом. И еще – не налегать на мебель. Многие клиенты брезгливы. Предпочитают покупать новье, подделанное под старину. А вот вазу или гравюру какую – пожалуйста.
– Значит, изразцы вполне входят в ваш… «тренд»?
– Конечно. Мало у кого имеется камин, да еще и давней эпохи. Но часто бывает, дизайнеры выкладывают кантом плитку в кухне, например.
– То есть заказ господина Ревенкова не оригинален?
– О нет. И тут, и в Москве – у меня там тоже есть бутик, на Патриарших, – бывает, заказывают.
Маша кивнула:
– Алексей Сергеевич сказал, что у вас есть копии плитки.
– Обязательно. Я всегда на всякий пожарный все фотографирую – на случай последующих претензий или для страховки… – Гребнев подозвал к себе продавщицу, что-то шепнул ей на ухо, и девица вернулась минутой спустя с картонной папкой. Антиквар протянул ее Маше.
В папке лежало несколько листов с черно-белыми копиями изразцов: на каждом листе помещалось около шести. Детали по углам были мелковаты, но центральный рисунок читался ясно: дети играют на улицах старинного города.






