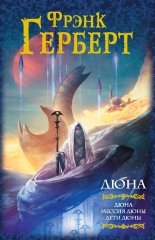Наше счастливое время Джиён Кон

Предисловие
На встречах с читателями, как правило, звучит вопрос: «К какому из ваших произведений вы испытываете особую привязанность?» Я всегда вспоминаю, как мой младший ребенок начинает допытывать, кто из них – моих детей – самый красивый, и озадачивает меня таким вопросом. Ведь каждый из написанных романов относится к какому-то особому периоду моей жизни, который больше не повторится, и каждая книга несет в себе единственные в своем роде переживания, воспоминания и достижения.
Но если все-таки придется его назвать, я не смогу не упомянуть роман «Наше счастливое время». Это была пора, когда я ужасно боялась, что после семилетнего перерыва больше не смогу взяться за перо. А еще в глубине души жил страх, который я испытывала по отношению к людям и к жизни. Да-да, этой непостижимой штуке под названием «жизнь», которая наигралась со мной, словно с игрушкой, и швырнула со всего маху о землю за ненадобностью… Однако в мире, с которым я тогда столкнулась, жили люди в тысячу, в десятки тысяч раз несчастнее меня. «Бесчеловечные чудовища», которые по призыву «Убейте их!» вопящей в унисон толпы мгновенно могли оказаться в петле.
При первых встречах с ними единственное, что я могла делать, – это рыдать. Не знаю. Но и затем, оказываясь на свиданиях с ними, я все равно иногда плакала. Будто малый ребенок, моя душа заходилась криками: «За что эти страдания?»; «Откуда это зло?»; «Почему мир такой?»; «Человек из-за чего?»; «Почему?!».
Сколько же я пролила слез?! Уже гораздо позднее смертницы признались мне, что даже держали пари, сколько я буду плакать. И вот, пока я четыре-пять лет заливалась слезами, моя жизнь изменилась. В какой-то момент я обнаружила, что стала активистом движения за отмену смертной казни; успех романа и его экранизация немного помогли избавиться от груза, когда-то сломившего меня; а еще мы настолько сблизились со смертницами, что могли делиться самым сокровенным. Однако самая разительная перемена произошла во мне. Благодаря встречам, когда мы вместе плакали, смеялись и делили хлеб, у меня зародилась твердая вера в человеческую доброту. В то, что в каждом изначально заложено добро. И оно проявляется не внезапно, а только благодаря долгим и упорным усилиям.
В кои-то веки я смогла примириться с собой и Создателем, которого все это время обвиняла в несправедливости, и впервые у меня появилась надежда. Не ленивый оптимизм по поводу будущего и человечества, а именно то, что приходит после принятия страшного наказания и смирения с ним, необходимостью терпения.
Так уж случилось, что корректуру первого я получила в Страстной четверг. И сегодня, когда я пишу эти строки, как ни удивительно, тоже Страстной четверг, в который был схвачен Иисус, знавший о предстоящей смерти. Вчера я получила письмо от одной смертницы – это, верно, тоже совпадение. На последнем свидании я опять не сдержала слёз, и она в ту же ночь написала мне. «Не знаю, имею ли право полагать, что эти слезы только из-за меня. Но, узнав о случившемся со мной, Вы столько выплакали за время наших встреч, что, возвращаясь в камеру, я чувствую себя должником перед Вами… Я выплеснула все накопившееся и вернулась в камеру. А сейчас, в этот поздний час, я мурлычу себе под нос, словно опьяненная благодатью, которой Вы одарили меня днем. Благодарю Вас, сестра Мария!»
Он счастливый человек, раз у него есть друг, плачущий вместе с ним.
Я счастливый человек, раз у меня осталось желание плакать за него.
Время нашего счастья…
Я предлагаю читателям пережить это время вместе.
Ночь Страстного четверга 2010 года
Кон Джиён
Отче! Прости им, ибо не знают, что делают!
Приговоренный к смертной казни тридцатитрехлетний Иисус
Итак, начну свой рассказ. Рассказ об убийстве. А еще об истории одной семьи, будни которой складывались из криков и воплей, побоев и проклятий, – весь этот хаос не мог не привести к краху. Также это рассказ про меня – жалкого человека, который ни в коем разе не считал себя таковым. В тот день погибли две женщины и одна девушка. Я свято верил, что жизнь одной из них не стоит ломаного гроша, а значит, она достойна смерти. Мне казалось, богатство для нее – то же самое, что жалкий червь, укутанный в шелка. Я думал, в нашем жестоком мире, где не существует справедливости, будет очень даже правильно потратить ее деньги на доброе дело.
Другая женщина ничего за душой не имела, ничего не могла назвать своим. И вот она, у которой всю жизнь отнимали последнее, – умирала. Если бы нашлось три миллиона вон, ее можно было спасти. Однако тогда у меня не было возможности достать столь крупную сумму, и каждый день приближал ее к смерти. И хотя я не знал, существует ли на самом деле Бог, и не помнил, когда в последний раз смотрел на небо, но все же искренне надеялся, что там, на Небесах, меня поймут, и свято верил, что творю справедливость. Ту самую справедливость…
Глава 1
К вечеру снежная морось сменилась дождем. Сизоватая дымка окутала улицы, потяжелевший от влаги горизонт размывал границу между небом и землей. Стрелки часов перевалили за пять. Я накинула пальто и вышла из дома. Машины на стоянке, словно могилы-истуканы, хранили безмолвие, а через дорогу в окнах стали загораться желтые огни, напоминая недосягаемые звезды. Оголенные деревья – они уже давно сбросили последние листья – отделяли многоэтажки недорогого квартала от небоскребов с противоположной стороны, будто заграждение из колючей проволоки. Вместо того чтобы сесть в машину, я застыла, отрешенно глядя наверх. Громады домов неуклюже закрывали белесо-серое небо; в тусклом полумраке высотки напоминали правильный прямоугольник крепости без единого намека на повреждение. Зимняя изморось капала на холодную улицу.
Я забралась в машину. Дождик в свете фар мерещился мелкой ледяной стружкой от пинсу[1]. В этот сумрачный вечер казалось, что дождевые капли падают лишь в лучах яркого света, струившегося от фонарей и переливчатых огней витрин. Ведь в темноте ничего не видно, и мы совершенно не представляем, что именно на нас капает.
Доктор Ро сообщил по телефону, что тетю Монику вновь госпитализировали в тяжелом состоянии, и на этот раз ситуация практически безнадежная, так что следует приготовиться к худшему. Похоже, мне предстоит расстаться с еще одним человеком. Я завела двигатель, и перед моими глазами вновь всплыло лицо. На фоне очков в черной роговой оправе еще более бледная, будто выцветшая кожа, алые губы, присущие молодости, и маленькая ямочка, которая появлялась лишь на одной щеке, когда он застенчиво улыбался… Если честно, я не хотела о нем вспоминать. Я провела множество бессонных ночей, пытаясь его забыть. И дней, когда только крепкая выпивка помогала мне отключиться… Были и сизые рассветы, когда я просыпалась от жутких видений и ощущения, что мое горло сжимается от удушья. Я зарывалась лицом в подушку и ждала слез, но время шло, а у меня вырывались лишь нечленораздельные стоны. А когда я подначивала себя: «Ну что же, пусть… я буду помнить… давай, вспомни, вспомни все, до мельчайших подробностей!» – я пьянела и замертво валилась на диван.
Каждое утро после его смерти моя первая мысль при пробуждении была о том, что мир никогда не станет прежним. Всё снова превратилось в хаос и казалось запутанным, как и до той судьбоносной встречи. Тем не менее после нашего знакомства я поняла, что больше никогда не решусь покинуть этот свет по доброй воле. Для меня это знание стало его прощальным подарком и одновременно наказанием.
В мире много вещей, которые в темноте мы не замечаем, так же, как морось, отчетливо видневшуюся в свете фар. И то, что мы не видим их, не значит, что они не существуют. Благодаря ему я смогла разогнать мрак в своем сердце, и это помогло разобраться, что за темная сущность дышала во мне смертью. Без него я так и не обратила бы внимания на очень многое и жила бы в уверенности, что всюду всепоглощающая тьма, хотя на самом деле это был свет! А в реальности этот свет был таким ярким, что он просто слепил меня. Благодаря Юнсу я осознала: когда мы любим по-настоящему, всем сердцем, то становимся причастны к Божьей Славе. И пускай его больше нет рядом, я благодарна Создателю за это знакомство.
Машина неслась под дождем по темной улице. Дорога была забита хлынувшими со всех сторон автомобилями. Можно было не торопиться. Все куда-то едут, куда-то спешат; ведь неважно куда, но нам обязательно нужно двигаться. Я подумала: знают ли они, куда так спешат? В тот год машин почти не было, и даже неоновые вывески будто затаили дыхание. Внезапно в белесоватой от дождя дымке, в смешении облаков и тумана, над мчащимися автомобилями заалело солнце светофора. Все мгновенно затормозили. Я тоже остановилась.
Ты спросила про мои родные места. А были ли они?
– Если предположить, что родиной называют место, где ты родился, то это Янпхён в провинции Кёнги, – ответил я и ждал следующего вопроса. Однако ты промолчала. – Это был бедный поселок, – добавил я. – За перевалом – водохранилище, в нашем доме всегда было холодно… – Больше ничего ответить не мог.
– Все нормально. Если не хочешь, можешь не говорить… – произнесла ты.
Не то чтобы я не хотел, просто не мог. Когда я предавался воспоминаниям, рот, казалось, забивался черным сгустком крови. С моим младшим братом Ынсу мы часто грелись на солнышке у водохранилища. Как-то раз соседка отхлестала брата за то, что он пронес мимо рта несколько рисинок, когда его угостили ужином. В отместку я, вооружившись жердью от чиге[2] и улучив момент, когда взрослые были на работе, побил соседских детей так, что у них кровь носом пошла. С тех пор мы всегда были одни. Иногда от сердобольных людей нам перепадал замерзший ком риса, и мы, боясь разбудить заснувшего после попойки отца, забирались в чужой сарай и там вгрызались в ледяную еду. А на водохранилище ярко светило солнце, и, если нам везло, мы разживались рамёном[3] у городских из Сеула, которые приезжали порыбачить. В самые удачные дни мы бегали за папиросами до лавки в пяти ли[4] от водохранилища и в награду получали несколько монеток. Только спустя годы я осознал, что мы всё то время ждали нашу мать, ушедшую из дома. И пускай она запомнилась нам вся в синяках, с опухшим от побоев лицом, я понял, что мы ждали ее любую. Лишь бы она вернулась и убила отца, спасла нас от монстра, который вновь и вновь после пьянки засыпал в ледяной комнате, а проснувшись, хватался за розги. В общем, первое мое воспоминание было связано с желанием убийства. А еще – с чувством ожидания, что где-то далеко есть мама. Пускай тогда мы не знали, чего именно ждем, это чувство сопровождало все наше детство. Тогда мне было лет семь, наверное…
Глава 2
В нашем семействе мы с тетей Моникой были чужими, будто бы отщепенцами. Или приблудными… И хотя разница у нас почти в сорок лет, мы во многом походили друг на друга, словно близнецы. В детстве мать часто говорила: «Надо же, ну вылитая тетя!» И это, очевидно, не было похвалой. Как бы ни был мал ребенок, он понимает, положительно или отрицательно упоминают кого бы то ни было. Мне было неясно, почему мать недолюбливала тетю, ведь они были достаточно близки. Вот и вопрос, что возникло первым: моя враждебность к матери или решение во всем походить на тетю…
Я отличалась недюжинным упрямством и накаляла домашнюю атмосферу. Само собой, меня избегали, я же в ответ обрушивала на всех ругательства и колкости, пытаясь «расцарапать» умиротворенные физиономии родни, чем приводила их в полнейшее замешательство, а затем, словно жалея о поступке, начинала дико хохотать. Однако смех был не от чувства триумфа, которое испытывают первооткрыватели, попав на неосвоенную землю. Он больше напоминал открытие застарелой раны, которая, если задеть, тотчас обнажится, или же язвы, которая вроде бы не болит, но без конца кровит. Можно сравнить это с печальной песней солдат, поднявших мятеж, но по злой иронии судьбы разбитых в пух и прах.
Хотя отличий у нас с тетей тоже немало. Она больше молится за наших родных и никогда не пользуется их материальной помощью в своих интересах.
Я же была самой настоящей оторвой. Я жила для себя и под предлогом любви или дружбы подпускала людей, но не ради них, а ради самой себя… И так, живя в свое удовольствие, я и умереть хотела только лишь ради себя любимой! Я была поклонницей удовольствий и даже не догадывалась, что потеряла себя, стала рабом эмоций, под влиянием которых с завидным постоянством набрасывалась с пинками на крепкие стены нашей сплоченной семьи. Напиваясь, плясала всю ночь напролет и горланила песни. Я не замечала, что подобное времяпровождение день за днем разрушало меня, но даже если бы обратила внимание, то не захотела бы остановиться. Я жаждала саморазрушения. Жаждала, чтобы весь мир крутился вокруг меня. Я напивалась до чертиков, поскольку не знала, кто я и чего хочу на самом деле. Я никогда не произносила этого вслух, но, наверное, если бы к моему сердцу тогда приставили стетоскоп, оттуда послышалось бы: «Ну почему солнце не крутится вокруг меня?! Почему вы не рядом, когда мне одиноко? Почему сволочи, которых я ненавижу, победно шагают по этой жизни?! Отчего этот мир издевается надо мной, не желая посодействовать моему счастью!?»
Когда я пошел в школу, мой младший брат Ынсу начал каждое утро ходить туда за мной. Внутрь он зайти не мог, поэтому сидел на корточках на углу у школьной ограды и ждал, когда закончатся уроки. Ынсу не был похож на меня. Я, если кто-то пытался меня обидеть, бросался за ним, впивался зубами в руку, но, когда на него налетали мальчишки, он не хватался за первую попавшуюся палку, чтобы дать противникам достойный отпор. Участь Ынсу, как и судьба нашей горемычной матери, состояла в том, чтобы безропотно, давясь слезами, сносить побои, воспринимая их как неизбежность. Выбегая из школы после уроков, я видел, как он сидит под изгородью, скорчившись и трясясь, с посиневшими от холода губами. Иногда я заставал его перепачканным кровью из разбитого носа, а бывало, в слезах, с голой пиписькой, так как ребята раздели брата догола, отняв всю его одежду.
Когда в школе я получал свой обеденный паек, я не съедал его до последней крошки, как это делали остальные, а лишь сглатывал слюну, ведь булочка из кукурузной муки была для нас единственной едой за весь день.
Позднее я часто задумывался: а любил ли я по-настоящему своего маленького Ынсу? До сих пор не знаю. Единственное, чего мне хотелось, – чтобы он был счастлив. Сейчас то время, когда мы шли с ним домой и отщипывали по кусочку от одной кукурузной булочки, кажется мне самым счастливым периодом в нашей жизни.
В тот день шел дождь. Наступила весна, но погода была промозглая: чистое с утра небо вдруг потемнело, резко обрушился сильный ливень. Я не слушал учителя и смотрел в окно – Ынсу негде было укрыться от дождя. Мне то и дело виделось, как он, словно забытый в пустом гнезде голубок, сидит под беспощадными струями воды с опухшими от слез глазами… Поэтому, едва закончился первый урок, я опрометью бросился к воротам школы. Ынсу увидел, что я вышел гораздо раньше положенного, и широко заулыбался. Дождь хлестал его по лицу, а он чуть ли не прыгал от радости. Я же пришел в ярость. Естественно, ни у кого из нас не было зонта, и моя одежда тоже начала промокать.
– Иди домой!
– Не пойду…
– Я сказал, иди домой!
– Не пойду!
У меня на душе скребли кошки – приходилось отправлять брата домой, где пьяный отец, проснувшись, начнет колошматить его первым, что попадется под руку…
Однако ливень был слишком сильным, и я схватил упирающегося Ынсу за шиворот и поволок в сторону дома. На развилке оставил его и повернул в школу, однако он потащился следом. Я снова схватил его и потащил обратно, после чего бегом бросился к школе, но брат неотступно ходил за мной. Я подскочил и ринулся на него с кулаками. Ынсу же, дурачок, упавший с планеты «смирение», где не ведают, что такое неповиновение, с покорностью сносил мои удары, крепко сжимая в ручонках полу моей рубахи. Я же словно сорвался с цепи и колотил его куда ни попадя. Кровь из разбитого носа смешалась с дождевой водой и пропитала мою одежду.
– Слушай меня внимательно! Если ты сейчас же не пойдешь домой, то я оставлю тебя одного и убегу! Иди и не возвращайся!
После этих слов ревущий Ынсу мгновенно умолк. Бессильно отпустил мою рубаху. Сказанное для него было хуже объявления смертного приговора. Он с упреком взглянул на меня и повернул к дому. Это был последний раз, когда мы смотрели друг другу в глаза; когда Ынсу мог четко видеть мой силуэт.
Глава 3
Начну свой рассказ с начала зимы 1996 года.
Тогда я лежала в больничной палате. Меня обнаружили после того, как я пыталась покончить с собой, добавив в виски смертельную дозу снотворного. Называли меня пациенткой с неудавшейся попыткой суицида. Когда я открыла глаза, за окном шел дождь. Листья, еще оставшиеся на платане за больничным окном, с шелестом падали на землю. Небо хмурилось, поэтому невозможно было определить, который час. Мне вспомнились слова дяди: «Выплакаться бы тебе…»
Он сильно постарел. В иной раз я бы поддела его: «Что это с вашей головой, волосы на макушке поредели до безобразия… как у старого деда!» И спросила: «Покурить-то можно, раз живая осталась?» – после чего расхохоталась бы прямо в его растерянное лицо. При посещении, увидев, что я не собираюсь отвечать на вопросы, он пристыдил меня: «Мать еще не оправилась, а ты такое вытворяешь?!» Что с него возьмешь… Он ведь всегда был правильным – настоящий пример для подражания. «Вы и вправду так переживаете за маму? Так сильно ее любите, что беспокоитесь?» – спросила я, и только после этого он произнес с улыбкой:
– Выплакаться бы тебе…
В улыбке его на самом деле сквозила печаль, а на лице читалась невыразимая жалость. Меня это злило.
Кто-то постучал в дверь палаты. Я не ответила.
Несколько дней назад меня навещала мать – прошел месяц после ее операции по удалению раковой опухоли. А я устроила погром и расколотила капельницу, после чего из родственников ко мне никто не приходил. Не вызывало сомнений, что для родни, как и раньше, я представляла угрозу гораздо серьезнее, чем сантиметровая опухоль в груди матери. На меня же жизнь, за которую она так судорожно цеплялась, наводила лишь скуку. Ни одна из нас никогда глубоко не задумывалась, было ли у нее достойное существование, но я истошно тогда завопила прямо ей в лицо: «Ты жить хочешь, а я – умереть!» Оправдывает меня лишь то, что мать успела уже бросить набившие оскомину слова: «И зачем только тебя родила!» Если бы не это, я бы не стала устраивать такое… А больше всего во всей ситуации бесило, насколько мы с ней похожи!
Решив, что пришла безотказная жена младшего брата и, как всегда, принесла что-то вроде каши из морских ушек или другую снедь, я прикрыла глаза. Дверь отворилась, в палату вошли… Как-то непохоже на младшую сноху… В прошлом актриса, она окликнула бы меня своим чуть гнусавым голосом: «Милая! Не спишь?» Как будто задол-жав семейству Мунов, она считала себя обязанной браться за самые неприятные дела нашего дома. Поэтому без лишних разговоров она стала бы освобождать мусорную корзину или загромыхала бы вазой на подоконнике, меняя цветы на свежие… Однако было тихо. Я поняла, что пришла тетя Моника. По запаху… что же это был за запах? В детстве, когда она приходила в гости, я зарывалась лицом в подол ее черного монашеского одеяния и вдыхала необычный аромат. Тетя спрашивала: «Что? От меня, наверно, карболкой пахнет?» «Не-а, это не карболка… От тебя пахнет монастырем… свечками…» – так, кажется, отвечала я. Поговаривали, что тетя, поработав после окончания мединститута медсестрой в университетской больнице, в один прекрасный день все бросила и ушла в монастырь…
Я чуть приоткрыла веки, сделав вид, что проснулась. Тетя села рядышком с постелью и молча оглядела меня. С тех пор как мы виделись в последний раз, прошло почти десять лет: это было перед тем, как я уехала учиться во Францию. В тот день я пела на сцене (по словам матери, бесстыдно трясла задницей в короткой юбке), а тетя на минутку забежала за кулисы в гримерную.
Из-под черного одеяния выбивались поседевшие пряди, сидела она прямо, расправив плечи, однако все равно слегка сутулилась – так выглядит стойкая старость. Хотя обычно по внешнему виду возраст монахини определить трудно. На мгновение я задумалась о человеческой печальной участи: нам суждено жить, стареть и умирать. Во взгляде тети, устремленном на меня, читалась необъяснимая усталость. В ее маленьких, утопающих в морщинках глазах виделось то ли беспокойство, то ли материнская теплота, которой меня ни разу не одарила настоящая мать. А еще было нечто неизменное – по крайней мере с тех пор, как я ее знаю, – напоминавшее взгляд, которым мать одаривает только что рожденного ребенка, сочетающий в себе любопытство и какое-то безграничное умиление.
– Сильно постарела? – спросила я, улыбнувшись, ведь тетя продолжала хранить молчание.
– Мне кажется, не настолько, чтобы умирать…
– А я и не собиралась, говорю же, не хотела я сводить счеты с жизнью… Просто никак не могла уснуть, хотя выпила. Вот и приняла снотворное, только и всего… До того опьянела, что не рассчитала количество таблеток, поэтому просто закинула, сколько влезло в горсть, – так и заварилась вся эта каша… В прошлый раз мать возмущалась, что я ей порчу кровь своими выходками, что ежели собралась умирать, так нечего устраивать спектаклей. Поэтому сейчас я чувствую себя в роли трудного подростка с неудачной попыткой самоубийства… Ты же знаешь, в нашем доме слово матери – закон: если она втемяшила себе что-то, так тому и быть… Как это все достало! Для нее я всегда была дефектной, пусть мне и за тридцать перевалило…
Я не собиралась говорить ничего подобного, но слова сами вылетели мгновенно. Встретив тетю спустя столько лет, я, как малое дитя, захотела поплакаться ей в жилетку. Она же, словно понимая, что со мной происходит, поправила одеяло и взяла за руку, будто маленькую девочку. Я почувствовала трепет, который испытывает взрослый человек, когда с ним возятся, как с ребенком. От прикосновения маленькой и жесткой ладони тети по всему телу разливалось тепло. Давно же я не ощущала человеческого тепла…
– Правда, тетя! У меня нет сил умирать. Ты же знаешь, какой я человек… нет ни сильного желания, ни смелости для такого… Поэтому прошу тебя, ради бога, не говори – раз я так стремлюсь к смерти, то лучше бы стремилась к жизни или посещениям храма… И не молись за меня! Для Бога я тоже лишняя головная боль.
Она хотела возразить, но промолчала. Скорее всего, мать ей пожаловалась: «Ты только посмотри на эту Юджон! Уже и дату помолвки назначили, а теперь она заявляет, что свадьбы не будет… По словам сына, его знакомый с отличием закончил юридический институт, чем не кандидатура! Не урод, выглядит солидно и человек вроде неплохой, образованный… Разве что происхождение не то, так и ей уже за тридцать, где она в свои годы такого жениха найдет?! Ты уж сходи к ней! Она всегда лишь к тебе и прислушивалась… У меня уже никаких нервов не хватает. Прямо не верится, что это я ее родила… Отец все скакал над ней, надышаться не мог, мол, единственная дочка, вот и испортил напрочь… Оба старших сына закончили престижные университеты, а она подалась невесть куда… В семье все хорошо учились, а она не пойми в кого уродилась…» Сто к одному, что именно так мать плакалась тете…
– Это совсем не связано с тем человеком… Я с самого начала не хотела свадьбы. И он, скорее всего, тоже… Найдет другую, с положением и деньгами… Там наверняка невесты помоложе да побогаче в очередь выстроились. Он сам обмолвился, что свахи не оставляют его в покое.
Тетя продолжала хранить молчание. От резкого порыва ветра задребезжали оконные стекла – видно, погода не на шутку разыгралась. Листья платана за окном продолжали, шелестя, падать на землю. Я подумала, как было бы хорошо, если бы человек, как и дерево, раз в году засыпал мертвым сном, а потом пробуждался. Как было бы здорово начинать все заново, выпуская первые нежно-зеленые листочки и нежно-розовые цветы!
– Знаешь, ко мне приходила женщина, с которой он сожительствовал три года. Рассказала, что два раза делала аборт… Ты же представляешь, как это обычно бывает?.. Подкидывала ему деньги на карманные расходы, книги покупала, готовила… А потом, в день сдачи юридического госэкзамена, за вкусным ужином из свиных ребрышек, видимо, собралась с духом и решила расставить все точки над «и»… А этот засранец возьми да и откажись, соблазнился на более лакомый кусочек – младшую сестру главного прокурора. Наверняка и на наследство мое рассчитывал… Раскатал губу на авторитет нашего семейства, в котором все как один оканчиваются на – ор: «доктОР», «прокурОР», «профессОР». Тетя! Ты же знаешь, что я больше всего ненавижу… Эту всю банальщину! Если бы этот засранец бросил свою пассию не по таким избитым причинам и собрался жениться на мне не со столь прозаическими целями – я бы, видит бог, закрыла глаза и пошла до конца… Честное слово! Однако слишком меня взбесило то, что он опустился до такой пошлости… Ты, тетя, должна поверить, поскольку я об этом никому не говорила. Ни мать, ни братья, ни остальная родня – никто не знает! Они думают, это моя очередная придурь… Ну и пусть… Лишний раз не будем мозолить глаза друг другу.
Тогда я не понимала, почему в больничной палате говорила это тете. И не осознавала, почему не сообщила родне настоящую причину расторжения помолвки.
«Мисс Мун Юджон? Мне бы хотелось с вами встретиться…» – послышался в трубке дрожащий женский голос…
У нее было симпатичное лицо, однако кожа на руках, сжимавших кофейную чашку, была на удивление загрубевшей и словно не соответствовала ей, как будто эти части тела служили двум разным людям. Мягкие черты лица и выразительные глаза производили приятное впечатление, но чересчур белая кожа добавляла ей мертвенной бледности.
– Он был для меня всем…
Как только она произнесла это, все в моей душе замерло… Как один человек другому, более того, женщина о мужчине, может заявить, что кто-то является для нее всем?! Как можно признаться так открыто и решительно тому, кого впервые видишь?! Не осознавая, я почувствовала к ней ревность, но не из-за мужчины, а ту, которую испытывала ко всем, у кого были твердые убеждения и кто был уверен в своей правоте. Как я могу поставить на карту жизнь, если даже такое выглядит наивно, смешно и может закончиться трагикомедией?! Я не встречала человека, ради которого могла бы пойти на все…
Видно было, что ей нелегко дались эти слова, но она не плакала. Наверное потому, что все еще не могла смириться со сложившимся положением и до сих пор тешила себя глупой надеждой. Я почувствовала, что, осознай она, насколько ее ожидания нелепы, да и, по правде говоря, не имеют оснований, она бы не просто упала духом, она, скорее всего, рассталась бы с жизнью… В ее глазах читалась непоколебимая решимость идти до конца.
Рассказав сейчас об этой встрече тете, я задумалась, почему же скрыла все от домашних…
Писаным красавцем назвать его было нельзя. Рост тоже невысок. У него был квадратный подбородок, а неровный цвет лица говорил, что его детство не было таким уж беззаботным. Никаких возвышенных чувств я к нему не испытывала, да и не ожидала от этой встречи хоть какого-то трепета. Я была уже достаточно взрослой и понимала: брак – сделка, если ты решилась на свадьбу, а не на романтичные гуляния под луной.
– У вас было много девушек? – спросила я.
Брат познакомил нас, и мы договорились встретиться на первом свидании.
Он слегка склонил голову и застенчиво улыбнулся. Я тогда почувствовала легкое удовлетворение, словно в мое единоличное пользование попала никем не тронутая земля. Для меня не было загадкой, почему мужчины стремятся встретить девственницу, поэтому сделала вид, что меня все устраивает. А еще я знала, что, если бы я повелась на это и вышла замуж за такого подающего надежды дурачка, который ничем, кроме учебы, не интересовался, мои родные больше не копались бы в моем прошлом и вручили бы пропуск с позолоченной печатью и право на подданство в их королевстве, которое они так скрупулезно строили. Подобный результат меня вполне устраивал. Вот такой у меня был расчет. Видно, и мне не чуждо банальное мышление – с его жаждой удовольствий, распущенностью, вседозволенностью и желанием пуститься во все тяжкие…
– Один раз довелось испытать любовь на расстоянии. После двух свиданий я ей, видимо, наскучил. Впоследствии из-за экзаменов было не до того… Я считаю очень важным подходить ко всему ответственно… Думаю, мужчина для начала должен крепко встать на ноги, чтобы прокормить семью. Мне кажется, что и женитьба, и любовь должны быть после того, как обретешь самостоятельность…
Он не скрывал желания произвести приятное впечатление. Признаюсь, это казалось даже милым.
– По-вашему выходит, хотя вам и перевалило за тридцать, сейчас вы впервые пойдете на свидание, впервые будете целоваться и впервые поведете меня в отель? Ну и мастак же вы лапшу на уши вешать… – поддела я, прыснув от смеха.
Он был ошарашен, словно ни разу в жизни не встречал таких как я. Одновременно в его взгляде можно было прочитать интерес и даже симпатию к столь нахальным особам. Такие эмоции обычно испытываешь к совершенно незнакомому, диковинному, но приятному объекту. Однако к интересу примешивалась и тоска – рано или поздно придется отпустить дивную красотку. Ведь именно так обычно происходит, когда загорелый, остриженный под ежик деревенщина в растянутой майке встречается с не ведающей смущения дерзкой сеульской гордячкой в туфлях с черным бантиком и белых кружевных носках. Скорее всего, это было недалеко от истины…
Тогда я действительно раздумывала о том, чтобы попробовать встать – хотя бы одной ногой – на дорогу его жизни. У меня возник соблазн использовать его в качестве крепкой опоры, которая положит конец моему сумасбродству. Как будто после слякотного двора снять грязные ботинки и, наступив на гладкий и ровный камень, одним махом вскочить на блестящий, чистый и сухой деревянный настил мару[5]. На что-то крепкое и надежное, как стрела, у которой есть верная цель… Признаться, все это манило, мне хотелось равновесия… Однако его улыбка выглядела чересчур робко. В глубине души я заподозрила притворство, но мне все равно хотелось верить его словам. Хотя нет, скорее всего, не так… Вероятно, я так хотела поверить, что изо всех сил пыталась убедить себя: «Ну давай же, в последний раз, в самый последний раз попробуй довериться…» Сказать по правде, я не была столь консервативна, чтобы считать проблемой его прошлые похождения, к тому же его «послужной список» никак не мог нанести мне ущерба, ведь вряд ли меня можно было назвать чистой и непорочной. Во время учебы во Франции у меня была связь с несколькими парнями, с каждым чуть более месяца. Так что я не имела ни малейшего повода корить его за то, что он бросил свою подругу, чьи разбитые костяшки на загрубелых руках совсем не гармонировали с ее лицом. Нет его вины и в том, что он собирается жениться на девушке, учившейся за границей так называемому искусству, по возвращении открывшей благодаря маминым связям персональную выставку и получившей место штатного преподавателя в одном из сеульских университетов, который финансировало наше семейство. На мой взгляд, его поведение нельзя было назвать странным или аморальным. В моем окружении все относились к браку подобным образом. Однако я не могла выйти за него.
Я в очередной раз убедилась в том, что не смогу пойти на этот шаг. Так же, как это было и с первым мужчиной, который наверняка запомнил меня рыдающей среди людского потока на перекрестке и кричавшей: «Уходи! Уходи и больше не появляйся в моей жизни!» Вместо: «Я так тебя люблю! Люблю больше всего на свете!»
Из-за разочарования, что опять не смогу заполучить подданство в королевстве, созданном моей семьей, я вновь стала напиваться до чертиков. Но не из-за той женщины. У несчастья всегда есть причина, а печаль возникает из-за несправедливости. Улицы переполнены несчастными людьми, бедными жертвами, и чья-то жалкая доля говорит лишь о том, что справедливость обошла его стороной. Если бы та женщина убила себя из-за его предательства – это всего лишь ее проблемы…
Если задуматься, обе мы мыслили весьма банально: нас объединяло желание встать на ноги, опираясь не на себя, а на мужчину.
– Я знаю… наша Юджон не та, кто умрет из-за ерунды, – сказала тетя и пригладила мне волосы.
– Тетя!..
– Что?
– Где ты так долго пропадала? После возвращения в Корею я несколько раз звонила в монастырь и никак не могла тебя застать.
– Да уж… Забегалась совсем… Прости. В качестве оправдания могу сказать: я думала, раз тебе перевалило за тридцать, то ты уже достаточно взрослая…
После ее извинений на душе заскребли кошки, ведь ей совершенно не за что было оправдываться. Напротив, это мне должно быть стыдно. За то, что даже после тридцати я все еще не взялась за ум. Однако, как всегда, я не могла это произнести. Слова вроде «прости», «спасибо» и «люблю» не могли слететь с моих губ в тот момент, когда они были жизненно необходимы; я бросала их только с сарказмом…
– Как ты постарела… До модели тебе, правда, и раньше было далеко, но прежде кожа на лице была упругой, а сейчас вся в морщинках… Совсем старушка.
Она засмеялась.
– С годами все стареют. На этом свете ничто не вечно… Когда-нибудь все мы… Умрем, – договорила она после значительной паузы, словно слово далось с трудом. – Так что не стоит торопиться… – сказала тетя Моника, вставая. После чего подошла к холодильнику, достала сок и выпила его. Видимо, ее мучила жажда – она опустошила всю баночку, вздохнула и посмотрела в окно. Я перевела взгляд: за стеклом перед моей кроватью виднелись беснующиеся на ветру ветви платана. «Ну давай же, сбрось! Сбрось их! Пусть летят на все четыре стороны…» – пронеслось в моей голове.
– Тетя… Я и не думала умирать! Просто было тоскливо и монотонно. Так все достало… Казалось, каждый новый день – лишь продолжение череды серых будней в унылом и пошлом мире. Вот так проживаешь бессмысленную вереницу дней, а потом, в итоге, как ты и сказала, умираешь. Мне хотелось всю свою жизнь выбросить на помойку! И крикнуть на весь свет: «Да, я – мусор! Я – неудачница! И абсолютно безнадежна!..»
Она пристально взглянула на меня. Как ни странно, я не разглядела никаких эмоций. Если честно, я всегда испытывала благоговейный страх перед таким отстраненным взглядом, и, как это обычно бывает, именно в этом страхе коренилось мое уважение к ней.
– Юджон! Послушай! Ты любила этого… как там… прокурора Кана? – осторожно спросила тетя.
Я прыснула.
– Этого деревенщину?
– Все же тебя это задело за живое…
Я промолчала.
– Может, ты передумаешь?
– Нет, я не смогла его простить… И еще, знаешь, я поняла, что это была не любовь. Ведь если любишь, сердце саднит от боли… А у меня не болело. Если любишь, желаешь счастья, пусть даже с другой… Однако я не испытывала ничего подобного. Не он был мне противен, но я себе, поскольку легко повелась на лживые декорации и доверилась… Мне было противно, что после пятнадцати лет бунтарства я вдруг захотела стать как все – как мои братья с их женами… И самое главное, мне было противно, потому что мое нежелание походить на других в конце концов меня подвело.
Тетя покачала головой.
– Раз так, ладно… Теперь послушай меня! Я виделась с твоим дядей. Он сказал, что это уже твоя третья попытка самоубийства… И что хорошо бы тебе месяц полежать в больнице, но я захотела сама все уладить. Твой дядя колебался, но согласился, убедившись, что я настроена столь серьезно. Правилами это не разрешено, однако он пошел на риск из доверия ко мне… Так что выбирай: будешь лежать здесь целый месяц, чтобы подлечить нервы, или поможешь мне в одном деле?
По ее тону я поняла, что разговор серьезный. И хотя здесь, в больничной палате племянницы, приходившей в себя после неудавшейся попытки суицида, моей семидесятилетней тете-монахине было совсем не до смеха, я фыркнула. Это был мой излюбленный прием выхода из затруднительного положения. Однако, вспомнив, как строго она упомянула мою третью попытку, я не могла не признать, что являюсь жертвой стереотипного поведения. Захотелось курить…
– Какой толк от такой непутевой женщины, как я? Люблю выпить, покурить и не прочь посквернословить… Чем порчу радужное настроение… Вот и все, на что я способна.
Тетя, будучи в курсе моих подвигов, на это заметила:
– Есть один мужчина, который желает с тобой встретиться. Он хочет услышать твою песню.
– Тетя! Эй! Сестра Моника! Я надеюсь, ты не собираешься погнать меня на ночную сцену?! Или в монастыре не хватает средств, и теперь решили воспользоваться услугами давно забытой певички и открыть кафе?..
Я театрально рассмеялась. Хоть и знала, что перегибаю палку, но привычка злорадствовать слишком во мне укоренилась. Будь я мастером перевоплощения, этот спектакль вполне мог обмануть доверчивого зрителя, которому игра показалась бы довольно естественной. Прежде тетя, пускай и была шокирована таким поведением, все же подыгрывала мне, но не сейчас.
– Один человек хочет услышать гимн, который ты пела, – медленно и с расстановкой проговорила она.
– Чего-чего? Гимн, говоришь?!
– Да, гимн.
Я усмехнулась. Идея звучала заманчиво…
Когда я пришел из школы, отец сидел и пожевывал рамён рядом со спящим Ынсу. Приглядевшись к брату, который лежал в углу среди кучи пустых бутылок из-под соджу, я заметил, что он весь горит. Я попытался разбудить его, но услышал лишь стон.
– Отец! Ынсу заболел. У него все тело горит.
Вместо ответа отец налил соджу[6] в железную кружку, выпил все залпом и уставился на меня налитыми кровью глазами.
Сейчас я думаю, что уже тогда его нельзя было назвать живым человеком… Ему было чуть больше тридцати лет… С самого рождения я не мог смотреть на него без ужаса и содрогания, однако, живя в аду, успел усвоить дьявольскую науку уловок и ухищрений.
– Я куплю соджу. У вас же закончилась… там, в лавке…
Человек, напоминающий скорее дикого зверя, громко отрыгнул и извлек бумажку в пятьсот вон из кармана штанов, засаленных от пота и мочи. Я помчался что было сил. Лишь одна мысль крутилась в голове – купить лекарство от простуды в маленькой бутылочке, которое пила мама. Ливень успел закончиться, и весь мир засиял весенними красками. Даже сейчас я не знаю, почему та нежно-зеленая, молодая листва так запала мне в душу. И теперь, спустя много лет, меня охватывает беспричинная тоска от вида невообразимых оттенков зелени, покрывавших горы весной. Сажавшие рисовую рассаду сельчане провожали меня безучастными взглядами. Я купил на все деньги лекарство от простуды для Ынсу и вернулся домой.
Когда отец увидел бутылек, в его взгляде сверкнула молния. Он вырвал из моих рук лекарство и бросился с кулаками. Кастрюля из-под лапши полетела на пол, а я, после того как он швырнул меня, схватив своими крепкими руками, – на мару. Если бы не Ынсу, я бы сбежал, как мать. Не знаю, где на этом свете я смог бы скрыться, но я сбежал бы. Каждый раз, когда опускались его кулачищи, у меня, казалось, из глаз сыпались искры. В конце концов я потерял сознание. А очнувшись, увидел, что соседская тетушка кормит Ынсу бульоном из соевой пасты. Она сказала, что дала брату целебное снадобье, приготовленное стариком из окрестной деревни. Пьяный отец спал мертвецким сном, а несколько соседей-односельчан вполголоса беспокойно переговаривались на мару.
Ынсу спал в убранной комнате под одеялом. Щеки его горели, а сквозь алые губы вырывались какие-то звуки. Я не желал слышать это, потому что тоже хотел позвать маму, хотел выпытать, почему она ушла, бросила нас одних. Миновало несколько ночей. Где-то на третий день я собирался в школу и подошел посмотреть, как Ынсу – температура спала. Его черные кудри взмокли от пота и прилипли к бледному лбу. Чуть погодя он открыл глаза и сказал:
– Брат! В доме полно дыма… все в дыму…
С тех пор Ынсу перестал видеть, его глаза могли различать лишь тусклый свет. Мой брат ослеп.
Глава 4
Я издалека увидела силуэт тети Моники – она выглядела сердито. Я опоздала почти на тридцать минут. Подъехав ко входу станции метро «Администрация Квачхона», я припарковалась, и тетя, держа в руках огромный узел, села в машину. День был промозглый, от ее черного одеяния повеяло холодом, как это бывает, когда приоткрываешь дверцу холодильника. Губы были синими.
– Да все из-за одежды… не знала, что лучше. Даже не предполагала, что придется побывать в тюрьме, а то прикупила бы какое-нибудь монашеское платье… Вот и опоздала, перебирая наряды… Я ж говорю, надо тебе разжиться мобильником… Сейчас и у буддийских, и у католических монахов даже машины есть… и тебе бы не помешало! – Я тараторила оправдательную речь. Тетя молчала. – Я подозревала, что так получится, поэтому предлагала забрать тебя из монастыря, но ты же сама заупрямилась… – Каждый раз, чувствуя себя виноватой, я пыталась переложить ответственность на других.
– Они всю неделю, считая дни, ждут меня! Им не разрешены другие личные встречи. А из-за тебя такие драгоценные тридцать минут пропали даром! Может, тебе…
Тетя замолчала в порыве гнева. Потом сглотнула и с расстановкой договорила:
– Те тридцать минут, что тебе не жалко выбросить на помойку, для них могут стать последними. Они проживают сегодняшний день, не зная, наступит ли завтра!.. Ты можешь это понять или нет?!
В негромком голосе чувствовались непоколебимость и надрыв. Слова о тридцати минутах, которые не жалко выбросить, покоробили меня. Хоть я и заявляла при каждом удобном случае, что живу напрасно, услышать это от другого человека было неприятно. Но, раз уж я опоздала, ничего не оставалось, как проглотить обиду. В любом случае сегодня первый раз, когда я поехала вместе с тетей. И не очень-то он задался. Выражение про помойку было моим, но тетя бросила его, скопировав мои интонации, и впервые сделала это настолько резко. Видно, годы берут свое, попыталась я себя успокоить.
Еще до отъезда во Францию я узнала, что ставшая монахиней тетя навещает заключенных. Это случилось, когда после маминого звонка с жалобами на нестерпимые головные боли по утрам к нам приехал старший брат – доктор по образованию. «А про тетю написали в статье!» – воскликнул он, разворачивая принесенную с собой газету. Если бы не он, мы бы и не узнали, что она прославилась настолько, чтобы про нее писали в газетах. Мать по обыкновению, в качестве утреннего приветствия, накричала на прислугу и уселась за стол. Брат продолжил: «Она, похоже, навещает приговоренных к смертной казни!» На что мать молниеносно отреагировала: «Вот это я понимаю! Раз смогла монашкой стать, конечно же, нужно идти на жертвы… Что говорить – великая женщина!.. Ты не мог бы записать меня к невропатологу в вашу больницу? Надо обследоваться…
Голова болит так, что можно сойти с ума… Вчера не сомкнула глаз… Лекарства, которые ты выписал в прошлый раз, уже не помогают. И после них макияж неровно ложится… Прямо беда, пачками пить вредные таблетки – здоровье портить, а бессонница меня старит – кожа никуда не годится…» Немногословный брат вновь слушал молча, а я, сидя возле матери, жевала сэндвич из очень полезного ржаного хлеба с колбасой и овощами. Мы взглянули друг на друга. «Мама, вы бы не переживали! Уже ведь несколько раз проверялись, и ничего страшного не обнаружили…» Оставалось удивляться его бесконечному терпению и участию в голосе… Я решила добавить: «Мама! Брат прав. Как же современная медицина сможет разобраться в твоей деликатно устроенной и суперчувствительной нервной системе?! Вот ничего и не остается таким утонченным натурам, как ты, кроме как смириться и терпеть…» Насколько я помню, то утро в конце концов опять завершилось мамиными воплями. Как каждый день. И когда она начала брюзжать, что пора прекратить изображать из себя никчемную певичку и отправиться с глаз долой учиться за границу, я с радостью ухватилась за эту идею. Интерес к жизни поп-дивы, которой я посвятила уже около года, постепенно угасал, к тому же появилась надежда, что я смогу наконец встречать утро тихо и мирно. Мне сильно надоело подстраиваться под ее настроение.
– Ну ладно, прости меня. Я виновата… Правда, прости…
Лучше было просто поднять белый флаг, чем продолжать оправдываться. Не знаю, почему мне это пришло в голову, но я вдруг испугалась, что тетя расплачется.
– Тетя, ты же не собираешься меня сейчас отвезти к этим… как там… смертникам? И уж тем более не будешь заставлять петь перед ними государственный гимн?
– К ним мы и едем. Если сможешь спеть, почему бы и нет? Что тебе мешает? Вместо того чтобы выбросить на помойку такой дар, уж лучше использовать его на доброе дело. На том перекрестке сверни налево, – сказала тетя Моника.
И снова прозвучала эта «помойка». Меня немного раздосадовало, что она всячески пытается поддеть меня, пользуется моими же словами, которые под влиянием эмоций вылетели в больничной палате. Я свернула налево и увидела указатель: «Сеульский следственный изолятор». Черт его знает, что лучше – сидеть в опостылевшей больнице брата перед молоденьким психиатром и отвечать на вопросы вроде «Так что же вас так вывело из себя?»; «Как вы думаете, почему в такие моменты вы начинаете заводиться?»; «А возникали ли у вас подобные мысли в детстве?» и тому подобное… Или же спеть государственный гимн? Извечная дилемма. Поэтому я утешилась мыслью: «Да ладно, будь что будет! Во всяком случае, тюрьма, по крайней мере, не так банальна, как больница».
Оставив удостоверения личности на проходной, мы прошли внутрь. За нами с грохотом захлопнулись первые железные двери с решетками. Мне стало жутковато от лязганья, гулко прокатившегося эхом в темноте холодных пустых коридоров. В следующие посещения я отметила, что температура здесь всегда на два – три градуса ниже, чем снаружи. И не только зимой, но даже летом, в самое пекло, теплее здесь не становилось. Кто-то правильно заметил, что это место – царство тьмы.
Мы миновали еще одну дверь; снова послышалось лязганье металлического замка. В огромном внутреннем дворе не было ни души, но за ним несколько заключенных в зеленой одежде тянули тележку. В отдалении под белой гипсовой статуей Девы Марии стояла небольшая елка, украшенная простенькой разноцветной гирляндой, скромно мигающей в лучах зимнего солнца. Именно сейчас я впервые осознала близость Рождества и вспомнила сочельник в Париже: утопающие в огнях Елисейские Поля; девочек, торговавших цветами; красное вино; тающее во рту и заставляющее позабыть обо всем на свете восхитительно нежное фуа-гра и пирушки, неизменно заканчивающиеся галдежом и объятиями с унитазом… Через несколько поворотов мы наконец оказались в маленькой комнатке. Помещение было чуть больше двух пхёнов[7], на стене висел крест, а рядом – картина Рембрандта «Блудный сын». В комнате ничего лишнего: небольшой столик и пять – шесть стульев. Тетя опустила принесенный с собой узел и включила чайник. Вскоре раздался стук. В крохотном зарешеченном окошке на двери промелькнула зеленоватая роба.
– Ну заходи же скорей, не стесняйся!.. Значит, ты и есть Юнсу!
Тетя Моника приблизилась к человеку, которого завел охранник, и крепко его обняла.
Смертник… Он был смертником. На робе, слева на груди, была красная именная нашивка. Я ошиблась – не именная. Там было выбито черным шрифтом: «Сеул 3987».
Похоже, ему весьма не по душе пришлись тетины объятия. Ростом он был примерно метр семьдесят пять, с бледным лицом; сквозь очки в роговой оправе пронзительно смотрели резко очерченные миндалевидные глаза. Правда, угольно-черные мягкие кудри, обрамляющие белый широкий лоб, в целом смягчали колкость взгляда… Как ни странно, его внешность напоминала мне молодых профессоров в университете, возмущенно восклицавших: «Что это за фонд, черт подери!» Или скептически настроенные физиономии молодых преподавателей, слушавших напыщенный вздор председателя правления, который нес на ученом совете чушь, способную рассмешить кого угодно: «В нынешнем году наша цель – прежде всего наладить обучающий процесс для взращивания высококвалифицированных кадров. Именно поэтому нашим фондом был создан институт!» На какую-то долю секунды мне представилось, что его красная нашивка обозначает принадлежность к органам госбезопасности. Возможно, подобные ассоциации в моей голове пробудил брошенный им мимоходом проницательный взгляд. Он был похож на Че Гевару с футболок парижской молодежи, только корейского. Этакая личность, которая не боится смерти. В нем чувствовалось что-то звериное, присущее людям, уже в детстве давшим клятву умереть в одиночестве в забытой богом пустыне. И эта неистовость очень даже шла ему. Если честно, он был совсем не похож на преступника и не соответствовал моим представлениям о них. А поскольку я любительница всего неординарного, разбивающего вдребезги стереотипы и избитые истины, этот тип стал мне любопытен.
– Ну присаживайся, присаживайся… Я сестра Моника, писала тебе несколько раз.
Он неловко опустился на стул. Только теперь я заметила на его руках необычные кандалы: они были прикреплены к кольцу на толстом кожаном ремне узника. Точное название этого приспособления я узнала позже, однако от его вида у меня внезапно екнуло сердце.
– Офицер Ли, я тут булочек принесла… может… может, вы снимите эти наручники, чтобы он смог поесть? – нерешительно заикнулась тетя.
Надзиратель лишь смущенно улыбнулся, давая понять, что выполнить просьбу будет затруднительно. Весь его вид показывал: «Я законопослушный человек». Тетя не упорствовала и достала булочки с кремом, с маслом, со сладкой фасолью… Налила в стакан кипятка из чайника и, размешав кофе, поставила перед смертником. А булочку вложила в его закованные руки. Некоторое время он молча держал ее и отрешенно рассматривал. Он явно был в недоумении: «Неужели я и вправду могу это съесть?» – и одновременно испытывал тоску, которая появляется при виде еды, по которой сильно скучал. Наконец решившись, он с трудом откусил кусочек. В этих наручниках, чтобы положить что-то в рот, ему пришлось наклониться до пояса, отчего он стал походить на улитку. И так он, понемногу откусывая, жевал эту булку, уставившись отсутствующим взглядом в стол прямо перед собой.
– Вот и молодец, кушай на здоровье. Кофе запивай, чего всухомятку-то? Ты подскажи, что любишь, я принесу в следующий раз. Можешь относиться ко мне как к матери. У меня нет детей. Я прихожу сюда уже тридцать лет… так что вы для меня, считай, родные…
После слов о том, что у нее нет детей, заключенный улыбнулся, будто через силу. Наверное, только я уловила, что в его улыбке проскользнула насмешка. Если для меня смех был способом улаживания конфликтных ситуаций, то ему он, судя по всему, служил оружием. В любом случае, это лишь мои впечатления, но тогда, в первую встречу, я почему-то подумала, что мы с ним одного поля ягоды. Интуиция меня почти никогда не подводила, однако эта схожесть настораживала, так как передо мной сидел не обычный человек, а преступник, приговоренный к смерти.
Утром я не успела позавтракать из-за спешки, поэтому тоже была бы не прочь перекусить, но расхотела, наблюдая за тем, как он, став похожим на свернувшегося в клубок бурундука, с трудом подносит булку ко рту и откусывает. На мгновение мне даже стало жалко его, и я задалась вопросом, как он здесь оказался… Тетя Моника взяла по булочке и предложила нам с надзирателем Ли, а себе налила кофе.
– Ну как ты? Привык немного?
На минуту он замер с набитым ртом. Между четверкой, сидящей в комнате, освещенной косыми зимними лучами солнца, повисла напряженная тишина. Он медленно дожевал булку.
– Я получил ваши письма. Спасибо… Я не хотел приходить сюда сегодня… Но подумал, надо сказать это лично. Офицер Ли говорил, что вы уже тридцать лет приезжаете сюда и в снег, и в дождь, с пересадками на метро и автобусе… Только поэтому я здесь.
Он поднял голову. Лицо выглядело спокойным. Однако, если присмотреться, было ясно, что это просто одна из его застывших масок.
– Вот как…
– Пожалуйста, не приходите больше! Письма я тоже больше читать не стану. Не заслуживаю я этого. Оставьте все как есть… Просто дайте мне… умереть…
Последнее слово он проговорил, стиснув зубы. Было заметно, что он изо всей силы сжал челюсти. Неожиданная реакция! Взгляд его миндалевидных глаз угрожающе сверкнул. На какую-то долю секунды меня пронзила мысль: что, если он ни с того ни с сего здесь, на этом самом месте, схватит меня за шею и возьмет в заложники. Я наконец вспомнила – его имя мелькало в газетах. Совершив убийство, он пытался сбежать и, спрятавшись в квартире, захватил в заложники мать с ребенком, угрожал им ножом и устроил там порядочную заварушку… Постепенно начали всплывать смутные воспоминания. Я взглянула на тетю и надзирателя. Вид крепких наручников на запястьях узника несколько уменьшил закравшийся страх.
– Юнсу!.. Мне уже семьдесят… Ты же не против, если я буду звать тебя по имени? – Тетя говорила спокойно, без растерянности. – А кто из нас без греха? Если разобраться, нет ни одного достойного… Я просто хотела бы время от времени видеться с тобой. Приходить, вместе угощаться чем-нибудь вкусным, рассказывать последние новости… Это все, что я имела в виду.
– Я… – Он перебил ее на полуслове. Его приглушенный голос выдал, что ему непросто даются эти слова, он решился на них после долгого обдумывания. – У меня не осталось ни сил, ни желания жить. Если вам охота заниматься благотворительностью, то лучше потратьте энергию на опеку других. Я убил человека. Поэтому самым правильным для меня будет умереть как есть. Я пришел сюда, чтобы сказать вам это…
Он встал с видом человека, которому больше нечего здесь делать. Надзиратель не удивился такому поведению и тоже поднялся. Сейчас в заключенном почувствовался вызов: пускай мне приходится, как животному, скрючившись, подбирать брошенный корм, но я – человек! Впервые за сегодня мне пришла в голову мысль, что у смертника тоже, оказывается, есть гордость!
– Погоди, Юнсу! Постой! – торопливо попыталась остановить его тетя.
Он оглянулся. Тетя смотрела на него со слезами на глазах. Он тоже это заметил, и от меня не скрылось, как ненадолго исказилось его лицо, но не ухмылкой. Мне показалось, что в нем что-то надломилось, словно откололась часть суровой маски. Однако вскоре вернулась насмешка. Тетя снова начала вытаскивать что-то из узелка.
– Скоро Рождество, я кое-что приготовила в подарок. Холодно небось? Белье прикупила… Тебе ведь непросто было прийти сюда, как я могу отпустить тебя с пустыми руками? Это не займет много времени, может, присядешь? Я-то не молодая, ноги уже не те…
Он уставился на протянутый сверток, желваки заходили ходуном, нахмуренные брови выдавали крайнюю степень раздражения: «Какой там еще подарок, что за ерунда?!» Однако, словно из одолжения к возрасту, да и к тому же женщине, он вернулся на место.
– Этот подарок не означает, что я чего-то жду от тебя в ответ, он не для того, чтобы ты начал ходить в церковь, и не имеет отношения к религии. Неважно, веришь ты во что-то или нет… Хотя бы день прожить по-человечески – вот что важно… Это к тебе, конечно, не относится, но если ты все же испытываешь ненависть к себе, то знай: именно для тебя Иисус пришел в этот мир! Научить, что себя нужно любить и ценить, потому что ты очень много значишь для него. И если вдруг в будущем ты ощутишь чье-то тепло и почувствуешь, что это и есть любовь, помни: Господь послал тебе ангела… Мы встретились впервые, но я знаю, у тебя доброе сердце. И какое бы преступление ты ни совершил, это не единственное, из чего состоит твоя жизнь! Это не вся твоя сущность!
Когда тетя договорила, он мельком улыбнулся. Без сомнения, это была усмешка: «Что за чушь про человеческую ценность и значимость убийцы, которого вскоре повесят?!» По его лицу пробежала тень беспокойства, характерная людям с резкими перепадами настроения… К своему удивлению, я догадывалась, что творится у него на душе. Когда после очередной стычки с родными мне вдруг звонила тетя и заводила такие же нравоучения, меня тоже охватывало внезапное чувство злости, словно в меня вливали чужую кровь, а все мое существо противилось этому. Будь то жизнь или просто эмоции – неважно, нам спокойно, когда мы среди людей одной с нами группы крови. Не имеет значения, правильно это или нет, но для злодея зона комфорта – зло, а для бунтаря – бунтарство.
– Не надо со мной так. Если вы будете продолжать в том же духе, я не смогу спокойно умереть. Представим, что я буду приходить на встречи, начну посещать богослужения и с послушанием буду следовать приказам тюремных надзирателей, буду петь духовные гимны и молиться, стоя на коленях… В общем, стану ангелом… И неужто тогда вы, сестра, спасете меня? – Он выплюнул последние слова, обнажив белые зубы, словно дикий зверь – клыки… Лицо тети Моники резко побледнело. – Так что, прошу вас, просто оставьте меня в покое!
– Да, ты прав… Я бы хотела спасти тебя, но это не в моих силах. Однако то, что я не могу избавить тебя от смерти, может помешать нашим встречам? Не знаю, как ты отнесешься к моим словам, но, если задуматься, все мы приговорены и всех нас рано или поздно ожидает смерть. Так что же мешает нам, не ведающим даты смерти, встречаться друг с другом?
Что говорить, тетю Монику не так-то просто сбить с толку! Он в замешательстве посмотрел на нее.
– Ответь мне, в чем проблема?
– Я не хочу иметь никакой надежды… это сущий ад.
Тетя промолчала.
– Если это будет продолжаться, я просто свихнусь…
Тетя собиралась что-то сказать, но передумала. А затем примирительным тоном переспросила:
– Послушай, Юнсу! Что тебя мучает больше всего? Что тебя страшит?
Он пристально, с нескрываемой неприязнью взглянул на нее. Немного помолчав, добавил:
– Утро.
Он проговорил это очень тихо, как неизбежное признание на предъявленные рассвирепевшим прокурором неопровержимые улики. И с таким видом, будто ему больше нечего здесь делать, резко встал, поклонился тете Монике в знак прощания и направился к выходу. Только тогда тетя, до этого сидевшая, как гипсовая статуя, поднялась вслед за ним.
– Постой… Хорошо, прости меня… Не горячись! Если уж тебе так тяжело, можешь не приходить на встречи со мной, да и сейчас ты тоже можешь уйти… Только, пожалуйста, возьми это. Съешь потом… Пусть это и не дорогое угощение, но старая женщина хотела хоть чем-то тебя порадовать… Конечно, не деликатес, но все же съедобно. Офицер Ли, я знаю, что это не разрешено, но прошу вас сделать вид, что не заметили, что он в одежде пронес парочку…
Она, схватив булки, протянула их Юнсу. По лицу офицера пробежала угрожающая неприятностями тень. Однако в некоторых случаях тетино упрямство было трудно перебороть, словно бы вершилась на земле воля Отца Небесного…
– Ну вот. Он же в своей одиночке… Бедолага наверняка вечно недоедает… А в этом возрасте аппетит-то нешуточный… Офицер Ли, ну пожалуйста!
Мда… нелепица какая-то… Теперь и не разберешь, кто преступник, а кто наставник, кто должен умолять, а кто – отказывать. Я заметила, как узник посмотрел тете в глаза, пытаясь разобраться, кто же перед ним. Тетя подошла к нему и спрятала в одежду булки, ошарашив этим поступком Юнсу. Он отпрянул, пытаясь, насколько это было возможно, избежать контакта.
– Ну вот и ладно… Я была очень рада нашей сегодняшней встрече! Очень рада, Юнсу! Спасибо, что пришел.
Тетя довольно долго удерживала его, похлопывая по плечам. Лицо смертника перекосило гримасой, как будто его подвергали мучительным пыткам. Когда его отпустили, он поспешно развернулся и пошел прочь. Я успела заметить, как он прихрамывает на одну ногу. Тетя стояла в дверях и провожала узника взглядом, пока тот не скрылся в конце длинного коридора. В эти минуты она выглядела до крайности сиротливо, как брошенный на отвесном берегу маленький козленок. Она устало потерла лоб, словно силы внезапно оставили ее.
– Ну ничего… вначале все они так. Это и есть первые шаги к надежде. И его слова о том, что он недостоин, тоже хороший признак… – пробормотала тетя, непонятно к кому обращаясь.
Она, и без того маленького роста, казалось, усохла еще больше. Возможно, этой репликой она попыталась убедить саму себя в том, что не все потеряно. Я непроизвольно бросила взгляд на картину Рембрандта: раньше срока потребовав у отца часть своего наследства, младший сын пустился во все тяжкие. Промотав все и оказавшись у свиной кормушки, он вернулся к отцу, прекрасно осознавая, что не имеет никакого права более зваться сыном. Именно поэтому его слова: «Отче! Я согрешил перед Небом и пред тобою!» – были искренними. Художник позаимствовал сюжет из Священного Писания и хотел показать любовь отца, простившего сына, и неподдельное раскаяние сына, преклонившего колени. На картине руки отца нарисованы по-разному: одна – мужская, другая – женская, ведь Бог сочетает в себе и мужское, и женское начало. Я вспомнила, чему нас учили на уроках живописи. И дураку понятно, с каким умыслом картину повесили именно здесь.
– Чон Юнсу… Он все еще сильно буянит? – поинтересовалась тетя.
– И не спрашивайте, сущий кошмар! В прошлом месяце на прогулке чуть не прикончил главаря мафиозной группировки: затеял драку, схватил заслонку от растопленной угольными брикетами печки, стоявшей на краю стадиона, – за что отсидел полмесяца в карцере, вчера только вышел. Благо мы вовремя приметили, а то дело точно отправили бы на пересмотр. Хотя чего там еще пересматривать… К вышке уже ничего не добавишь. Он даже в карцере умудряется куролесить… Грех, конечно, говорить такое, но эти смертники все нервы вытрепали. Подумаешь, убьет здесь еще кого-нибудь, ему-то что – все равно смертная казнь. Так умереть или этак, приговора не миновать. Поэтому обычные преступники живут оглядываясь, ходят по струнке, а смертники выделываются – царьков из себя изображают, веселятся на всю катушку. С августа прошлого года казней не было… Они, видимо, чувствуют, что подходит их время, вот и вытворяют что-нибудь. Ведь, как правило, о приведении в исполнение объявляют в конце года, а после на несколько месяцев наступает затишье… Сейчас Юнсу – один из самых буйных…
Тетя Моника помолчала, а потом проговорила:
– Но все-таки сегодня он пришел сюда и, несмотря на то что я пишу на редкость длинные письма, отправил мне ответ… – Она сказала это с мольбою, будто бы пытаясь найти хоть какую-то зацепку.
– Да не говорите! Признаться, я тоже немного удивлен. В прошлом месяце пастор передал ему Библию, а он ее в клочья порвал и сейчас, похоже, использует как туалетную бумагу. И так уже третью подряд, если мне память не изменяет, – ответил офицер с ухмылкой.
Я прыснула от смеха. Если бы не испепеляющий взгляд тети, я бы еще от души посмеялась, но пришлось закрыть рот и сделать серьезную физиономию. Прям бальзам на душу – Юнсу отомстил ей вместо меня за ее слова о «помойке»… Ведь он разорвал Священное Писание и спустил его в унитаз – похлеще, чем выбросить в мусорку, а для нее Библия была самым ценным, что есть на свете… Однако, судя по обстановке, сейчас был не самый подходящий момент, чтобы выказывать свое злорадство. И тетя, и охранник выглядели озадаченно, всем видом показывали, что им не до шуток.
– Знаете, когда я утром пришел к нему сказать, что вы навестите его, и спросил, как он поступит, я заметил, что он задумался. А потом спросил, сколько вам лет. Я ответил: «За семьдесят…» Поколебавшись, он, к моему удивлению, согласился прийти.
Тетя просияла.
– Правда? Ну надо же, хоть какая-то польза от старости! А его кто-нибудь навещает?
– Нет. Видимо, сирота он. По-моему, он как-то обмолвился, что мать жива… Но никто не приходит.
Тетя Моника нерешительно вытащила из кармана конверт.
– Зачислите это, пожалуйста, на счет Юнсу. И ты, офицер Ли, сделай милость, не будь к нему слишком строг… Надзиратели существуют, чтобы исправлять, а не для того, чтобы поскорее отправить на тот свет… И ты, и я – все мы грешники, кто среди людей найдется без греха?
Офицер Ли лишь молча принял конверт.
На обратном пути тетя Моника наотрез отказалась от моего предложения подвезти ее до монастыря. И что только заставляет ее таскаться по этой холодрыге с пересадками на метро и автобусе?.. Наверно, дурацкая упертость, характерная для нас обеих.