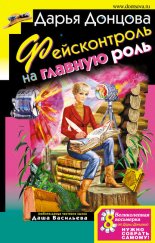Скорбь сатаны Корелли Мария

— Это меня трогает, — перебил я его, — тем более что судя, по вашим словам, вы не христианин.
— Нет, — сказал Риманец, и в его голосе послышалась насмешка. — Но вы не понимаете моих мотивов. Многие протестантские священники стараются погубить религию, кто лицeмepиeм, кто жадностью, и когда они ищут моей поддержки для такой благой цели. — Я даю, не считая.
Я засмеялся.
— Вы не можете не шутить, — сказал я, бросая в камин окурок сигары. — Я вижу, что вы любите смеяться над собственными добрыми делами.
Я не докончил, так как в эту минуту вошел Aмиэль, неся телеграмму на серебряном подносе. Открыв ее, я увидал, что она от моего редактора; содержание было следующее:
«С удовольствием принимаю книгу; пришлите немедленно рукопись».
Я торжественно показал депешу князю; он улыбнулся.
— Конечно! разве вы могли ожидать другого ответа? Только ваш издатель должен был бы редактировать свою телеграмму иначе. Я не думаю, что он принял бы вашу книгу с удовольствием, если ему пришлось бы потратить свои деньги. — «С yдoвoльcтвиeм принимаю деньги за печатание вашей книги», вот настоящий смысл его послания. Ну, что же вы намерены делать?
— Я займусь этим сейчас, — ответил я и весь затрепетал от предвкушаемого наслаждения при мысли, что приближается час, когда я могу отомстить своим врагам. — Надо напечатать книгу как можно скорее; я с удовольствием сам займусь всеми подробностями, а что касается других моих планов…
— Предоставьте их мне, — сказал Риманец, кладя свою красивую белую руку мне на плечо. Предоставьте их мне и будьте уверены, что я подыму вас до самой высоты светского тщеславия. Это будет зрелище, возбуждающее зависть людей и удивление ангелов!
Глава седьмая
Следующие три-четыре недели пролетели в каком-то вихре возбуждения; когда они пришли к концу, я с трудом узнал себя, бедного труженика, в беспечном расточительном светском лентяе, в которого я превратился; изредка мое ужасное прошлое поднималось перед моим умственным взором, и я узнавал его с чувством омерзения; я видел себя опять усталым, голодным и скверно одетым, быстро писавшим в своей убогой квартирке, — но, несмотря на все свое несчастье, я тогда был утешен чудными мыслями, которые превращали бедность в красоту и одиночество в любовь. Теперь же дух творчества во мне дремал, я ничего не писал и ни над чем не задумывался. Но я чувствовал, что эта умственная апатия лишь проходящее явление, нечто вроде каникул, заслуженных мною моими долгими страданиями. Моя книга почти уже вышла из печати и может быть из всех удовольствий, испытанных мною, самое большое было именно корректура печатанных листов, по мере того, как я получал их из редакции. Но даже самодовольное чувство автора имело свою обратную сторону; в данном случае, мое огорчение несло довольно оригинальный характер. Я читал свое произведение с удовольствием; в этом случае не отставал от современных писателей, которые все восторгаются своими сочинениями, — но мой самодовольный литературный эгоизм был смешан с чувством непонятного удивления и даже недоверия, так как моя книга была написана восторженно и с чувством, излагая идеи и теории, в которые я лично не верил. Как это могло случиться? спрашивал я себя, я даю публике совершенно ложное понятие о себе. Я задумался над этим; вопрос показался мне затруднительным. Как я мог написать эту книгу, шедшую в разрез со всеми своими теперешними убеждениями? Мое перо сознательно или бессознательно начертало то, от чего мой рассудок совершенно отказывался, — я говорил о существовании Бога и о непременном прогрессе человечества, тогда как безусловно отрицал и одно, и другое; когда я позволял себе мечтать о таких возвышенных и глупых теориях, я был беден, голоден и одинок; вспомнив эти обстоятельства, я немедленно приписал им свое ложное вдохновение. Но было нечто увлекательное в скрытом учении моей книги и как-то раз, окончив корректуру готовых печатных листов, я подумал, что мое произведение нравственно стояло гораздо выше меня самого. Эта мысль причинила мне минутное страдание, — я оттолкнул от себя бумаги, нетерпеливо встал и подошел к окну. Шел сильный дождь, и улицы были черны от толстого слоя мокрой грязи, — весь вид был бесконечно грустен, и мысль, что я богатый человек, нисколько не уничтожила чувства непонятной тоски, которое внезапно овладело мной. Я был один; я занимал в гостинице целый ряд комнат недалеко от князя Риманца; я также имел своего камердинера, славного малого, которого я полюбил за то, что он питал такое же инстинктивное отвращение к Амиэлю, как и я. У меня также была своя карета с парой рысаков, свой личный кучер и выездной, так что князь и я, несмотря на всю нашу дружескую близость, не рисковали мешать друг другу и имели каждый свое отдельное хозяйство. Но в этот злосчастный день я был в более тоскливом настроении, чем в самые скверные часы прошлого, несмотря на то, что в действительности я не имел ни малейшего повода к огорчению. Мое состояние было в моих руках, я пользовался великолепным здоровьем, и у меня было все, чего я мог желать, и к тому же еще сознание, что если мои желания увеличатся, у меня достаточно средств, чтобы удовлетворить их. Под надзором Лючио меня так ловко рекламировали, что я увидал свою фамилию почти во всех лондонских газетах; про меня говорили, как про «нашего знаменитого миллионера». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, как неприкрашенную истину, что за четыреста фунтов стерлингов хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи, не менее, как в 400 газетах. Этим объясняется многое, и между прочим, почему имена некоторых авторов постоянно попадают на глаза публики, а другие, более заслуживающие внимания, никогда! Заслуги тут не при чем, деньги играют первую роль. Постоянное появление моего имени в печати с описанием моей наружности, моего литературного таланта и намеком на мои миллионы (все это было написано самим Лючио и передано в агентство рекламы с уплатой вперед), привело к тому, что я получал безграничное число приглашений на всевозможные общественные и артистические собрания и столько же прошений от бедных.
Я был принужден иметь своего секретаря, занимавшего комнату в той же гостинице, как я, и работавшего почти целый день. Конечно, я отказывал категорически всем денежным просьбам, никто не помог мне во время моей нищеты, кроме моего старого товарища Боффлза, никто, кроме него, не выразил мне даже искры симпатии, — я решил теперь быть таким же жестоким и бессердечным, как они. Я почувствовал какое-то сильное наслаждение, прочитав письма двух или трех литераторов, просящих у меня место секретаря или компаньона, а в крайнем случае немного денег в долг, чтобы помочь им перенести тяжелое переходное время; один из этих просителей был как раз журналист в одном из известных вестников, который когда-то обещал достать мне работу а, вместо этого, как я узнал впоследствии, отговорил редактора дать мне занятие. Он, конечно, ни одной минуты не воображал, что Темпест миллионер и Темпест, умирающий с голоду литератор — один и тот же человек; — вообще мало кто думает, что богатство может выпасть на долю автора. Я написал ему сам, дав ему понять то, что по моему он должен был знать; и поблагодарил его с некоторой иронией за его дружескую помощь в тяжелое для меня время, — сознаюсь, что в ту минуту я испытал всю сладость мести! Конечно, я больше про него не слыхал; но думаю, что мое письмо не только удивило его, но и возбудило в нем разные мысли.
Но, несмотря на все эти преимущества, откровенно говоря, я не был счастлив. Я сознавал, что все удовольствия в мире к моим услугам и все же, стоя у окна и наблюдая за упорно лившим дождем, я чувствовал, что в нашей жизни больше горечи, чем сладости. Например, я наполнил газеты осторожно редактированными видными объявлениями о своей книге, и вспомнил, как во времена бедности я мечтал об этом; теперь же они не доставляли мне никакого удовольствия. Мне даже надоело видеть свое имя в газетах. Конечно, я ожидал многого от публикации своей книги и с нетерпением ждал, когда она выйдет, но сегодня даже эта мысль утеряла свою прелесть, благодаря только что испытанному неприятному впечатлению, что суть романа идет в разрез с моими внутренними убеждениями. Туман медленно подымался, застилая и без того темные от дождя улицы; с чувством омерзения к себе и погоде, я отошел от окна и уселся в кресло у камина; помешав уголь так, что он загорелся ярким пламенем, я начал думать что бы предпринять, чтобы развеять меланхолию, которая, как туман Лондонских улиц, угрожала заполонить мой ум.
Кто-то постучался в дверь; в ответ на мое нетерпеливое «войдите» явился Риманец.
— Как, Темпест, вы в темноте? — воскликнул он радушно, — почему вы не зажгли свет?
— Этого огня достаточно для моих дум, — ответил я сердито.
— А, вы думали? — спросил он, смеясь. — Не думайте! это прескверная привычка. Никто теперь не думает; нынешнее поколение этого не выдерживает, головы слишком слабы; стоит только подумать, и вся гармония общественного строя внезапно исчезает; к тому же это прескучное занятие.
— Я сам это нахожу, — ответил я мрачно, — Лючио, что-то во мне неладно…
Глаза князя сверкнули, и полунасмешливо, полувопросительно уставились на меня.
— Неладно? — не может быть! Разве вы не один из самых богатых людей мира?
Я пропустил иронию мимо ушей.
— Послушайте, мой друг, — сказал я серьезно. — Вы знаете, что последние две недели я был занят корректурой своей книги?
Он утвердительно кивнул головой.
— Я почти докончил свой труд и пришел к заключению, что книга — не я, она нисколько не передает ни моих убеждений, ни моих мыслей, и я не могу понять, каким образом я мог написать ее.
— Вы находите ее глупой? — спросил Лючио с видимым участием.
— Нет, — ответил я с нескрываемым возмущением, — я не нахожу ее глупой.
— Скучной?
— Нет, она не скучна.
— Сентиментальна?
— Нет.
— Ну что же, мой друг, если книга ваша ни глупа, ни скучна и ни сентиментальна, так в чем же дело? — воскликнул весело Лючио.
— Дело в том, что она выше меня; — я говорил с горечью; — несравненно выше. Теперь я не мог бы написать её. Удивляюсь, как я и тогда был способен на это. Лючио, я пожалуй, говорю глупости, но мне кажется, что я нравственно стоял выше, когда писал эту книгу: я стоял на высоте, с которой с тех пор упал.
— Мне жаль это слышать, — ответил князь. — Судя по тому, что вы говорите, вся беда в том, что вы писали высокопарно. Это нехорошо, очень нехорошо. Ничего не может быть хуже писать о высших чувствах и стремлениях — великое прегрешение, и критики вам этого никогда не простят. Я от всей души сочувствую вам, мой друг; я не воображал, что вы в таком отчаянном положении.
Я засмеялся, несмотря на мое угнетение.
— Вы неисправимы, Лючио! — сказал я. — Но ваша веселость действует на меня ободряюще. Я хотел лишь объяснить вам, что в моем творчестве проведена мысль, которую я будто бы разделяю, а на самом деле это не так; мое я, мое теперешнее я, нисколько не симпатизирует ей. Должно быть с тех пор я изменил свои возвышения.
— Изменили? Еще бы не изменить! — и Лючио захохотал. — Обладание пятью миллионов фунтов должно повлиять на человека или в хорошую, или в дурную сторону. Но, по-моему, вы тревожитесь совсем напрасно. Вы можете прожить столько, и не встретить автора, писавшего то, что он в действительности думает. Когда это бывает, писатель становится бессмертным! Наша планета слишком ограничена, чтобы вместить больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира.
Итак, не тревожьтесь. Вы не подходите ни к одному из них. Вы принадлежите веку, Темпест, а наш век — недолговечный век декадентства. Всякая эра, в которой любовь к деньгам господствует над всем остальным, гнила с самого корня и должна погибнуть! История нас учит этому; к сожалению, никто не внимает ее голосу. Приметьте особенности нашего времени. — Искусство подчиняется любви к деньгам, — литература, политика, религия также; вы не можете миновать общей болезни и никто не способен уничтожить сразу это зло, менее всего вы, с таким избытком богатства.
Князь приостановился; я упорно молчал, глядя на красные угольки в камине.
— Прибавлю лишь одно, — продолжал Лючио тихим, почти грустным голосом; — оно, пожалуй, покажется вам смешным, — однако это неоспоримая истина! Для того, чтобы писать с чувством, — вы должны чувствовать! Когда вы писали вашу книгу, вы были в состоянии человека-ежа, до такой степени была развита ваша чувствительность. Вы были покрыты иглами, которые и отозвались на все явления приятные и неприятные, воображаемые и настоящие. Некоторые люди стремятся к таким ощущениям; другие же предпочитают не испытывать их теперь же, как человек-еж, вы не имеете больше повода для страха, негодования или самозащиты; ваши иглы притупились в приятном бездействии, и вы почти перестали чувствовать… Вот и все! Перемена взглядов, на которую вы жалуетесь, — легко объяснима. — Вы ничего не чувствуете и удивляетесь тому, что было время, когда вы чувствовали… Спокойная уверенность его тона раздражала меня.
— Неужели вы считаете меня вполне бездушным? — воскликнул я, — вы ошибаетесь, Лючио; я чувствую и очень сильно!
— Что вы чувствуете? — спросил Риманец, пристально глядя, на меня. — В нашей столице сотни несчастных, которые умирают с голоду, сотни женщин и мужчин на краю самоубийства, — что же вы чувствуете по отношению к ним? Разве их горе тревожит вас? Сознайтесь, что нет, — вы никогда не думаете о них, да и зачем бы вам думать? Одно из самых больших преимуществ богатства, — это возможность удалить от себя зрелище чужих страданий и невзгод.
Я ничего не ответил; — в первый раз я возмутился правдивостью его слов, именно потому, что они были правдивы. Увы, Лючио, если бы я знал тогда то, что я знаю теперь!
— Вчера, — продолжал он тем же тихим голосом, — ребенок был раздавлен как раз напротив нашей гостиницы. Это был лишь бедный ребенок, — заметьте это «лишь»… Его мать с криками выбежала из боковой улицы как раз в то время, когда увозили бесформенную массу маленькой жертвы. Она дико разводила руками и отталкивала людей, желавших увести ее. Потом с криками раненого животного несчастная упала навзничь мертвая! Это была лишь бедная женщина, — еще одно «лишь». В газете явились три строки под заглавием: — «Печальный случай». Наш швейцар был свидетелем всей сцены: он стоял на пороге и следил за происходившим со спокойным равнодушием зрителя в театре. Ни один мускул его лица не дрогнул и ничто не изменило спокойного величия его положения, — однако десять минут спустя он весь засуетился, усаживая вас, мой милый Джеффри, в вашу карету. Это набросок из современной жизни, а наряду с этим, религия говорит, что мы все равны перед Господом Богом! Но это нас нисколько не тревожит; мы давно перестали задумываться над тем, каковы мы должны быть в глазах Божьих. Я рассказал вам все это не для морали. Я просто передал вам печальный случай и убежден, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого раздавили, ни матери, умершей внезапно от разрыва сердца. Пожалуйста, не говорите, что вы жалеете о них, я знаю, что это неправда.
— Как можно жалеть о людях, которых мы не видим и не знаем? — начал я.
— Именно, — перебил Лючио, — как это возможно? Вот вам еще одна неопровержимая истина; как можно чувствовать наше я, когда оно находится в таких удобных условиях, что ничего не сознает кроме животного удовлетворения? Итак, мой дорогой Джеффри, вы должны довольствоваться тем, что ваша книга — отражение вашего прошлого. Вы тогда находились в чувствительном периоде вашей жизни, теперь же вы обложены толстым слоем золота, защищающим вас от постороннего влияния, в былое время многое волновало и расстраивало вас, пожалуй, даже заставляло вас кричать от возмущения; в приливе жестокого страдания вы могли бы протянуть руки и схватить, конечно бессознательно, крылатое существо, называемое славой… Но увы… вы перестали страдать!..
— Вы должны были бы быть оратором, — заметил я, вставая со своего места и начиная ходить взад и вперед по комнате. — Но для меня ваши слова неутешительны, и я не думаю, чтобы они были верны. Слава достигается довольно легко.
— Простите мое упорство, — перебил меня Лючио, как бы извиняясь. — Известность достигается легко, очень легко. Несколько критиков, которых вы угостите хорошим обедом с дорогими винами, дадут вам известность. Но слава, — это голос всей цивилизованной публики, всего света.
— Публика, — повторил я презрительно, — публика любит только дрянь.
— В таком случае жаль, что вы обращаетесь к публике, — ответил князь, улыбаясь. — Если вы такого плохого мнения о ней, зачем вы даете ей плоды вашего мозга? Она недостойна столь редкого подарка.
— Не берите пример с неудавшихся авторов, которые, изведенные невозможностью продать свои произведения, изливают желчь, на безответную публику. Однако эта самая публика — лучший друг автора, и самый верный критик. Но, если вы предпочитаете презирать ее совместно с литераторами, создавшими «Общество взаимного Почитания», я вам скажу, что надо сделать: напечатайте двадцать экземпляров вашей книги и раздайте их главным писателям обозрений; после появлений критических статей, за которые я отвечаю, ваш редактор должен объявить в газетах, что первое и второе большие издания нового романа Джеффри Темпест иссякли, — сто тысяч экземпляров были проданы в одну неделю! Если это не разбудит мир, то я буду поражен.
Я засмеялся; его веселье невольно заражало меня.
— Этот план не хуже многих, которыми пользуются современные издатели, — сказал я. — Громкая реклама литературных товаров, напоминает мне неустанные крики мелких торговцев. Но я до этого не дойду, — я достигну славы законным путем, если это только возможно.
— Но это невозможно, — объявил Лючио с широкой улыбкой. — Вы слишком богаты, одно это уже незаконно в литературе, любящей украшаться бедностью, как иной цветком в петлице! Сражение будет неравное. Факт, что вы миллионер, конечно, сначала склонить весы в вашу сторону. Свет не может противостоять деньгам. Если какой-нибудь бедняк выпустит книгу одновременно с вашей, то у него не будет и тени успеха. За рекламу ему будет невозможно заплатить и критиков он также не сможет угостить обедом. А если бы на деле оказалось, что у него больше таланта, чем у вас, и, несмотря на это, вы бы пользовались успехом, а он нет, то ваш успех был бы незаконный. Но все это неважно; в искусстве, как ни в чем другом, в конце концов, хорошее берет верх.
Я ничего не ответил, но, встав со своего места, подошел к столу, свернул корректированные мною тексты и, написав адрес типографии, позвал своего человека Морриса и приказал ему немедленно отправить их по назначению. Сделав это, я обернулся к Лючио и увидал его все еще сидевшим перед камином; в его позе было что то грустное: одной рукой он прикрывал глаза, чтобы защитить их от ярко-красного пламени. Я пожалел, что высказанные им горькие истины возбудили во мне хотя бы минутное раздражение и, подойдя к нему, я ласково взял его за плечо.
— Ну что же, Лючио? — спросил я, — теперь вы в меланхолии! мое настроение заразило вас?
Опустив руку, он взглянул на меня; его большие глаза блестели, как у нервной женщины.
— Я задумался, — сказал он с чуть слышным вздохом, — задумался над своими последними словами: «что, в конце концов, все хорошее берет верх». Действительно в мире искусства это так; шарлатанство и подделка не приняты богами Парнаса. Но что касается другого — это неправильно: Например, никогда я не возьму своего; никогда себя не оправдаю! Временами, мне жизнь более ненавистна, чем кому-либо другому.
— Может быть, вы влюблены? — спросил я, улыбаясь.
Князь вздрогнул.
— Влюблен?.. Я? Силы небесные! Да от одного лишь предположения я встрепенулся, как ужаленный. Влюблен ли я? Во всем мире нет женщины, способной вызвать во мне хоть тень любви. Женщина — большая кукла с розовыми щеками и длинными волосами, частенько даже не своими! А что касается современных атлеток, играющих в теннис, я не считаю их за женщин. Это просто неестественные зачатки нового пола. Дорогой Темпест, я ненавижу женщин. Вы бы возненавидели их также, если бы знали их, как я. Они сделали меня тем, чем я есть и заставляют меня оставаться таким же!
— В таком случае они заслуживают похвалы, — заметил я.
— Вы делаете им честь.
— Да действительно, — ответил Лючио медленно. Легкая улыбка скользила по его лицу и глаза искрились холодным блеском алмаза, блеском, замеченным мной уже несколько раз. — Верьте мне, я никогда не стану оспаривать у вас, мой милый Джеффри, столь ничтожный подарок, как любовь женщины, — она не стоит борьбы. Кстати о женщинах: припоминаю, я обещал лорду Эльтону привести вас в его ложу сегодня вечером. Это разорившийся вельможа, страдающий подагрой и пропитанный портвейном; его дочь, леди Сибилла, считается первой красавицей в Англии. Ее начали вывозить в прошлом году, и она пользовалась выдающимся успехом. Вы поедете?
— Я в полном вашем распоряжении, — ответил я, с радостью хватаясь за первый предлог, чтобы избегнуть тоски одиночества и остаться в обществе Лючио, разговор которого, несмотря на всю его ядовитость, очаровывал меня и укоренялся в моей памяти. — Когда и где мы съедемся?
— Переоденьтесь; а потом приходите обедать ко мне, — ответил князь, — мы поедем в театр вместе. Пьеса все на тот же избитый сюжет; это — панегирика падшей женщины, ставшей почему-то образцом нравственности и доброты. Пьеса сама по себе не представляет интереса, но, пожалуй, леди Сибилла вознаградит нас.
Лючио опять улыбнулся; яркое пламя в камине потухло, оставляя лишь темно-красное тусклое пятно, — мы были почти в темноте. Я тронул электрическую кнопку, вся комната мгновенно озарилась, — я взглянул на князя, и его удивительная красота вновь поразила меня, как нечто странное, почти сверхъестественное… — Вы не замечали, что люди пристально рассматривают вас, когда вы проходите, — спросил я внезапно и стремительно.
Лючио засмеялся.
— Конечно, нет! Зачем они стали бы смотреть на меня? Каждый человек так занят своими делами и так много думает о самом себе, что он не потеряет из вида своего «ego», даже если бы сам чёрт погнался за ним. Женщины иногда смотрят на меня, как они вообще смотрят на всех более или менее благовидных мужчин.
— Я их не виню, — ответил я, любуясь его великолепным станом и изящной головой, как я бы любовался хорошей картиной или статуей. — Что же, леди Сибилле вы тоже благовиден?
— Леди Сибилла никогда не видела меня — ответил Риманец, — и я сам видел ее только издалека. Граф и пригласил нас сегодня в театр, чтобы познакомить с дочерью.
— Ха, ха! — воскликнул я, шутя, — старик хочет выдать ее замуж!
— Да, должно быть, — я знаю, что леди Сибилла продается, — ответил князь с обычным холодным цинизмом, придававшим твердое, почти жестокое выражение красивым чертам его лица, — До сих пор предлагаемые цены были недостаточно высоки. Но я покупать не буду; как я уже говорил вам, Темпест, я женщин ненавижу!
— Серьезно?
— Вполне серьезно; женщины всегда вредили мне. И я ненавижу их, тем более, что они одарены огромной силой добра, и пренебрегают этой силой, вместо того, чтобы пользоваться ею. Они вполне сознательно наслаждаются грубыми, отталкивающими наслаждениями жизни, и мне это противно. Они гораздо менее чувствительны мужчин, и конечно бессердечнее их. Они матери человеческого рода и за недостатки рода мы можем их благодарить. Вот еще одна причина моей ненависти к ним.
— Неужели вы требуете от человечества совершенства? — спросил я удивленно. — Это невозможно.
Князь призадумался.
— Во Вселенной все совершенство, — сказал он, наконец, — кроме человека. Вы никогда не задумывались над вопросом, отчего человек единственное пятно, единственное несовершенство Вселенной?
— Нет, Я об этом не думал, — ответил я, — я принимаю факты, как они есть.
— Я тоже, — и князь резко отвернулся, — до свидания. Мы обедаем через час, не забудьте.
Дверь отворилась, закрылась, его уже не было. Оставшись один, я задумался над странным нравом князя, — философская теория, любовь к свету, чувствительность, ирония и цинизм все это как-то странно смешивалось в этом выдающемся таинственном человеке, внезапно ставшим моим лучшим другом. Почти месяц уже прошел со дня нашего знакомства, но я не был ближе к разгадке его характера, чем в начале. Однако я восторгался им более, чем когда либо, и если бы мне пришлось внезапно лишиться его общества, жизнь потеряла бы для меня половину своей прелести. Несмотря на то, что я был окружен новыми друзьями, привлеченными блеском моих миллионов, как бабочки ярким светом огня, я ни к кому не питал такой симпатии, как к этому властному, то жестокому, то ласковому товарищу, считавшему жизнь безделицей и меня ненужным ее звеном.
Глава восьмая
Я думаю, что ни один мужчина не забывает первого раза, когда он встречается с воплощением безукоризненной красоты…. Он пожалуй видал много хорошеньких женщин; ослепительный цвет лица или очаровательный выгиб грациозной фигурки не раз привлекали его, но все это были лишь мимолетными намеками на совершенство…. Когда-же эти впечатления соединяются в одну точку, когда все неясные грезы воплощаются в одном живом существе, которое гордо глядит на него с высоты своей девственной чистоты, то он теряет голову перед восхитительным видением и делается рабом своей страсти. И так ничего нет удивительного в том, что я почувствовал себя униженным и покоренным, когда Сибилла Эльтон, медленно подняв свои фиолетовые глаза, посмотрела на меня сквозь завесу темных ресниц с тем неописуемым выражением не то участия, не то равнодушия, которое хотя и считается признаком благовоспитанности, но в большинстве случаев обескураживает и даже отталкивает откровенных и чувствительных людей. Итак, повторяю, взгляд леди Сибиллы отталкивал, но и очаровывал меня. Риманец и я мы вошли в ложу лорда Эльтона между первым и вторым действиями; увидав нас, граф, обыкновенный старичок с лысой головой, красным лицом и большими бакенами, встал с своего места и любезно приветствовал нас, пожав руку князя с особенным радушием… Впоследствии я узнал, что Лючио одолжил ему 10 тысяч фунтов стерлингов, что и объясняло, более чем радушный шлем графа. Леди Сибилла осталась неподвижной и только после того как старик довольно резко обратился к ней со словами: «Сибилла, князь Риманец и его друг мистер Джеффри Темпест», она обернулась и, окинув нас тем холодным взглядом, о котором я говорил выше, чуть заметно наклонила голову в знак приветствия. Ее удивительная красота ошеломила и меня; я не знал, что сказать и молча смотрел на нее в приливе необъяснимого волнения. Старый граф сделал какое-то замечание насчет пьесы, но я едва расслышал его слова. Оркестр играл что-то невероятное, как всегда, во время антракта оглушительный шум медных инструментов звенел у меня в ушах, как бурные волны моря. — Я ничего не сознавал, кроме чарующей прелести девушки, сидящей предо мной в открытом белом платье с брильянтами в волосах, которые блестели как капли росы на лепестках душистой розы. Лючио заговорил с ней, и я прислушался.
— Наконец, леди Сибилла, — сказал он, почтительно наклоняясь к ней, — наконец, я имею честь познакомиться с вами. Я видел вас часто, как видят звезды — издалека.
Леди Сибилла улыбнулась, но столь холодной улыбкой, что углы ее красивых губ едва заметно поднялись.
— Мне кажется, что я никогда вас не видела — ответила она, — но все-таки в вашем лице есть что-то знакомое. Отец постоянно говорил о вас, — само собой разумеется, что его друзья — мои друзья!
Князь поклонился.
— Говорить с леди Сибиллой великая честь, — сказал он, — но быть ее другом, значит вернуться в потерянный рай!
Леди Сибилла вся вспыхнула, потом побледнела; легкая дрожь прошла по ее телу, и она протянула руку за своей накидкой. Риманец бережно окутал ее дивные плечи душистыми складками шелковой ткани, — как я завидовал ему в исполнении этой легкой задачи, — потом Риманец обернулся ко мне.
— Не сядете ли вы сюда, Джеффри? — сказал он, указывая на свое место, — мне надо поговорить по делу с лордом Эльтоном.
Овладев собой, я поспешил воспользоваться удобным случаем: мое сердце радостно застучало, когда красавица ласково и как бы поощряюще, улыбнулась мне.
— Вы, большой друг князя Риманца? — мягко спросила она, когда я уселся.
— Да, мы очень дружны, — ответил я, — он чудный собеседник.
— Я думаю, — сказала леди Сибилла, взглянув на Лючио, который что-то доказывал старому графу, — он поразительно хорош собой.
Я ничего не ответил. Конечно, удивительная красота Лючио не подлежала сомнению, но чувство зависти овладело мной. Ее замечание показалось мне столь же неуместным, как когда человек, имея перед собой красивую женщину, громко восхищается перед ней красотой ее подруги. Я, конечно, не задумывался над своей внешностью, хотя знал, что физически стоял выше общего уровня людей. Чувствуя себя почему-то обиженным, я не прервал наступившего молчания и через некоторое время занавес для второго действия поднялся. Сцена была сомнительного свойства: женщина с «прошлым» играла в ней главную роль. Тенденция пьесы возмущала меня, и я взглянул на моих компаньонов, желая усмотреть на их лицах выражение негодования. Но на изящных чертах леди Сибиллы не было и тени неодобрения, — ее отец даже высунулся из ложи, видимо не желая пропустить малейшей подробности пьесы, а Риманец словно застыл, так что было невозможно угадать его впечатления.
Женщина с «прошлым» продолжала излагать свои истерично-ложные доводы, и «первый любовник» уверял ее, что она воплощение долготерпения и ангельской чистоты; занавес опустился под дружным громом аплодисментов, гармония которого была нарушена лишь одним резким свистком из райка.
— Англия пошла вперед, — заметил Риманец слегка насмешливым голосом. — В былое время засвистали бы эту пьесу, как нечто вредное и могущее развращающе действовать на толпу. Теперь же единственный протестующий голос принадлежит представителю низшего класса.
— Вы демократ, князь? — спросила, леди Сибилла, лениво обмахиваясь большим веером.
— Нисколько; но ее преклоняюсь перед достоинством не денежным, а интелектуальным. На этом поприще развивается новая аристократия. Когда высшее сословие растлевается, оно падает и делается низшим, а когда низшее сословие воспитывает себя и стремится к совершенству, оно поднимается и делается высшим, это закон эволюции.
— Но, Боже мой, — воскликнул лорд Эльтон, — неужели вы находите эту пьесу грубой или безнравственной? Это просто реальный этюд современной жизни. И все эти женщины, эти бедняжки с сомнительным прошлым, очень интересны!
— Очень, — тихо прибавила его дочь. — Казалось бы, что для женщин, не имевших такого прошлого, не может быть и будущего! Нравственность и скромность отжили свой век и утеряли свою цену.
В ее замечании я подметил скрытый смысл. Нагнувшись к ней, я прошептал:
— Леди Сибилла, я рад, что эта пьеса возмущает вас.
Она взглянула на меня с выражением глубокого удивления.
— Нисколько — возразила она, — я видела, много пьес в этом роде и прочла целую массу романов на ту же тему. Уверяю вас, я вполне убеждена, что так называемая «падшая женщина» единственный тип, нравящийся мужчинам; падшая женщина пользуется в жизни всеми наслаждениями, нередко очень удачно выходить замуж, и вообще вполне довольна своей судьбой. Можно сказать тоже самое о наших преступниках; они получают лучшую пищу в тюрьме, чем могли бы себе заработать на воле. Мне кажется, что для женщин нашего времени не стоит быть порядочной, так как в таком случае ее считают просто скучной.
— Я вижу, что вы смеетесь, ответил я с снисходительной улыбкой, «вы' сами знаете, что в глубине сердца вы думаете иначе».
Леди Сибилла ничего не ответила; занавес опять поднялся: безнравственная дама очутилась на роскошнейшей яхте и по-видимому очень приятно проводила время. Сцена не интересовала меня и я откинулся на спинку кресла и предался своим мечтам; лихорадочное возбуждение, вызванное во мне в начале вечера одним взглядом леди Сибиллы, внезапно улеглось и сменилось хладнокровным обычным самомнением. Я припоминал слова Лючио. — «Леди Сибилла продается», и с чувством торжества подумал о своих миллионах. Я взглянул на графа, развеянно гладившего себе усы, потом мой взгляд вернулся к леди Сибиллы: я начал любоваться красивым изгибом ее нежной шеи, безукоризненной грудью и руками, ее роскошными темно-русыми волосами, изящному гордому лицу, томными глазами и ослепительным колоритом, — и я шепнул себе: — вся эта красота покупная, и я куплю ее! В ту же минуту леди Сибилла обернулась ко мне со словами:
— Вы знаменитый, мистер Темпест, не правда ли?
— Знаменитый? — повторил я с чувством глубокого удивления. — Едва ли, моя книга еще в печати!
Брови леди Сибиллы слегка приподнялись.
— Ваша книга? Я не знала, что вы пишете.
Мое тщеславие было ужалено.
— Однако о ней уже было объявлено в газетах, — начал я внушительно, но она прервала меня со смехом:
— Я никогда не читаю объявлений, — это чересчур утомительно. Когда я спросила вас, знаменитый ли вы мистер Темпест, то хотела лишь узнать: вы ли, тот миллионер, о котором так много говорят?
Я довольно холодно поклонился.
Леди Сибилла, закрыв нижнюю часть лица веером, посмотрела на меня с любопытством.
— Как вам должно быть приятно, иметь столько денег, — заметила она, — в довершение этого вы молоды и хороши собой.
Чувство удовольствия заменило оскорбленное самолюбие, и я улыбнулся.
— Вы очень добры, леди Сибилла.
— Почему? — спросила она и засмеялась приятным грудным смехом. — Потому, что я говорю вам правду? Но вы действительно молоды и хороши собой. Вообще миллионеры ужасные люди. Судьба, наградив их деньгами, почти всегда лишает их мозгов и внешней красоты. А теперь, расскажите мне про вашу книгу.
Она как то сразу сбросила с себя маску холодности и во время последнего действия мы разговаривали свободно, но шепотом, чтобы не метать публике. Леди Сибилла была столь очаровательна и любезна, что покорила меня совсем, и я начал терять голову. Когда представление кончилось, мы вышли из ложи вместе, но так как Лючио было занят лордом Эльтоном, я имел удовольствие сопровождать леди Сибиллу до кареты. Садясь рядом с дочерью, старик пожал мне руку с нескрываемым дружелюбием.
— Приходите обедать, приходите обедать, — воскликнул он взволнованно. — Подождите, какой у нас день? Вторник? Приходите в четверг, пожалуйста, без церемонии. Моя жена разбита параличем: она, к сожалению, принимать не может и лишь изредка видит гостей, но ее сестра принимает на ее месте… Тетя Шарлотта, Сибилла, ха, ха, ха! Вот не хотел бы на ней жениться, ха, ха, ха! Мисс Шарлотта Фицрой, женщина, к которой никак подойти нельзя! Это примерное существо. Ха, ха, ха! Приходите обедать, мистер Темпест, — Лючио, приведите его. У нас гостит молодая барышня, американка, с надлежащими долларами и акцентом, — ей богу, я думаю, что она хочет выйти за меня замуж, ха, ха, ха, и ждет, не дождется, чтобы леди Эльтон отправилась в лучший мир, ха, ха, ха! Приходите, приходите посмотреть на американку. В четверг, не правда ли?
По красивым чертам леди Сибиллы проскользнула тень неудовольствия, когда отец заговорил об американке; но она ничего не сказала, только вопросительно посмотрела на нас, как бы желая узнать наши намерения; она, по-видимому, обрадовалась, когда мы оба приняли приглашение старика. Граф еще раз пожал нам руки и захохотал так, что все его лицо побагровело. Ее сиятельство ответила на наш поклон грациозным кивком головы, и карета Эльтона быстро удалилась. Когда мы уселись в экипаж, Лючио с любопытством посмотрел на меня и сказал:
— Ну и как вам?
Я молчал.
— Неужели она не понравилась вам? — продолжал он, — сознаюсь, она холодна и напоминает мне ледяную весталку, но не забудьте; что и вулканы частенько прикрыты снегом. У нее весьма правильные черты и хороший цвет лица.
Несмотря на мое намерение молчать, небрежная похвала Лючио возмутила меня.
— Она безупречно хороша, — сказал я твердо.
Самый безвкусный человек не может в этом не признаться. В ней нет ни одного недостатка. Ее холодность и выдержка говорят в ее пользу. Если бы она расточала свои улыбки и очаровывала всех своим обхождением, то она свела бы с ума немалое количество мужчин!
Я почувствовал, скорей чутьём увидал кошачий взгляд, брошенный на меня князем.
— Честное слово, Джеффри, несмотря на то, что у нас февраль месяц ветер дует прямо с юга и навевает запахи роз и померанцевых цветов, мне кажется, что леди Сибилла сильно подействовала на вас.
— А вы этого желаете? — спросил я.
— Я? мой добрый друг: я ничего не желаю. Я лишь применяюсь к настроению своих друзей. Вы спрашиваете мое мнение, и я отвечаю: если вы действительно увлеклись этой барышней, жаль, что никаких препятствий к вашему счастью не предвидится. Любовный эпизод обязательно должен быть окружен трудностями, действительными или выдуманными. Большая доля безнравственности, ложь, обман, тайные свидания, все это придает любви известную прелесть… по крайней мере, на этой планете…
Я перебил его.
— Вы ужасно любите говорить об этой планете, как будто вы знакомы с другими, — сказал я нетерпеливо. — «Эта планета», как вы презрительно называете мир, — единственная планета, с которой мы имеем дело!
Лючио так пристально уставил на меня свой огненный взгляд, что я невольно вздрогнул.
— Если это так, — ответил он, — то зачем вы не оставляете другие планеты в покое? Зачем вы стремитесь узнать их движения и разгадать их тайны? Если люди, как вы говорите, «имеют дело лишь с этой планетой», зачем они стараются открыть секрет других миров? — секрет, который они когда-нибудь узнают к своему великому ужасу!
Торжественность голоса и вдохновенный вид Лючио взволновали меня, и я не знал, что ответить; он же продолжал:
— Не будемте говорить, мой друг, о планетах, даже о той булавочной ничтожной планете, которую мы называем Землей. Вернемтесь к более интересному сюжету, а именно леди Сибилле. Как я уже говорил вам, нет никаких препятствий к вашему счастью и вы можете жениться хоть завтра. Джеффри Темпест в качестве автора, конечно, не посмел бы и мечтать о бракосочетании с дочерью герцога; но Джеффри Темпест — миллионер — будет принят охотно. Дела бедного лорда Эльтона в очень плохом положении, — он почти что нищий… Американка, которая столуется у него…
— Как столуется? — воскликнул я, — разве граф содержит пансион?
Лючио чистосердечно засмеялся.
— Нет, нет! Просто граф и графиня Эльтон дают престиж своего дома и покровительство мисс Диане Чезни, этой американке, за пустячную сумму в две тысячи гиней ежегодно; графиня передала свою обязанность представительства своей сестре мисс Шарлотте Фитцрой, но корона уже висит над головой мисс Чезни. У нее в доме свой собственный ряд комнат, и она выезжает куда угодно под крылышком мисс Фитцрой. Такой порядок не нравится леди Сибилле, и она нигде не показывается иначе, как с отцом. Она не хочет дружить с мисс Чезни и откровенно высказывает это.
— Я горжусь ею за это, — сказал я горячо. — Я удивляюсь, что лорд Эльтон снизошел…
— Снизошел до чего? — спросил Лючио. — Снизошел принимать две тысячи фунтов в год? Силы небесные! Вы найдете массу лиц высшего общества, готовых снизойти до этого. Синяя кровь становится и жидка и бедна, и только деньги могут сгустить ее. Диана Чезни обладает более чем миллионом долларов и если леди Эльтон сумеет умереть вовремя, то эта маленькая американочка торжественно займет освободившееся место.
— Это возмутительно и не в порядке вещей! — воскликнул я с сердцем.
— Джеффри, мой друг, ваша непоследовательность поражает меня! Разве вы сами не исключение? Кто были вы, хотя бы шесть недель тому назад? Мелкий писатель, с зачатками таланта! Но эти зачатки не были в силах вырвать вас из мрачной тины, в которой вы копошились, проклиная свою судьбу. А теперь, вы стали миллионером, и вы презираете графа за то, что он вполне законно прибавляет к своим доходам, вывозя американскую наследницу в общество, в которое она никогда бы не проникла без его помощи. А вы сами намереваетесь просить руки дочери графа и забываете, что ваш род не род владетельных князей!
— Мой отец был джентльмен, — сказал я не без гордости, — и потомок джентльменов. Мы никогда не были простыми людьми, — наш род был уважаем во всей провинции.
Лючио улыбнулся.
— Я в этом не сомневаюсь, мой друг, нисколько не сомневаюсь; но простой джентльмен стоит или гораздо выше, или гораздо ниже графа. На этот счет у каждого свое мнение; в наше время никто не гордится древним родом, должно быть благодаря поразительному, невежеству представителей древних родов.
И так случается, что пивовары делаются «пэрами» и простые торговцы получают титулы; старые дворянские семьи так оскудели, что они принуждены продавать родовые имения или железнодорожным тузам, или изобретателям какого-нибудь нового удобрения: Ваше положение несравненно лучше, так как вы не знаете, откуда происходят ваши миллионы.
— Вы правы, — ответил я задумчиво; потом внезапно вспомнив свой разговор с поверенными, я прибавил: — я забыл вам сказать, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу и что ценой его души и было это колоссальное состояние!
Лючио резко засмеялся.
— Не может быть! — воскликнул он. — Какая странная мысль! Старик, должно быть, потерял рассудок. Человек со здравым умом не верит в существование дьявола, в особенности в наши передовые времена… Что же поделаешь? Безумие человеческого воображения не имеет пределов. Но вот мы и доехали, — добавил он, когда карета остановилась перед гранд-отелем, — желаю вам спокойной ночи, Темпест, я с вами не войду, так как обещался попытать счастье на зеленом столе.
— Вы будете играть? Где?
— В одном из избраннейших клубов. Ведь в нашей просвещенной столице азартные игры допускаются чуть ли не во всех клубах, так что Монте-Карло не приходится посещать… Но может быть, вы поедете со мной?
Я был в нерешительности. Чудный образ леди Сибиллы наполнял мой ум, и в приступе сентиментальности, я подумал, что было бы жаль осквернить священные мысли о ней забавой низшего разряда.
— Нет, сегодня не могу, — ответил я с улыбкой, — но, — прибавил я, — для людей, играющих с вами, мне кажется, удовольствия мало… Вы можете проиграть страшно много без ущерба для себя, а они нет.
— Так отчего же они играют? человек обязан знать и сколько у него свободных денег, и есть ли у него достаточно силы воли, чтобы остановиться вовремя. Однако мой долголетний опыт доказал мне, что игроки страстно любят шоу; а меня забавляют чужие страсти; я вас повезу с собой завтра, если это вас интересует, но будьте спокойны, я не дам вам особенно проиграться.
— Хорошо, поедем завтра, — согласился я, боясь своим отказом показаться скупым, — а сегодня я напишу несколько писем, а потом лягу спать.
— Желаю вам увидеть во сне леди Сибиллу, — засмеялся Лючио. — Если в будущий четверг она покажется вам такой же очаровательной как сегодня, то советую вам выставить свои батареи, — и, весело махнув рукой, князь захлопнул за собой дверцы кареты, и лошади быстро помчались по туманным и мокрым улицам города.
Глава девятая
Мой почтенный издатель Моррисон, тот самый, который сначала отверг мою книгу, теперь же, имея в виду собственную выгоду, прилагал все усилия, чтобы издать мое произведение по всем правилам искусства; к нему нельзя было бы применить слова «благородный», он не принадлежал к старой фирме издателей, долгосрочность которой как бы оправдывала систему обсчитывать несчастных авторов; это был человек новый, самодельный, с большой дозой наглости и нахальства. Несмотря на это, он был умен и ловок и уже успел привлечь к себе милость большей части печати; доказательством этого служило то, что журналы и газеты давали предпочтение его изданиям над изданиями больше уважаемых фирм. В утро после моего первого знакомства с графом Эльтоном и его дочерью, я зашел к Моррисону, и он немедленно начал излагать мне свои дальнейшие планы.
— Ваша книга выйдет на будущей неделе, — сказал он, радушно потирая руки и глядя на меня с глубоким уважением, вызванным моими миллионами. — Так как расход для вас безразличен, то вот что я намерен сделать; я выпущу в нескольких газетах предупредительную, рецензию: скажу, что «ваша книга создаст новую эру для мыслителей» или же, что «всякий кто дорожит мировым прогрессом, должен прочитать это произведение», или еще: «книга мистера Темпеста касается одного из самых жгучих вопросов нашей эпохи». Эти фразы производят страшное впечатление, в особенности последняя, несмотря на то, что она более или менее избита; малейший намек на жгучий вопрос нашего времени вызывает в публике мысль о чем-то «неприличном, и книга раскупается нарасхват». И Моррисон засмеялся, как бы радуясь собственному остроумию; я молчал, и забавы ради наблюдал за ним. Этот человек, решение которого я ждал с таким томительным нетерпением каких-нибудь шесть недель тому назад, теперь стал моим орудием, готовым за известную плату всячески угодить мне, и я слушал его со снисхождением, пока он ревностно излагал мне способ добывания славы для меня и массу денег для себя.
— Я уже пустил в ход рекламу, — продолжал он, — и расходов не пожалел, — пока еще заказов мало, но они несомненно будут. Рецензию я хочу поместить в восьмистах газетах здесь и в Америке, это нам обойдется в тысячу фунтов. Вы, ничего против не имеете?
— Ничего, — ответил я.
Великий издатель слегка задумался, потом, придвинув свой стул ближе к комнате, шёпотом сказал:
— Вы, надеюсь, поняли, что первый выпуск будет состоять лишь из двухсот пятидесяти экземпляров?
Я возмутился:
— Это даже смешно, — сказал я, — такое минимальное число не в состоянии удовлетворить спрос на книгу.
— Подождите, дорогой мистер Темпест, не горячитесь, Вы мне не даете время объясниться. Все эти пятьдесят экземпляров будут розданы мной в день их появления… это необходимо
— Но для чего?
— Как для чего? — и достопочтенный Моррисон сладко улыбнулся. — Я вижу, дорогой мистер Темпест, что вы, как и большинство гениальных людей, не понимаете торгового дела… Мы раздаем двести пятьдесят экземпляров даром, для того, чтобы иметь право напечатать следующее объявление: «Первое большое издание нового романа Джеффри Темпеста раскуплено в день появления, второе издание уже находится в печати»; этим способом мы дурачим публику, которая не может знать, было ли первое издание в двести экземпляров или в две тысячи.
— Но неужели вы, находите такой образ действий честным? — спросил я.
— Честным, дорогой сэр? Вы сказали честным?
Лицо Моррисона приняло выражение оскорбленного достоинства, — конечно, это вполне честно. Просмотрите газеты; вы нападете на сотню таких же объявлений, к сожалению, их стало чересчур много! Сознаюсь, что есть несколько издателей, которые публикуют, сколько экземпляров было в первом издании и какого числа вышло второе, — но это совершенно не нужно и только причиняет лишние хлопоты. Публика любит, чтобы ее надували, зачем же, мне ублажать ее? Но возвратимся к делу. Второе издание мы разошлем в провинцию и сейчас же опять объявим, что второе издание вышло, и третье в печати, и т. д. до шестого или седьмого издания, тогда уже можно будет приступить к продаже, для этого тоже нужна известная тактика. Но мы еще успеем об этом поговорить. Объявления, конечно, даром не обойдутся, но если вы ничего против не имеете….
— Ничего, — перебил я его, — лишь бы мне позабавиться…
— Позабавиться? — повторил Моррисон в недоумении, — а я думал, что вы добиваетесь славы!
Я громко рассмеялся.
— Да разве слава добывается объявлениями? Я не достаточно глуп, чтобы этого не понять.
— Может быть, вы и правы, — задумчиво качая головой, согласился Моррисон. Его веселое, настроение внезапно изменилось; он стал почти сумрачным. — Не понимаю, почему некоторые писатели, несмотря на все свои усилия, не достигают славы, — сказал он, наконец. — Их имена печатаются огромными буквами, но это бесполезно, они не становятся известными, других авторов бранят и ругают, но славы у них отнять не могут… Вы слыхали должно быть про мисс Клер? Ее ругают постоянно и, несмотря на это, ее слава растет не по дням, а по часам; ее знают все, хотя она далеко не богата. Но вернемся к делу. Не знаю, как критики отнесутся к вашей книге. Первоклассных критиков всего шесть или семь, но с ними приходится считаться, в особенности с Маквингом; это шотландец, который суется повсюду, пишет обо всем и пользуется репутацией человека просвещенного. Если вы можете заручиться Маквингом, то об остальных не стоит и говорить; что он скажет, другие повторят. Но вам следует его подмаслить, а то шутки ради, он разнесет вас.
— Это ничего не значит, — сказал я уверенно, — легкая брань только ускорит продажу книги.
— Иногда да, — согласился Моррисон, задумчиво поглаживая свою бородку, — но в иной раз это может повредить; когда произведение бросается в глаза своей оригинальностью или смелостью, то брань весьма полезна. Но ваша книга требует деликатного обращения и похвалы
— Понимаю! — перебил я его, не будучи в силах скрыть своего негодования, — вы не считаете мою книгу талантливой.
— Милый сэр, вы право слишком резки, — перебил меня Моррисон улыбаясь. — Я нахожу, что ваша книга выказывает и уменье, и деликатность мыслей, если я нахожу в ней какие-то погрешности, то это, пожалуй, только доказывает мое собственное невежество. Но как бы это выразить? По-моему, ваш роман недостаточно приковывает внимание читателя. Положим, что это можно сказать почти про все современные произведения; эти писатели прочувствовали достаточно сами, чтобы заставить почувствовать других.
Я ничего не ответил и невольно вспомнил слова Лючио.
— Что же? — сказал я после, довольно долгого молчания, — если в то время я ничего не чувствовал, то теперь я чувствую гораздо меньше. Неужели вы не понимаете, что когда я писал, то прочувствовал каждую строчку, испытывая при этом чуть ли не физическое страдание?
— Простите, простите меня, — стремительно извинился Моррисон, — но может быть, вы только думали, что вы страдаете, — это обычный самообман литераторов. Видите, чтобы убедить публику, вы должны быть сами убежденным, это действует на людей так же притягательно, как магнит. Но бросим говорить об этом; я рассуждать не умею и, сознаюсь, просмотрел вашу книгу без особенного внимания, так что оттенки, конечно, ускользнули от меня. Во всяком случае, мы употребим все усилия, чтобы добиться успеха; прошу вас только об одном, — это лично переговорить с Маквингом.
Я обещался исполнить его просьбу и на этом мы расстались.
Наш разговор убедил меня, что Моррисон обладает большей долей проницательности, чем я предполагал, и его замечания невольно навели меня на не очень приятные размышления. Если, как он уверял, я не в состоянии удержать внимание читателя, то впечатление получится отрицательное, и мой роман переживет не более одного сезона. О славе, и думать было нечего, конечно, помимо той славы, которую могут мне купить мои миллионы. Я вернулся к себе не в духе, и Лючио сразу это заметил. Я передал ему свой разговор с издателем, и князь тоже посоветовал мне заручиться расположением Маквинга.
— Но как? — спросил я, — я встречал его имя в печати, но лично я его не знаю, не могу же я поехать к нему и просить его благосклонной поддержки?
— Конечно, нет, — засмеялся Лючио, — если бы вы это сделали, то наплакались бы потом. Он поднял бы вас на смех на следующий же день. Нет, нет, мой дорогой, мы обойдем Маквинга, только иначе; хотя вы не знаете его, я с ним знаком.
— Вот это хорошо, — обрадовался я, — вы, кажется, знаете всех!
— Да, действительно, я знаком почти со всеми, с которыми стоит знакомиться. Спешу, однако, добавить, что Маквинга я не считаю особенно стоящим; не беспокойтесь, мы его обойдем, а теперь пора обедать.
Мы сели за стол вместе, как это часто случалось, и во время обеда речь шла исключительно о деньгах. Я поместил свои деньги в. разные предприятия под руководством Лючио и обсуждение этих важных дел заняло довольно много времени. В одиннадцать часов вечера мы решили попытать счастье в игорном доме и, так как ночь стояла ясная, — почти морозная, мы отправились туда пешком. Клуб находился в боковой улице, прилегавшей к самому аристократическому кварталу Лондона. Снаружи, он ничего из себя не представлял, но внутри он был богато отделан, хотя без вкуса. Роль хозяйки исполняла дама с подведенными глазами, принимавшая в гостиной англо-японского стиля. Ее взгляды и манера говорить подчеркивали ее положение дамы полусвета; это была одна из тех несчастных «дам с прошлым», о которых привыкли говорить, как о невинных жертвах мужского разврата. Лючио шепнул ей что-то на ухо; она взглянула на меня, улыбнулась и позвонила. На ее звонок явился весьма приличный лакей во фраке, и по приказанию хозяйки повел нас в верхний этаж. Наших шагов не было слышно, так как мы шли по ковру мягкому, как мох; вообще я заметил, что в этом доме было бесшумно; двери были обиты тяжелым сукном и открывались без малейшего скрипа. На верхней площадке человек еле слышно постучал в боковую дверь; ключ повернулся в замке и мы вошли в ярко-освещенную длинную залу, где толпилась масса людей играющих в «баккара» и «красное и черное». Некоторые из них поклонились князю и с любопытством взглянули на меня; для большинства же из гостей наш вход остался незамеченным Лючио взял меня за руку; мы уселись около одного из зеленых столов и стали наблюдать за ходом игры, — мало-помалу крайнее возбуждение, царившее в зале, передалось мне; это было нечто в роде затишья перед страшной грозой. Я узнал многих сановников, людей хорошо известных в политическом и общественном мире, и был поражен, что они как бы оправдывали своим присутствием существование вполне незаконного игорного дома. Но я старался не выразить своего удивления и продолжал следить за игрой с таким же безмолвным равнодушием, как мой приятель Лючио. Я готовился и проиграть, и выиграть, но конечно не предвидел той прискорбной сцены, которая внезапно разыгралась и в которой я был невольным участником.
Глава десятая
Когда игра, за которой мы наблюдали, пришла к концу, игроки встали и приветствовали Лючио с неподдельным восторгом.
Я инстинктивно понял по их манерам, что они считали князя за самого влиятельного члена клуба. Лючио перезнакомил меня со всеми, и мое имя произвело ожидаемое впечатление. Мне предложили сыграть в баккара, и я охотно согласился. Ставки были крайне высоки, но меня это конечно не пугало. Один из игроков, сидевших рядом со мной, был граф Линтон, белокурый молодой человек, с красивым лицом и благородным видом. Он сразу поразил меня тем, что постоянно удваивал ставки, как мне показалось, только чтоб поразить зрителей; когда он проигрывал, и это случалось очень часто, он громко хохотал, как пьяный или сумасшедший.
Когда я начал играть, то был вполне равнодушен, и мне было безразлично, выигрываю я или проигрываю. Лючио не присоседился к нам, но уселся в стороне и, как мне казалось, неотступно наблюдал за мной. Слепая судьба относилась ко мне более чем благосклонно; я все выигрывал, и с моим выигрышем росло и мое нервное возбуждение; мало-помалу мое настроение изменилось, и я страстно пожелал проиграть. Должно быть, это было вызвано инстинктивным чувством жалости по отношению бедного Линтона. Он, казалось, обезумел при виде моего счастья и продолжал вести отчаянную игру с осунувшимся лицом и лихорадочными глазами. Остальные игроки обращали меньше внимания на свои проигрыши или, пожалуй, более умело скрывали свое волнение, — но как бы там не было, мне серьезно захотелось, чтобы счастье повернулось в сторону молодого графа. Но мои желания были тщетны. Я выигрывал все больше и больше… наконец, игроки встали, и Линтон поднялся вместе с ними.
— Ну, у меня карманы опустели — объявил он с хриплым смехом. — Я надеюсь, что завтра вы мне дадите реванш, мистер Темпест?
— С удовольствием.