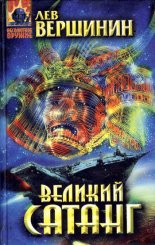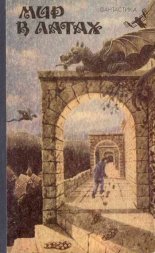Короля играет свита Арсеньева Елена
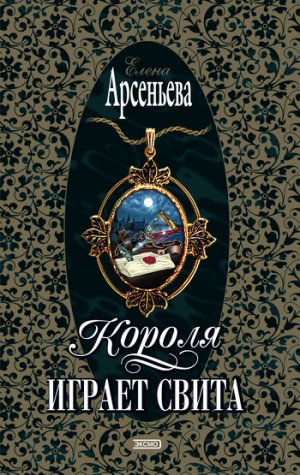
– Вы это про что? – пробормотал Алексей, отчетливо понимая теперь, что испытал однажды Прошка, когда молочный братец «наградил» его по голове валиком от старинного турецкого дивана (валик тот, если кто не знает, был в два обхвата и весил чуть не полпуда).
– Про завещание человека, который некогда пустил вашего деда по миру, мон шер, – небрежно ответствовал Бесиков. – Ведь это был его родной брат, а значит, отец господина Талызина. Перед смертью он начисто рассорился с сыном за его шашни с масонами да со всякими там иоаннитами-госпитальерами и, в отместку ему, отказал все свое, за карточным столом в одночасье нажитое и в процентные бумаги помещенное, состояние старшему внучатому племяннику, который первым родится у сестер Анны и Марии. То есть вам, Алексей Сергеевич Уланов, поскольку вы первый и единственный сын своей матушки, ну а тетушка, как нам уже известно, детьми обзавестись не позаботилась. Я не оправдываю господина Талызина за его махинации с батюшкиным завещанием, однако же, сударь, наказывать за обман таким непререкаемым образом – это, воля ваша, как-то слишком уж жестоко! Не могли разве поладить добром?
– Вы, что ли, со мною шутите? – пролепетал Алексей, окончательно переставая что-либо понимать, однако Бесиков только усмехнулся прежней своей, кривой и неприятной усмешкой, а Варламов, давно уже помалкивавший, разомкнул наконец уста, чтобы ответить:
– Какие уж тут шутки, сударь! Все очень серьезно. Вполне возможно, найденное завещание не стало для вас неожиданностью. Не исключено, что тетушка наконец поведала вам всю правду, вот вы и решили разобраться с подловатым дядюшкой по-своему, по-молодецки. Вещички в дом не вносили, предполагая скрыться тотчас по совершении преступления. Вы надеялись, что труп обнаружит кто-то из слуг, и тогда вы появитесь, изобразив дело так, будто вот только что сейчас прибыли. Однако спиритус вини доводило до самых крайних глупостей-несообразностей и людей покрепче вас, глупой деревенщины. Некоторым образом понятно: захотелось после злодеяния промочить глотку, взбодриться маленько. Убивать, наверное, вам пришлось впервые?
Алексей несколько мгновений тупо смотрел в его широкое лицо, а потом оно как-то все полезло вдруг в разные стороны, словно Варламова тянули враз за щеки, за уши и за куцый паричок, затем подернулось серенькой дымкою, и рассыпчатый голос с насмешливым недоумением воскликнул:
– Вот те на! У нашего красавчика никак обморок?
«Прекратите говорить глупости, господин Бесиков!» – хотел сердито воскликнуть Алексей, но не смог, потому что это и впрямь был обморок.
Июнь 1790 года
... – Обещаешь ли ты иметь особое попечение о вдовах, сиротах, беспомощных и о всех бедных и скорбящих?
– Да, о высокочтимый.
Голос молодого человека, стоявшего посреди лужайки на коленях с зажженной свечой в руках, звучал негромко, серьезно, веско. Он был облачен во что-то вроде свободной, не подпоясанной рясы, что означало полную свободу, которой новициат[6] наслаждался до посвящения в рыцарское достоинство. За несколько дней до обряда посвящения он уже принял обет послушания, целомудрия и бедности, дал клятву отдать свою жизнь за Иисуса Христа, за знамение животворящего креста и за братьев своих. Теперь он не имел права не только жениться, но даже держать у себя в доме (хотя бы для работы по хозяйству!) «родственницы, рабыни или невольницы моложе 50 лет». После этого он получил рекомендации от проверенных, испытанных «братьев-иоаннитов» – ближайшего друга великого князя Павла Петровича, князя Куракина, и шефа кавалергардского корпуса князя Владимира Долгорукова – и вот дождался дня посвящения в рыцари. Ну что же, Талызин был вполне достоин этого. Не обремененный патриотизмом, поскольку воспитывался в Штутгарте, в Высшей герцога Карла школе и даже получил там патент на награды за французский язык и всеобщую историю, он вернулся в Россию, переполненный мистическими настроениями, что, впрочем, не мешало ему отлично служить. В 1784 году он был произведен в прапорщики Измайловского полка, через год – в подпоручики, а сейчас уже имел чин капитан-поручика и не сомневался, что самое большое через год получит звание капитана.
Чернобровый и черноусый, румяный и смуглый мужчина в черном полукафтане, на который был натянут ярко-красный супервест[7], а поверх всего накинута черная мантия, – сам бальи[8] Юлий Литта, исполнитель обряда, возвышавшийся над коленопреклоненным худощавым Талызиным, словно гора, показал ему меч со словами:
– Меч сей дается тебе для защиты бедных, вдов и сирот и для поражения врагов святой церкви.
Посвящаемый получил три удара по правому плечу обнаженным мечом плашмя. Удары были довольно чувствительные, но молодой человек вытерпел их не дрогнув, только вскинул на Литту свои карие глаза и обменялся с ним коротким взглядом. Оба они знали, что приниматель пропустил в установленной формуле одно слово. Оно всегда пропускалось при посвящении в рыцари русских неофитов. Только одно слово – но из-за того, что оно было опущено, обряд выглядел более безобидным, более внешним, он словно бы утрачивал свой особый смысл. Однако можно было утешаться тем, что, хоть это слово и не было произнесено вслух, оно прозвучало в сердцах и принимателя, и Талызина. Особенно Талызина!
Менее суровым голосом, тая улыбку в глубине своих очень красивых черных очей, Литта произнес:
– Такие удары наносят бесчестье дворянину, однако это будет последним твоим бесчестьем. Талызин поднялся с колен, принял у бальи меч и трижды потряс им. Надо полагать, это движение вселяло страх и трепет в ряды противников святой церкви и Мальтийского ордена.
Литта вручил неофиту золотые шпоры:
– Шпоры сии служат для возбуждения горячности в конях и постоянно должны напоминать тебе о той горячности, с какой ты должен теперь исполнять даваемые тобой обещания. Золотые шпоры, которые ты наденешь на свои сапоги, могут быть и в пыли, и в грязи, но означает сие, что ты должен презирать сокровища, не быть корыстным и любостяжательным.
«Умение сидеть на двух стульях может ли быть отнесено к корысти?» – подумал мельком Талызин и тотчас отогнал эту совершенно неуместную в данный момент, можно сказать, кощунственную мысль.
– Подтверждаю свое твердое намерение вступить в знаменитый орден Святого Иоанна Иерусалимского, – так же веско и серьезно, как говорил прежде, произнес он.
– Хочешь ли ты повиноваться тому, кто будет поставлен над тобой начальником от имени великого магистра? – вопросил Литта.
– Обещаю лишить себя всякой свободы.
– Не сочетался ли ты браком с какой-нибудь женщиной?
– Нет, о высокочтимый!
– Не состоишь ли ты порукою по какому-нибудь долгу и сам не имеешь ли долгов?
– Нет, о высокочтимый!
Литта подал новициату раскрытый «Служебник». Талызин произнес установленную формулу:
– Клянусь до конца своей жизни оказывать беспрекословное послушание начальнику, который будет дан мне от ордена или от великого магистра, жить без всякой собственности и блюсти целомудрие.
Показывая свое беспрекословное послушание, неофит по приказу Литты пронес «Служебник» мимо собравшихся, показывая каждому, и вернул принимателю. Теперь настало время чтения молитв. Талызин облизнул губы, набираясь терпения, и начал читать. Сто пятьдесят раз прозвучало «Отче наш» и столько же раз «Канон богородицы» – разумеется, по-латыни.
Солнце припекало. Время шло. Толпа зрителей, собравшихся посмотреть обряд посвящения, переминалась с ноги на ногу, считая минуты и в душе проклиная все на свете, а более всего – невысокого, очень некрасивого человека в красном супервесте с нашитым на груди мальтийским крестом, поверх которого были надеты блестящие латы. Голова его была покрыта тяжелым шлемом, открывающим лицо. Истово смотрел он на бальи Литту и посвящаемого и, похоже, единственный испытывал настоящий восторг от затянувшейся церемонии.
Он был в ритуальной одежде мальтийского рыцаря. Носить ее имели право только те «братья», которые «при их набожности и других добродетелях» внесли в орденскую казну единовременно четыре тысячи скудо[9] золотом. Почти всем присутствующим была по карману эта сумма. Другое дело, что человек в латах желал быть в своем роде единственным. Ратуя за всеобщее равенство (прежде всего в одежде), великий князь Павел Петрович (а это был он) все же приказал остальным «братьям» явиться в обычных одеждах госпитальеров – черных суконных мантиях с очень узкими рукавами (это означало отсутствие свободы у посвященного). Головы были покрыты черными монашескими клобуками. На левом плече мантии был нашит крест из белой ткани: восемь концов его означали восемь блаженств, которые ждут в загробном мире душу праведника.
Строго говоря, в последнее время «братья» предпочитали модные одеяния из бархата и шелка. Стальные шлемы и черные клобуки отошли в область преданий, как и тяжелые ремни, которые некогда поддерживали неуклюжую рыцарскую броню. Однако Павел Петрович обожал внешние обрядные проявления, а оттого даже и женщины – среди членов ордена в России их было немало, прежде всего великая княгиня Мария Федоровна и признанная фаворитка Павла Екатерина Нелидова, – явились нынче в строгих черных рясах с белым мальтийским крестом на груди и левом плече, в суконных мантиях и остроконечных черных клобуках. Покрывала тоже были черные.
Право слово, на этих людей стоило посмотреть стороннему наблюдателю! Для них для всех это была такая же придворная обязанность, как выезды верхом, присутствие на приемах или на парадах гатчинской гвардии, на балах. Причуда Павла была всего лишь его причудой, раздражавшей самых близких ему людей и самых искренних друзей. Однако... чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Давно уже было подмечено, что обряды ордена, сам вид мальтийского креста производили на Павла умиротворяющее впечатление. Безразлично, где сии обряды проводились, был ли крест вырезан из белой ткани, был ли он золотой эмалированный, носимый на шее или в петлицах, или простой медный «донат», который жаловался от имени великого князя низшим военным чинам за двадцатилетнюю «беспорочную службу», – беспокойная, суетливая, язвительная натура великого князя смягчалась. А это дорогого стоило в глазах его приближенных. Именно поэтому они с видимым удовольствием играли в его игрушки и все как один прошли в свое время ту же длинную, утомительную процедуру, которую переносил сейчас капитан-поручик Талызин. Наконец чтение молитв было закончено. Вздремнувшие взбодрились, зевавшие проглотили последний зевок и придали своим лицам выражение того же восторга, которым неустанно светилось лицо великого князя.
Литта показал на край поляны, где были разложены некие предметы:
– Воззри на сие вервие, бич, копье, гвоздь, столб и крест. Вспомни, какое значение имели предметы сии при страданиях господа нашего Иисуса Христа. Как можно чаще думай об этом.
Затем бальи набросил Талызину веревку на шею:
– Это ярмо неволи, которое ты должен носить с полной покорностью.
Собравшиеся повеселели. Дело близилось к концу! Раздались рыцарские псалмы, под звуки которых вновь вступившего облачили в новенький супервест, а потом каждый рыцарь троекратно поцеловал в губы своего собрата. Особенно старались великий князь, бальи Литта, Куракин. Даже дамы вели себя гораздо сдержанней. Знаток всеобщей истории, Талызин вспомнил, что поцелуи, принятые между лицами одного пола, были некогда отдельно инкриминированы ордену рыцарей Храма, тамплиерам, французским королем Филиппом Красивым. Это весьма отягчило положение тамплиеров на суде, ибо разврата ни в какой форме, тем паче в противоестественной, строгий Филипп не терпел.
Впрочем, в обрядах всех орденов есть свои странности. Талызин вспомнил: вот он преклоняет колени перед алтарем. Глаза его завязаны, рубашка распахнута, штанина на левой ноге до колена засучена, правый сапог снят. Он берет левой рукой циркуль и приставляет его к обнаженной груди: как раз там, где бьется сердце. Преподобный мастер осторожно касается циркуля молотком, и Талызин ощущает болезненный укол:
– Заключен союз на всю жизнь! Дайте свет свободному, ищущему правду каменщику!..
Ну, благодарение богу, мальтийские рыцари хотя бы не причиняют человеку боли в отличие от масонов. В ложу «вольных каменщиков» Петр Талызин вступил еще в Штутгарте. Но в России масоны не в чести, императрица их не переносит, хотя и доверила одному из них, Никите Панину, обучение и воспитание собственного сына. Результат воспитания ненависти к собственной матери и собственному Отечеству превзошел все ожидания! Однако не странно ли, что сердце великого князя повернулось не к масонам, а к безнадежно устаревающим, гибнущим ритуалам Мальтийского рыцарства? Ну что ж, около какой реки жить, ту и воду пить, а потому Петр Талызин с восторгом принял на себя звание еще и рыцаря Мальтийского ордена. Возможно, иоанниты и впрямь воспрянут на российских просторах. Талызин надеялся: если госпитальеры не закоснеют в своих неуклюжих обрядах, если сумеют влить в свои старые вены довольно молодой, свежей крови, сделаться Павлу истинными помощниками в руководстве государством (ну умрет же когда-нибудь Екатерина, станет же Павел когда-нибудь императором!), значит, придет-таки день, когда и в России (сейчас сугубо православной) можно будет смело произносить полную, не искаженную формулу при посвящении новичка в рыцари Мальтийского ордена:
– Меч сей дается тебе для защиты бедных, вдов и сирот и для поражения врагов святой католической церкви.
Наконец-то началось само празднество в честь Иоанна Иерусалимского. Мальтийские кавалеры молча прошли по лужайке вокруг разложенных накануне костров, после чего бальи Литта и великий князь собственноручно подожгли костры-жертвенники. Сухой дым возносился к темнеющему небу, отблески пламени казались ярче заходящего солнца.
Павел неотрывно смотрел в огонь, и по его курносому лицу текли слезы. От едкого дыма? От искреннего умиления? Чудилось, он видел другие костры, на которых некогда рыцари сжигали в Палестине свои бинты и повязки, пропитанные кровью от ран, полученных в боях за Гроб Господень. Душа его очищалась.
Во всей особе Павла, в его походке, манере одеваться, держать себя было что-то претенциозное и театральное, напоминающее карикатуру. В сей миг это была карикатура на вдохновение.
Апрель 1801 года
Еще по пути в Петербург приснился нашему герою сон. Увидал он себя посреди какой-то темно-серой местности. Подробности ландшафта были неразличимы, не поймешь спроста, что это: степь, лес, горы, потому что все таяло в гнусном сером мареве. Алексей вроде бы находился там, но в то же время смотрел на себя со стороны, и то, что он видел, ему чрезвычайно не нравилось. Всегда считал себя и ростом повыше, и в плечах пошире, и лицом покрасивее. Здесь же стоял перед ним какой-то обросший светлой щетиною, осунувшийся доходяга с затравленным, исподлобья, взором. На доходяге были порты, лапти, армяк и мужицкая шапка. Сделать вывод, что пред ним стоит самый затрапезный из его мужиков – бобыль Тиша, – Алексею помешало лишь то, что глаза у Тиши были карие, а у этого доходяги – голубые. Фамильные улановские глаза, у отца были такие же, и они не выцвели до глубокой старости.
Тут Алексей окончательно признал в мужике себя и пробудился весьма огорченный, ибо сон такой мог привидеться только к дурному. Произошло это уже на подъезде к Петербургу, и Алексей, помнится, тогда подумал, что уместнее было бы увидеть себя в блестящем мундире кавалергарда: ведь он ехал в столицу, чтобы совершать подвиги в гвардии и блистать при дворе!.. Но потом множество новых впечатлений заставило позабыть о сне, а теперь видение припомнилось, потому что начало сбываться с ужасающей, неправдоподобной быстротой.
Лишившись чувств в доме генерала Талызина, Алексей очнулся от дорожной тряски и долго не мог сообразить, где он и что с ним, потому что все вокруг погромыхивало и колыхалось. Крохотный огонечек светца под потолком не мог развеять сгустившегося вокруг мрака, и на какое-то мгновение Алексей возомнил, что все еще трясется в соседском возке, все еще в Петербург не прибыл, а стало быть, ужасные, кошмарные события в его жизни еще не свершились.
Вот и великолепно! Ввек бы им не свершаться!
Правда, он немедленно почувствовал укол сожаления, потому что с одним происшествием расставаться нипочем не желал бы, но тут какая-то тень завозилась в углу экипажа, надвинулась на Алексея, так что слабый лучик на миг ее высветил. Алексей увидел тяжелое лицо Дзюганова и понял, что жизнь – реальная, суровая! – вновь заключила его в свои крепкие объятия. И те колючие тернии, которые вдруг выросли на пути его жизни, никак сами собой не выкорчевались, стоят стеной по-прежнему.
– Очнулись? – прогудел Дзюганов. – Ну вот и ладненько. Мы уж на месте. Выходить пора. – Он распахнул дверцу кареты и вышел сам, махнув Алексею: – Извольте следовать за мною, сударь.
Тот, с трудом владея замлевшими ногами, выбрался в сырую, черную, ветреную ночь. Слышался плеск воды, бьющейся в какую-то преграду, и, когда глаза Алексея привыкли к темноте, он сообразил, что стоит на речной набережной, а вода бьется в камень.
– Где?.. – начал было Алексей. Он хотел спросить: «Где я?» – но осекся, потому что Дзюганов ткнул его в бок, приказав:
– Спускайтесь, сударь.
Да-да, приказал! Без всяких там «извольте» и «пожалуйте», словно имел дело не с дворянином и помещиком Алексеем Улановым, а с каким-то одяжкою[10], не заслуживающим не то что почтения, но и самой малой человечности.
– Куда ты меня? – невольно задохнулся Алексей, узрев, что Дзюганов подталкивает его к мокрым ступеням, ведущим чуть не к самой Неве: лишь малая гранитная полоска, заваленная темным, рыхлым, еще не растаявшим снегом, отделяла берег от воды.
– Испужались? – ухмыльнулся тот. – Небось решили, сейчас Дзюганов скрутит вас, на шею камень навяжет – и буль-буль-буль? Да на вас и камня не понадобилось бы, – хмыкнул он с откровенным презрением. – Вдарить по башке кулачком покрепче – и лопнет она, что ореховая скорлупа. А потом волна невская, пособница, все смоет... Да стойте крепче, сударь, не шатайтесь, ничего я вам не сделаю. Приказ есть приказ, а велено мне всего лишь доставить вас в крепость. Там вам камеру определят – потеснее да посырее. Ничего, еще маленько поживете. Хотя, будь моя воля... – Он вдруг приблизил лицо, показавшееся в полутьме огромным, к лицу Алексея и прошипел, обдавая узника горклым табачным духом: – Будь моя воля, ты б до крепости не доехал. Я б с тобой без всякого суда разобрался, был бы тебе и судией, и палачом за то, что ты такого человека, как господин генерал Талызин, смерти предал. Ну ничего, придет срок, с тобой еще разочтутся, как за генерала, так и за императора.
– Не убивал я никакого императора. И генерала не убивал! – воскликнул Алексей, которому уже давно казалось, что земля и небо ни с того ни с сего поменялись местами. Во всяком случае, его бедный разум давно уже воспринимал происходящее именно так.
– Никшни! – пренебрежительно махнул на него Дзюганов. – Опять завел свою шарманку! Юродствуешь, недоумка из себя строишь? Ладно! Скоро с тобой по всем статьям разберутся!
Вслед за тем Дзюганов махнул рукой куда-то в сторону и зычно свистнул. Послышался плеск весла, и совсем скоро из тьмы показалась и закачалась у ступенек набережной малая лодчонка, в которой горбился солдат, неловко расставивший ноги, скованные чрезмерно высокими сапогами. Было такое впечатление, что шинелька ему длинна, потому что он то и дело перехватывал весла одной рукой и подбирал полы, которые падали с колен. Его лосины были сплошь испятнаны, потому что на дне лодчонки хлюпала вода.
– Ты что же, дурья башка, воду не вычерпал? – с отвращением спросил Дзюганов. – Или твоя лоханка протекает? Не затопнет посреди реки?
– Не извольте беспокоиться, ваше благородие! – воскликнул гребец тонким голосом. – Не затопнет. А в случае чего мы лишний груз в воду булькнем – и вся недолга.
Неизвестно, что доставило Дзюганову большее удовольствие: что его назвали «благородием» либо готовность солдатика избавиться от лишнего груза посреди темной, студеной Невы. Алексей же ни малейшего удовольствия не испытал: во-первых, потому, что никакого благородства в Дзюганове не находил, напротив, был тот сущее быдло; ну а во-вторых, оттого, что под лишним грузом подразумевался он сам, собственной персоною...
Кое-как забрались в пляшущую, шаткую посудину. Алексею приказали сидеть на носу, так что между ним и устроившимся на корме Дзюгановым находился гребец. К Алексею был обращен его затылок, обрамленный, по армейской моде того времени, туго завитыми пуклями. У нашего героя внезапно мелькнула мысль, что, окажись у него в руках какой-нибудь тяжелый предмет, он вполне мог бы навернуть гребца по голове, а когда тот сникнет в бесчувствии, выхватить из ножен его палаш, который топорщился сбоку и изрядно мешал грести. Таким образом он оказался бы вооружен против Дзюганова, и если в медвежьей драке в обхват тот мог бы заломать кого угодно, то в благородной схватке Алексей справился бы с ним в два счета. Ежели только у Дзюганова не спрятан под полою пистолет, который мигом сведет на нет все преимущества внезапного нападения...
Все это глупости, подумал Алексей. Ну, расправится он с солдатиком, прикончит Дзюганова и даже, может быть, скроет их под темной невскою волною. А дальше что? В бега ударяться? Жить таясь, навеки лишась права являться пред людьми? И вдобавок ко всему сделаться закоренелым грешником, на совести коего будут аж два смертных греха, два убийства – и не воображаемых Бесиковым, как убийство дядюшки-генерала, а самых настоящих: кровавых, обдуманных и хладнокровно свершенных.
О нет. Только не это! В Алексее еще жила вера в справедливый суд. Он надеялся встретить облеченного властью человека, который взглянет на него без той предвзятости, с какой смотрели Бесиков и Варламов, которым главное было свалить с плеч долой докучное расследование убийства, вот они и вцепились в первого попавшегося подозреваемого, даже не пытаясь искать кого-то другого.
Конечно, против Алексея много чего сошлось, особенно это дедушкино завещание дурацкое... прямо как нарочно! Однако же не пойман – не вор. За руку не схвачен – не убийца. Никто не видел, как он убивал дядюшку (прежде всего потому, что он никого не убивал!), а значит, перед лицом закона он не более виновен, чем тот же Бесиков. Нет, менее! Бесиков даже не пытался искать истинного виновника, а изо всех сил старался уверить Алексея, что убийца – именно он. Бесикову, Варламову и Дзюганову было совершенно неважно, кто на самом деле прикончил генерала Талызина. Им главное было – найти любого виновного. Этакого козла отпущения, которым они и сделали Алексея. А задержись он в пути на какой-нибудь час... или, напротив, появись раньше и застань генерала в живых... Все было бы тогда совершенно по-другому, он бы встретился с дядюшкой, но...
Вот именно – все было бы по-другому. Тогда Алексей не встретил бы ее!
И вдруг его словно ударило догадкою. Она сказала, что явилась к дядюшке для обсуждения важного дела, что дядюшка обещал ей протекцию у благоволившего к нему генерал-губернатора Палена для решения какой-то затянувшейся тяжбы. И Алексей поверил – потому что хотел поверить. Он с первой минуты гнал от себя мысли о том, что стол был накрыт не для какого-то там друга дядюшкина, а именно для нее, что должно было состояться не деловое свидание, а любовное!
Он так и не повидал генерала Талызина воочию, принужден был довольствоваться акварельным портретом, увиденным в кабинете. Ну что ж, таким человеком вполне могла увлечься даже самая привередливая красавица...
Алексей задохнулся от приступа ревности, и не скоро ему удалось вернуть мыслям подобие плавности.
Предположим, он прав в своих догадках. Намечалось свидание. Но об этом проведал супруг прекрасной дамы: она определенно женщина замужняя, не девица, уж в этом-то Алексей был удостоверен самым доказательным образом! Супруг явился к Талызину, опередив жену, и бросил в лицо генералу какие-то обвинения. Предположим, тот все отрицал, вообще вел себя дерзко и в конце концов так разъярил своего противника, что тот набросился на него и задушил. В таком случае он должен быть человеком недюжинной силы! Ну а потом, чтобы запутать дознавателей, убийца перетащил тело своей жертвы в спальню и там завалил подушками, придав событиям совершенно иной оборот.
Но, в таком случае она... то, что она сделала потом, как поступила... Разве порядочные дамы из общества так поступают?!
А впрочем, что Алешка Уланов, деревенщина, знает о дамах? Ровно ничего. Какое же право он имеет ее осуждать? Ведь она не знала, что ревнивый супруг убил ее любовника. И, может быть, – конечно, со стороны Алексея страшно самонадеянно так думать, но как же иначе объяснить все происшедшее?! – может быть, она ощутила к Алексею такое же странное, ошеломляющее влечение, какое он ощутил к ней, не смогла противиться чувствам, оттого и... оттого и случилось все так, как случилось. А потом она, напуганная собственной смелостью и настойчивостью Алексея, бежала прочь, оставив его погруженным не то в блаженный сон, не то в беспамятство: ведь с ним-то это произошло впервые!
Конечно, если бы Алексей рассказал Бесикову, что был в доме не один, тот непременно начал бы раскапывать все связи дядюшки и добрался бы до нее. Но Алексей скорее откусил бы себе язык, чем запятнал бы ее доброе имя... которого он, кстати сказать, и знать-то не знал. Нет, ему никак не возможно оправдаться, совершенно никак. А значит, остается уповать лишь на разумность судей – и на бога. Ну а если все пойдет совсем плохо...
С непостижимой ясностью нарисовалась в его воображении картина раннего апрельского утра. На просторной площади, заполненной народом, увидел Алексей высокий помост, именуемый среди людей образованных эшафотом. К эшафоту приближалась позорная колесница, на которой стоял бледный человек в черном суконном кафтане и черной шапке. На груди у него висела черная доска, исписанная белыми буквами. Эти буквы сообщали, что собравшиеся имеют несчастье зреть пред собою дворянского сына Алексея Сергеева Уланова, приговоренного к наказанию кнутом, вырыванию ноздрей и ссылке в каторгу за убийство своего родственника, генерала Талызина. Колесницу сопровождала рота солдат с барабанщиком, который выбивал глухую дробь, вызывавшую у зрителей невольную дрожь.
И вот Алексей увидал себя уже на эшафоте. Чернявый священник, чем-то схожий с Бесиковым, бегло напутствовал его и сунул к губам крест. Палач в красной рубахе обратил к осужденному свое лютое лицо, и Алексей заплелся нога за ногу, узнав в заплечных дел мастере Дзюганова... Он швырнул Алексея на кобылу, прикрутил к ней руки и ноги сыромятными ремнями, разорвал на преступнике рубаху сзади и спереди, оголив спину ниже пояса. Взметнул плеть и с криком: «Берегись, ожгу!» – обрушил ее на спину Алексея.
Тот содрогнулся от боли, невольно склонив голову, словно она уже была обезображена клеймом, пряча от людей лицо, на котором ноздри были вырваны нарочно сделанными клещами...
Господи! Да неужто придется испытать все это?!
Алексей вскинулся, судорожно тиская руки и суматошно озираясь. Лодка качнулась; солдатик, сидевший к нему спиной, сердито воскликнул:
– Эй, барин, чего шебаршишься? Бережней!
Он осторожно поднял оба весла и положил их на борта, словно утомился грести.
– Ты это зачем? – недоумевающе начал Дзюганов, однако не договорил, потому что солдатик пошарил под банкою, вытащил оттуда какой-то темный предмет и направил его прямо в грудь ражему охраннику.
«Пистолет? Откуда у него?..» – не успел поверить догадке Алексей. Громыхнуло, сверкнуло – на мгновение ярко высветилось ошеломленное, с распяленным ртом лицо Дзюганова, – а потом оно стало заваливаться куда-то назад, назад, пока вовсе не кануло вниз. Мелькнули высоко задранные ноги в сапогах, всплеснулась Нева – и жуткий Дзюганов навсегда исчез из лодки, а также из жизни Алексея и из нашего романа.
– Го-спо-ди! – выдохнул Алексей, когда смог наконец издать хоть какие-то членораздельные звуки, а произошло это, надо сказать, не слишком скоро. За это время застреливший Дзюганова солдатик успел поглядеть за борт, словно удостоверяясь, что убитый более не намерен всплыть и забраться в лодку; удовлетворенно кивнул, сунул за пояс сделавший свое дело пистолет и, повернувшись по правому борту, принялся напряженно вглядываться в темноту. Услыхав не то вздох, не то стон ошарашенного Алексея, он досадливо махнул на того рукой – не мешай, мол! – и даже руку ко лбу козырьком приставил, словно силился что-то разглядеть не во тьме, а при ярком свете. Однако раньше, чем удалось хоть что-то увидеть, из сырой ночи долетел звук усиленно гребущих весел, а потом встревоженный оклик – и хоть Алексея, казалось бы, трудно было удивить сильнее, чем он был удивлен, он все же изумился, ибо ночь говорила по-французски:
– Жан-Луи! Ты меня слышишь?
– Вперед! Сюда! – так же по-французски закричал солдатик, доселе изъяснявшийся самым что ни на есть акающим московским говорком.
Весла зашлепали ближе, и через миг из тьмы выявились очертания другой лодки, с одним только гребцом, который встревоженно вглядывался в солдатика и твердил:
– Господи, о Жан-Луи, какое счастье, что все кончено! Я до смерти боялся, что этот русский зверь сумеет тебя опередить!
– Ты меня всегда недооценивал, Огюст, – проворчал солдатик и обратился к Алексею: – Сударь, вы свободны. Не волнуйтесь – ваша камера в крепости останется пустовать. Но сейчас нам надобно очутиться как можно дальше отсюда, потому прошу вас перебраться в другую лодку.
– Что вы наделали?! – смог наконец воскликнуть Алексей, до которого только сейчас дошло, что на его шее теперь так-таки и висит не только воображаемое, но и вполне реальное убийство. – Кто вас просил?.. Как вы смели?.. Куда вы намерены меня везти?
– Туда, где находится особа, рискнувшая жизнью и честью ради вашего спасения, – ответил Огюст, и возмущенный вопль: «Чего она лезла не в свое дело?» – застрял в глотке Алексея.
«Особа, рискнувшая жизнью и честью ради вашего спасения...»
Во всем Петербурге у Алексея была лишь одна знакомая «особа», готовая ради него на все. Ведь она уже рискнула однажды – там, в доме дядюшки, – так отчего бы ей не рискнуть снова, на ночной Неве?! Он был изумлен, оскорблен, обижен, он страдал, когда, проснувшись, не отыскал ее рядом, а увидал только лишь злоехидного Бесикова со товарищи. Думал, она мгновенно забыла о нем, лишь разомкнула объятия, однако это не так! Это не так!
Остается дивиться, как она узнала об опасности, которая грозила ее нечаянному возлюбленному, как смогла так быстро предпринять усилия для его спасения. Алексей и дивился от всего сердца. На всем белом свете не сыскалось бы менее подходящего места для глупых, блаженных улыбок, чем лодка, качающаяся посреди ночной Невы, однако именно такая улыбка расплылась в этот миг по лицу нашего героя. Не поперечив более ни словом, он, поддерживаемый Огюстом, перелез в его лодку. За ним последовал Жан-Поль, а потом оба Алексеевых спасителя совместными усилиями перевернули ту лодку, из который недавно отправился в свое последнее плавание бедолага Дзюганов.
– Всякое в жизни бывает, – философски изрек Огюст, глядя вслед посудине, которую волны послушно понесли по течению. – Отправятся люди на лодке покататься, глядишь – и... А ведь амуниция тяжелая, вода наливается в сапоги. А они каменеют, тянут ко дну. Кто услышит крик о помощи посреди ночной Невы?! – Он сочувственно улыбнулся, глядя на довольно-таки ошалелое лицо спасенного: – Вижу, сударь, вы теряетесь в догадках? Ну да ничего, скоро все разъяснится. А пока... пока позвольте Жан-Полю завязать вам глаза. Извините, но нам был отдан категорический приказ. В таком деле, как освобождение государственных преступников, прежде всего – сохранение полной тайны!
– Как это – глаза завязать? – насторожился наш герой. – Зачем? Я не дамся! И отчего вы меня преступником называете? Я никакого преступления не совершал!
– Не только вы так полагаете, – согласился Огюст. – Мы тоже смотрим на это дело широко. Однако у официальных властей на сей счет свое мнение.
– Самое удачное место спорить о юриспруденции! – пробормотал Жан-Поль, брезгливо пожимаясь в своих насквозь уже промокших лосинах. – Не отложить ли его до прибытия хотя бы на берег? Воля ваша, господа, но позиция у вас обоих... как бы это поточнее выразиться... изрядно шаткая!
Он был прав в самом прямом смысле слова, ибо на Неве потихоньку поднималось волнение и с каждым мгновением лодочку покачивало все ощутимей.
– Давайте, сударь, – сказал Жан-Поль, помахивая черным шарфом, – подставляйте голову. И не станем более тратить времени на словопрения. Поверьте, время не ждет, как любите говорить вы, русские.
Алексей смотрел затравленно. Он и сам не знал, отчего ему было так страшно дать завязать себе глаза. Неизвестность, тьма, невозможность видеть, что с ним станут делать, как будет далее разворачиваться его судьба, – вот что пугало пуще всего. Честное слово, прикажи ему сейчас Огюст раздеться до исподнего, броситься в студеную воду и плыть саженками к берегу – он сопротивлялся бы с меньшим пылом. А дать завязать себе глаза и покорно ждать развития событий... Все возмущалось в душе нашего героя. Слишком отчетливо осознавал он, что внезапно сделался игрушкою неких сил, которые взяли его судьбу в свои руки и забавляются ею в свое удовольствие, даже не собираясь спрашивать его, Алексея, разрешения.
Вспомнил, как нянюшка для забавы маленького барина, бывало, шивала из тряпок человечка с разрисованной головой. В голове изнутри была оставлена дырка; нянька вставляла туда указательный палец, а большой и средний помещались изнутри в тряпичное тело человечка. С помощью этих трех пальцев он мог складывать ручонки, хлопать в ладоши, мотать головой и кивать и, говоря нарочно писклявым нянюшкиным голосом, даже был способен хватать маленького Алешку за руку. Вот это почему-то доводило его до дрожи! Он пытался скрыть свой необъяснимый страх от няньки, стыдясь его, и, кажется, это порою удавалось. Но боже ж ты мой, как поджимался от ужаса живот, как подгибались коленки, как сохло в горле, лишь только нарисованные глаза куклы обращали на него свой косящий взгляд (рисовальщица из няньки была никакая), а мяконькие ручонки хватались за него и влекли, влекли куда-то. Это было необъяснимо, отвратительно, ужасно, это доводило Алексея до судорог!
Вот и сейчас – судьба, не заботясь о производимом впечатлении, забавлялась с ним, влекла невесть куда, заглядывала в лицо неживыми, равнодушными глазами...
– Не дамся! – твердо сказал Алексей, поворачиваясь к Огюсту и пытаясь в темноте поймать его взгляд. – Не дам глаза завязывать! Почем я знаю, что вы намерены со мной потом сделать?
– Ну да, к примеру, дать вам веслом по голове и отправить за компанию с тем русским громилою рыб кормить, – устало хихикнул Огюст. – Ну что вы говорите глупости, сударь?! Собирайся мы поступить так, разве не могли сделать это раньше? Уверяю вас, намерения относительно вашей судьбы у нас и у...
– Ох, да будет вам вдаваться в словопрения! – простонал за спиной у Алексея Жан-Поль. – Экий вы, сударь, неуступчивый! Неужто неведомо вам старинное изречение латинское: «Дуцум волентем фата, нолентем трахунт»?[11] В таком разе – не взыщите!
После сих невразумительных словес позади Алексея послышалась некая возня, но не успел он обернуться поглядеть, что там происходит, как получил вроде бы не сильный, но весьма ощутимый удар по затылку, и мягким, безвольным мешком повалился в заботливо подставленные руки Огюста.
«...Трахунт, трахунт, трахунт!» – прокричал в его голове кто-то незримый: прокричал не мягким французским голосом Жан-Поля или Огюста, а почему-то ехидным баском приснопамятного господина Бесикова, – и вслед за тем все померкло в голове Алексея. Он погрузился в беспамятство, в очередной раз за эти сутки покорившись неумолимой, неотвязной, приставучей, как банный лист, судьбе.
Ноябрь 1796 года
– Ваше высочество, князь Зубов просит принять!
Рука Павла нервно дернулась, и утренний кофе выплеснулся из чашки.
Жена обратила на гусара[12] свои томные, с поволокой глаза:
– Что? Платон Александрович?!
При имени фаворита матери Павел снова передернулся.
– Князь Николай, ваше высочество, – уточнил лакей, безмятежно промокая салфеткою пролитый кофе.
Павел нервически сглотнул.
– Мы погибли... – Его шепот более напоминал тихий стон, вырвавшийся из самой глубины души.
Марья Федоровна значительно повела взглядом на гусара. Она гораздо лучше своего порывистого мужа умела держать себя при челяди, сохраняя всегда, при любых обстоятельствах высокомерное, равнодушное спокойствие.
У нее много чему следовало поучиться, однако сейчас Павлу было не до тонких уроков светской выдержки. Визит ближайшего к трону человека, Николая Зубова, мог означать только одно: все тайные и явные слухи, ходившие вокруг намерений императрицы отлучить от престола нелюбимого сына, чтобы возвести на трон любимого внука Александра, оказались правдою. Намерения сии, противные законам божеским и человеческим, начинают осуществляться. Ведь говорили почти в открытую, что Екатерина собиралась опубликовать манифест, объявляющий об отстранении Павла. На это было получено согласие графа Румянцева, великого Суворова, «постельного князя» Платона Зубова, санкт-петербургского митрополита Гавриила и самого всесильного Безбородко.
Что предпишет гатчинскому обитателю курьер из Зимнего? Под фальшивым предлогом заманит в столицу, чтобы с заставы отвезти в крепость, в камеру, на вечное забвение? Или все произойдет куда проще, как некогда в Ропше, с помощью сломанной вилки?[13] Неужели прямо вот здесь, вот сейчас?..
Вдруг вспомнился сон, виденный нынешней ночью. Чудилось, некая невидимая и сверхъестественная сила возносила его к небу. Он часто от этого просыпался, опять засыпал и вновь бывал разбужен повторением того же самого сновидения.
После смерти человека возносится вверх душа его. Неужели Зубов явился, чтобы?..
Павел поймал нетерпеливый взгляд жены. Известно, бабами, что в курной избе, что во дворце, движет в жизни одно любопытство. Пуще страха смерти разбирает: зачем все же объявился братец всесильного фаворита в Гатчине?
– Сколько их? – прокашлявшись, выдавил Павел – и даже пошатнулся, услышав:
– Они одни, ваше высочество.
Промокнул салфеткою взмокший лоб, перекрестился:
– Просите, коли так.
Пытаясь принять величавый вид, невольно скользнул взглядом по столу. Что же, что Зубов один, рано еще радоваться. Даже эта маленькая вилочка для фруктов в руках мрачного гиганта князя Николая может сделаться смертельным оружием. А ножи?.. Не приказать ли покуда убрать со стола?
Но было уже поздно. Двери отворились, высокая фигура на миг замерла на пороге – и вдруг с протяжным, хриплым стоном рухнула на колени:
– Государь... простите...
У Павла пресекся голос, и он какое-то время немо шевелил губами, все еще думая, что ослышался, что Зубов сказал что-то о государыне, а не воззвал к государю. Рядом шумно, возбужденно дышала Марья Федоровна.
– Ну, что там еще? – наконец выдавил Павел.
– Удар был... – громко всхлипнул Зубов. – Кончается матушка-императрица!
И заплакал навзрыд, словно ребенок.
Павел сильно ударил себя по лбу – так, что великая княгиня услышала глухой, деревянный звук и испуганно покосилась на мужа. Вообще-то она уже привыкла, что в минуты крайнего волнения муж сильно бьет себя по лбу, однако чего уж так усердствовать-то? Ей-богу, права petit monstre[14] Нелидова (фаворитку Павла императрица Екатерина называла «маленькое чудовище» за ее малый рост, смуглое лицо и некрасивость): «дорогой Павлушка» когда-нибудь начисто вышибет себе таким образом мозги. А ведь теперь голова ему понадобится как никогда раньше... Только в этот миг осознание судьбоносной новости пронзило великую княгиню, и она, всплеснув руками, воскликнула в один голос с мужем:
– Какое несчастье!
И каждый подумал про себя, что приставка «не» здесь совершенно неуместна...
Поминутно стуча себе в лоб, Павел начал расспрашивать Зубова, словно не замечая от волнения, что тот по-прежнему остается коленопреклоненным, и не предлагая ему встать.
– Какое несчастье! – С этим воплем Павел кинулся в объятия вошедшего Ивана Петровича Кутайсова, ближайшего своего друга и доверенного человека.
Смуглявый турчонок родом из Кутаиси (отсюда и фамилия), взятый некогда в плен при осаде Бендер и вознесшийся до звания камердинера и цирюльника его императорского высочества, через плечо своего покровителя блестящими глазками таращился на согбенного князя Зубова, раскидывая своим пронырливым умишком, что бы все это означало. И он жадно облизнул свои пухлые, красные, словно бы вывернутые губы, услышав, что у императрицы был удар, что она при смерти, а ее лейб-медик Роджерсон не надеется на выздоровление и просит великого князя и наследника прибыть как можно скорее, дабы застать государыню в живых.
Кутайсов чуть было сам не побежал на конюшню, чтобы самолично запрягать, однако Павел не торопился. Страшная нерешительность, которая всегда овладевала им на пороге самых важных событий его жизни, чудилось, спутала ему ноги, потому что даже по комнате он метался какими-то странными, маленькими шажками, плакал, размазывая слезы по своему некрасивому, плоскому лицу, целовал то жену, то Кутайсова, то Зубова (дошло и до этого!), причитал: «Застану ли я ее в живых?!», однако, когда карета была подана, не торопился садиться, а приказал подать еще кофе. Марья Федоровна и Кутайсов, друг дружку не терпевшие, сейчас переглядывались за спиной Павла, словно тайные любовники за спиной ревнивого мужа, досадуя на нерешительность великого князя.
Уже, мучительно разминая замлевшие коленки, отправился в Петербург, готовить курьерские подставы по пути, Николай Зубов. Уже валом повалились в Гатчину новые курьеры – от Ростопчина, Салтыкова, бог весть кого еще, вплоть до того, что даже повар Зимнего дворца и поставщик ко двору рыбы тоже послали курьеров о том, что матушка Екатерина кончается и время будущему государю прибыть к ее одру. Уже новость разнеслась по всей столице, и толпы народу молились во здравие любимой государыни что в соборах, что прямо на улицах. Однако Павел набрался храбрости выехать лишь к пяти вечера, после раннего обеда и очередного кофепития. В пути он вовсе не спешил и в Петербург прибыл около восьми. Знавший его как облупленного, Кутайсов мог бы прозакладывать все свои будущие блага (а что они посыплются на верного наперсника будто из рога изобилия, черномазый проныра ничуточки не сомневался): «дорогой Павлушка» изо всех сил старается, чтобы не застать «любимую маменьку» живой.
Конечно, можно было опасаться, что она вдруг придет в сознание, заговорит, высказав свою давно чаемую волю по замене наследника, и тогда молодой Александр, ставший уже при дворе и в народе популярным, начнет действовать, однако курьер от Николая Салтыкова, преданного гатчинскому жителю, сообщал, что меры приняты: Александр изолирован и не сможет приблизиться к смертному одру любящей бабушки. Впрочем, молодой великий князь и не совался в апартаменты умирающей императрицы, движимый не столько чувством чести и сыновней привязанности, сколько своей обычной нерешительностью. Право слово, вся сила характера в этой странной семье была сконцентрирована в женской ее части, вернее, в одной женщине, породившей этих нерешительных, межеумочных мужчин!
Апрель 1801 года
Что-то влажное коснулось краешка губ Алексея, и он невольно вздрогнул, мгновенно вырванный из продолжительного беспамятства. Ощущение было сильное: чудилось, в уголок рта вошла маленькая горячая молния, отозвавшись в самом сокровенном уголке его тела. Вернее, в уголках, потому что затрепетало отнюдь не только сердце. Вся суть мужская Алексеева, доселе мирно дремлющая меж его безвольно раскинутых ног, вдруг начала оживать и наливаться силою.
Еще не вполне очнувшись, не владея ни чувствами своими, ни телом, он застонал чуть громче, наслаждаясь этой не то сладкой, не то болезненной, томительной дрожью, и приоткрыл губы, по которым в следующее мгновение словно бы огоньком провели: чей-то горячий, проворный язычок пробежал по ним, разведывая себе путь в недра Алексеева рта, и скользнул туда, легонько прижимаясь к его языку.
Сладкий, густой, чуточку приторный запах достиг его ноздрей, окутал, пленил, заставил их затрепетать и нервно расшириться. Мысли, начавшие было беспорядочно бродить в его ушибленной голове, враз вылетели вон, словно разбросанные по полу бумажные клочки, унесенные порывом сквозняка. Думать о чем-либо связном не только не представлялось теперь возможным, но и необходимости в том не было. Еще и в прошлый раз, проделывая все это впервые, Алексей положился лишь на пробужденную чувственность свою – и вроде бы ни разу не ошибся на сем сладострастном пути. А сейчас он уже обладал некоторым опытом и принялся прилежно повторять то, чему был недавно научен.
И все-таки выяснилось, что он еще незрелый новичок на сей игривой стезе, потому что дама не запрокинулась на подушки, увлекая за собою Алексея, как она поступила в тот первый, незабываемый раз. Не прерывая поцелуя, она проворно справилась со всеми крючками и застежками, на коих держались его штаны, высвободила то, что готово было уже прорвать плотную ткань, а потом, шурша душистыми юбками, вскочила верхом на колени Алексея. Он громко ахнул, словно бы всем телом окунувшись в жаркую тесноту ее недр, резко рванулся вверх, потом вниз, а потом охи-ахи-вздохи уже следовали друг за дружкою непрерывно, на два голоса, словно мужчина и женщина, наперегонки скачущие к наслаждению, соревновались также и в пылкости выражения чувств.
В этой скачке оказалось два победителя – и двое побежденных. Вскоре Алексей притих в объятиях сладко пахнущей, шелковистой дамы, ощущая на плече блаженную тяжесть ее поникшей головы. Оба неровно дышали, все еще вздрагивая и изредка приникая друг к другу, словно продолжая высасывать остатки наслаждения, но, впрочем, каждый понимал, что все кончилось и на смену полубеспамятному, молчаливому, задыхающемуся смятению должны теперь прийти слова, улыбки, взгляды... обыденность отношений двух удовлетворенных любовников.
– Oho-ho, mon Dieu! – коснулся уха Алексея щекочущий, смеющийся шепоток. – Oho-ho, mon cher! Vous tes un tordi, mon ami![15]
Наш герой вздрогнул, снова стиснул руками узенькую талию, уже почти не сомневаясь в подозрении, кое едва зародилось в нем, едва лишь душный розовый запах коснулся его ноздрей. Однако в ту минуту сознание Алексея еще не освободилось от пут беспамятства, а плоть была слишком возбуждена, чтобы он мог о чем-то связанно размышлять. Теперь же, услышав этот голос, он понял, что многое, слишком многое могло бы подтвердить первые подозрения. Свободная от корсета талия, которую он стискивал, была тоненькой – двумя пальцами обхватишь, и хрупкой, будто у девочки. Маленькие груди терялись в жадных ладонях Алексея. Коленям было легко, словно оседлавшая его дама была почти невесома. Губы ее имели приторный помадный привкус. А этот тяжеловатый розовый запах вместо прохладного, горьковатого, который, чудилось, проник не только в легкие, но и в сердце Алексея, навеки отравив его? Все, все в этой незримой (открыв глаза, он убедился, что кругом царит кромешная тьма) любовнице было другим. Не таким!
Господи боже... это что же получается? Он что, предался страсти не просто с невидимой, но и с незнакомой дамой?! Он вступил в случайную связь? Он изменил (а ведь еще и суток не прошло!) той, которая стала первой его женщиной, открыв ему бездну такого сокрушительного наслаждения, которое повергло его в сон или беспамятство, сделав его неспособным холодно анализировать свои чувства, как он это проделывает сейчас, довольно быстро отделавшись от мимолетного – и не столь уж острого, если честно признаться! – удовольствия и уподобившись в своей внезапно наступившей трезвости приказчику, который довольно хладнокровно подсчитывает все прибыли и убытки минувшего дня.
Воистину: «Vous tes un tordi, mon ami!» И это еще мягко говоря. Кто же он после случившегося? Неблагодарный изменник! Распутный развратник... или, вернее будет сказать, развратный распутник?
И Алексей, ужасаясь глубине своего падения (к чести нашего героя, ему и в голову не пришло обвинить в случившемся кого-то другого, кроме себя, хотя, если быть совершенно искренним, в пропасть измены он не сам упал, а был туда внезапно и очень умело свергнут!), вдруг ощутил, как сверкающее, чудесное переживание первой страсти с неимоверной скоростью отдаляется от него, улетает в невозвратимое, туманное прошлое. Он словно бы даже ощутил довольно сильную тряску, как если бы жизнь его действительно вдруг понеслась по не больно-то наезженной колее.
Что такое? Да это Алексею не мерещится! Он и впрямь куда-то едет! Так вот что означали те толчки и раскачивания, которые то помогали, то мешали ему несколько минут назад нести незнакомую всадницу к сладостной цели! Он находится в темной, закрытой карете с завешенными окнами. К счастью, уже не в тюремной, коя доставила его на берег Невы. Но все-таки, без сомнения, Алексея куда-то везут...
Господи, да куда же на сей-то раз! И кто его везет?!
– Где я? – выкрикнул он, пытаясь сохранить достоинство и не впасть в панику, однако не находя для этого сил. – Кто вы?
– Ах, мой дорогой! – снова послышался этот интимный, ласковый французский шепоток. – Не рано ли задавать такие категоричные вопросы? По-моему, мы еще недостаточно хорошо знакомы, чтобы дама без опаски могла открыть вам свое инкогнито.
Недостаточно хорошо знакомы? И это после того, как между ними произошло самое важное, самое главное, самое тайное, что только может случиться между мужчиной и женщиной? То, что связывает их навеки неразрывными узами!
«Секундочку! – озабоченно проговорил некто трезвомыслящий в переполошенной Алексеевой голове. – Связывает навеки? Неразрывными узами? Но ведь вы, милостивый государь, уже связали себя неразрывно с той загадочной, незнакомой дамою... как было точно подмечено, еще и суток не прошло. А теперь столь же навеки соединились с другой, опять-таки незнакомой и загадочной. Не означает ли это, что путы любодейные все же не столь неразрывны, как вам сие кажется?»
Отдавшись своим нелегким размышлениям, Алексей на некоторое время притих и вздрогнул, услышав над ухом недовольный голосок:
– Да вы никак уснули, mon cher? Очень мило с вашей стороны!
Алексей вздрогнул. Надо же было так задуматься! Да ведь он успел позабыть о незнакомке, все еще сидящей у него на коленях, и не просто сидящей, но даже поерзывающей нетерпеливо. Может быть, ей мешало то, на чем она продолжала сидеть? Алексей сконфузился и поытался было, как бы это поизящнее выразиться, убраться восвояси, однако колени дамы покрепче стиснули его бедра, словно он был заленившимся жеребчиком, коего всадница нетерпеливо понукала продолжать скачку. Чтобы исключить всякие недомолвки, маленькие, будто вишенки, тугие губки снова прильнули к его рту, проворные пальчики нетерпеливо скользили его обнаженный живот, спускаясь все ниже и ниже... и Алексей сызнова убедился в глубине своего морального и физического падения, потому что вдруг ощутил горячее желание опять сделаться распутным развратником (или развратным распутником, это уж кому как больше нравится). Как говорится, надо примиряться с нехорошим, чтобы избегнуть худшего!
– Да, похоже, я не напрасно рисковала ради вас жизнью брата и своим благополучием, – с одышкой прошептала спустя некоторое время дама, наконец-то слезая с усталых колен Алексея и, судя по шелесту и шуршанию, приводя в порядок свой туалет. – Вы – достойная награда для самой изощренной женщины. Быть может, вам немножко не хватает мастерства, однако при хорошей школе это легко можно наработать. Очень рада, что не ошиблась в вас, мой романтический злодей!
Алексей, в это время пытавшийся унять переполошенное дыхание и несколько прикрыть наготу (он все-таки стеснялся, несмотря на кромешную тьму, царившую вокруг), замер, пораженный ее словами.
Бог ты мой, да что же он за человек, что за создание такое легкомысленное?! Предался плотской утехе (утехам, точнее сказать), даже не вспомнив, что этим житейским удовольствиям предшествовало, из какой опасности он был вызволен неведомыми Жан-Полем и Огюстом! Совершенно запамятовал, что оказался насильно, против воли, можно сказать, спасен от суда, тюрьмы, экзекуции, ссылки, может быть, и смерти. Огюст там, в лодке, упоминал какую-то особу, рискнувшую жизнью и честью ради спасения Алексея. Дама-невидимка говорит, что рисковала ради него жизнью брата и своим благополучием. Не стоит труда сложить два и два и догадаться: неведомая особа, упомянутая Огюстом, – и есть новая любовница Алексея (Господи! Да он меняет их правда что как перчатки! Не зря говорится: хорошее начало полдела откачало!), а один из невских пиратов – ее брат. Огюст или Жан-Поль? Да какая, в сущности, разница? Не тот, так этот, оба они хороши.
Но даже если эти скоропалительные выводы верны, остается безответным вопрос: чего ради понадобилось неведомой любительнице ночных скачек спасать «государственного преступника», как охарактеризовал Алексея Огюст? Если та, первая, еще имела какие-то, пусть и весьма невесомые, основания позаботиться о своем молодом любовнике, попавшем в жуткую передрягу, то с какой радости второй, совершенно ему незнакомой, лезть на рожон и устраивать весь этот авантюрный роман с абордажем и похищением несправедливо обвиненного недоросля Алексея Уланова? Может быть, она такая простая добрая самаритянка, которая бескорыстно (или все же с некоторой примесью корысти, учитывая ее удовлетворенные вздохи?) спасает неправедно обвиненных?
Стоп, стоп, стоп... А что, если эта незримая сладострастница каким-то образом приложила руку к убийству генерала Талызина? И теперь стремится загладить свою вину перед человеком, который по ее вине расстался с честным именем?
О нет... она только что назвала Алексея романтическим злодеем. А сие означает, что дама убеждена: он и в самом деле совершил преступление, за кое был везом в крепость. Была уверена, что спасает разбойника, убийцу, однако это ее не остановило?
– Я вижу, вы теряетесь в догадках, – нежно усмехнулась незнакомка. (Ишь ты! Видит она! В такой кромешной тьме небось только кошки видеть могут, да еще ведьмы. Не к числу ли этих последних она принадлежит?) – Не трудите голову, мой милый. Ответ на все ваши вопросы весьма прост. На сегодня был назначен мой выезд из Петербурга. Не далее как вчера молодой государь удостоил меня аудиенции. Он держался со мною необычайно приветливо и сделал мне честь, заявив, что во всякое время будет счастлив снова увидать в Петербурге украшение оперной сцены. Под сим украшением разумелась, сами понимаете, я, – скромно уточнила дама. – О, я помню, каким пылким взором взирал на меня Александр – в то время он был всего лишь великим князем – 10 марта на музыкальном вечере в Михайловском замке. Я пела Федру, на мне было малиновое платье – как раз любимый «мальтийский» цвет императора Павла! – и отсветы моего наряда играли, словно румянец, на бледном лице Александра, словно бы зажигая его тем же страстным пожаром, который бушевал в моем сердце. Можно было бы держать пари, что он думал в тот миг о том же, о чем думала я. В частности о том, что история преступной супруги Тезея[16] вскоре может вполне соответствовать реальности! Ведь я помнила страстные признания императора, сделанные мне накануне! Он твердил, что окончательно решил избавиться от своей надоевшей толстухи-жены и добиться развода. Митрополит Амвросий был покорной пешкой в его руках; даже и дойди разбор этого дела до самого папы римского, можно было б ручаться за успех. Все-таки судьбы Мальтийского ордена в России зависели только от благосклонности русского императора, папа Пий не мог этого не знать. Да, Александр очень скоро мог сделаться моим пасынком, – романтически влюбленным в мачеху... Конечно, для начала я перешла бы на положение официальной фаворитки. Если бы не свершился переворот, я бы через день, много – через два заняла бы комнаты княжны Гагариной в Михайловском дворце. Павел ради меня был готов на все! Ни одна женщина не возбуждала его так, как я, ну а то обстоятельство, что первым оценил меня его наперсник и шталмейстер Жан Кутайсов, лишь прибавляло пикантности ситуации. Император был прекрасно осведомлен в русской истории, он вспомнил своего великого предка Петра, супруга коего, императрица Екатерина Первая, была взята на царское ложе из постели знаменитого временщика Меншикова, куда она попала от фельдмаршала Шереметева, который вытащил ее из-под какого-то драгуна! Мое прошлое гораздо менее скандально. Правда, я актриса, однако дама замужняя; кроме того, бывший мой амант Кутайсов был интимным другом императора, это вам не какой-нибудь драгун! Вот уж не могу сказать, знал ли о матримониальных намерениях отца великий князь. Во всяком случае, желание Павла сменить наследников и назначить своим преемником принца Евгения Вюртембергского в обход Александра, Константина и Николая уже, кажется, ни для кого не было секретом при дворе. Возможно, то, что мой коронованный любовник не умел держать язык за зубами, и ускорило его кончину... все-таки не зря твердят, что Александр гораздо лучше был осведомлен о подготовке заговора, чем об этом принято говорить!
Она трещала с такой скоростью, что Алексей с трудом мог уловить нить разговора. Большинство называемых ею имен ничего ему не говорили, а описываемые события казались совершенно неправдоподобными. Чтобы какая-то французская актриса стала не просто фавориткой императора, но и надеялась сделаться его женой... Чтобы государь отверг законных сыновей и наследников ради иностранного принца с невыговариваемым титулом... Одно из двух: либо покойный Павел Петрович был, как в Васильках говаривали, на цвету прибит, то есть умишком слаб, либо эта дамочка просто заговаривается, пользуясь провинциальной доверчивостью спасенного ею человека.
Смешно, ей-богу! Словно бродящая по гумну, стреноженная, привязанная к колышку лошадь, волочащая за собой молотило, Алексей бродит по кругу своих мыслей, то и дело возвращается к одной, самой главной: зачем незримая дама спасла ему жизнь?
Как узнать? Спросить впрямую? Неловко как-то. Она может сказать: «А вы что-нибудь имели против?» Разумеется, ничего... Рассыпаться в благодарностях, а в них изящно вплести такой маленький вопросик: «Чему, дескать, обязан?..»
Конечно, можно вообще ни о чем не спрашивать. Рано или поздно все выяснится само собой, но когда? И что до той поры делать Алексею? Все то же, что делал допрежь? Оно, конечно, весьма приятно, а все ж как-то, воля ваша, господа... не этак!
Нет, надобно спросить, даже если вопрос и покажется даме неучтивым. Алексей тихонько покряхтел, набираясь сил разомкнуть застенчивые уста, как вдруг внезапный стук заставил его вздрогнуть.
Колотили с улицы в дверцу кареты, которая продолжала свое движение.
«Погоня! – смекнул Алексей. – За нами погоня!»
– Это гонятся за мной! – отрывисто проговорил он. – Я навлек на вашу голову беду, моя дорогая спасительница. Хоть и не ведаю, почему и отчего вы ради меня рисковали жизнью своей и своего брата, однако навеки сохраню благодарность к вам в своем сердце и жизни не пожалею, чтобы отплатить вам сторицей! Одною просьбою решусь обременить вас напоследок: дайте мне какое-нибудь оружие, коим я мог бы защищать вашу жизнь и честь, поскольку сам я таковым не обладаю, к несчастию...
– Отчего ж? – удивленно молвила дама. – Вы обладаете оружием очень значительным! Правда, повторяю, не вполне умелым, однако же меч ваш мы с течением времени изрядно навострим. И не говорите о вашей признательности! Ради человека, который уничтожил этого хладнокровного монстра, генерала Талызина, я была готова на все. На все! Ах, кабы вы знали, что это за чудовище! Ведь он мог спасти императора, но не сделал этого. Он даже хуже Палена – об том хотя бы всем известно, что это лицемер, хладнокровно действующий исключительно в собственных интересах. Он хуже Панина, Марина, Татарина, Зубовых, их сестрицы Ольги Жеребцовой, подкупленной английским золотом. Это были искренние враги. А Талызин притворялся другом, он намеренно утишал наши с Кутайсовым и Оболенским подозрения и опасения, клялся, что жизни своей не пощадит ради спасения жизни государя! Он обещал передать Кутайсову письмо, извещающее точную дату начала заговора, но сделал это так бездарно, что мой дорогой друг не смог им воспользоваться! – Она всхлипнула от злости. – Проклятый предатель! Но вы заставили его заплатить за обман. Я восхищена вами, сударь, я благодарна вам, я готова на все, чтобы выразить свою благодарность...
Худенькие пальчики с острыми ноготками легонько поползли по бедру Алексея, подбираясь к застежке его штанов, но в это время в дверцу снова заколотили. Наши любовники так и подскочили!
– О, bon Dieu![17] – досадливо простонала дама. – Придется, видимо, их впустить. Не сочтите за труд, mon cher, отоприте дверцу.
Повозившись несколько мгновений во тьме, Алексей наконец-то нашарил крючок и откинул его. Дверца приотворилась, впустив в душное, теплое нутро кареты клуб сырого, не по-весеннему студеного воздуха, а через мгновение этот клуб, как почудилось ошеломленному Алексею, раздвоился и материализовался в темные худощавые фигуры, которые забились в уголок кареты, нарочито громко стуча зубами и наперебой стеная:
– Боже мой, как холодно! Мы совсем промокли!
– Ладно, ладно, – насмешливо воскликнула дама. – Не так уж долго вам пришлось ожидать.
– Недолго?! – возмутилось одно из исчадий тьмы, причем голос его показался Алексею знакомым. – Да здесь воздух успел насквозь пропитаться распутством. Вы не теряли времени даром, дорогая сестрица!
– Я его никогда не теряла, – промурлыкала та без тени смущения, в то время как Алексей от таких разговоров с охотой провалился бы сквозь землю – в смысле, сквозь пол кареты. – Должна же я была достойно вознаградить нашего юного героя. Он это заслужил своим героизмом.
– Заслужил, заслужил! – согласился голос. – Кстати, может быть, время зажечь свет? Должны же мы разглядеть оного героя. Там, на реке, было, сами понимаете, не до того, ну а потом вы слишком стремительно взяли его в оборот.
Послышалось металлическое звяканье, чирканье, и через мгновение внутренность кареты осветилась колеблющимся светом дорожного фонаря, висящего под потолком, и его тусклые лучи до такой степени напомнили Алексею о тюремной карете, в которой он ехал вместе с покойным Дзюгановым, что наш герой едва не вскрикнул испуганно. Забился к стене и кидал вокруг затравленные взоры.
Так... эти два худощавых человечка Алексею знакомы. Недавно встречались посреди Невы! Огюст и Жан-Поль, здрасьте, очень приятно.
Впрочем, два «пирата» удостоились лишь беглого осмотра – внимание Алексея всецело приковалось к даме, и он едва сдержал тяжкий, разочарованный вздох, удивившись: руки, губы и обоняние его не обманули. Пред ним, увы, была не она!
Эта маленькая, а та высокая. Эта худышка, более похожая сложением на девочку, а у той была роскошная фигура. Эта жгучая брюнетка с пылкими черными глазами. А та была русоволоса и голубоглаза. Все не то, словом... Нет спору, очень мило, но... И все-таки надо быть справедливым: жизнь Алексею спасла именно эта миниатюрная распутница, пусть она даже совсем не в его вкусе. А та роскошная красавица, по которой ноет его сердце, навлекла на него большие неприятности, чуть было не стоившие ему жизни, и бесследно исчезла, ничуть не озаботясь судьбою своего мимолетного любовника!
Алексей подавил разочарованный вздох и проговорил со всей мыслимой и немыслимой галантностью:
– Господа, нет слов, чтобы выразить мою признательностью. Однако же не сочтите меня нескромным в моем желании узнать имена моих спасителей. Клянусь, ежели они составляют некую тайну, я сохраню ее навеки, и никакая сила не сможет заставить меня разомкнуть уста!
– Помилуйте, голубчик, да какая же в сем может быть тайна? – весело спросил Огюст. – Имя вашей спасительницы, моей нежнейшей сестрицы, гремело в Петербурге погромче пушек Адмиралтейства. Прима императорской сцены, обольстительная, несравненная Луиза Шевалье! Аплодисменты, господа!!!
Огюст и Жан-Поль в самом деле разразились такими бурными, такими заразительными аплодисментами, что ладони Алексея тоже несколько раз вяло шлепнулись друг о друга, но почти тотчас безвольно упали на колени, а услужливая память нарисовала похабную сценку, виденную нынче днем близ Зимнего дворца. Мужик в гречевнике и его собачонка:
«А ну, сучка, покажь, как мадам Шевалье делает это!»
И собачка бряк на спину, раскинув лапки...
Ну, это слишком просто, господа. Отнюдь не только так «мадам Шевалье делает это«, уж Алексей-то мог в сем убедиться. А также он мог бы ответить на вопрос, с кем именно мадам Шевалье занимается теперь своим любимым делом.