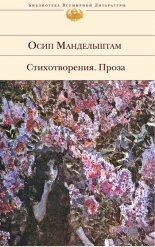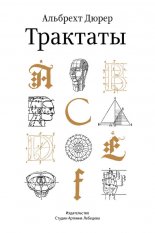Кошка-дура. Документальный роман Черкасский Михаил

От автора
Это роман о людях прошлого, двадцатого века. Об их жизни в той советской стране, которую с каждым годом уносит все дальше и глубже в бездонное прошлое. Так зачем же вся эта ветошь современнику, если он и без того не успевает опамятоваться от насущных проблем. И не лучше ли обратиться к чему-нибудь поновее, поближе да и просто моднее. Что ж, вот что сказал Эльдар Рязанов: мода – лишь тряпочка, которая скользит по женскому телу то вверх, то вниз.
Но можно ведь взглянуть и немножко пошире. И тогда увидишь, что современно не сиюминутное, а – вечное. То, что шло нога в ногу с человеком изо дня в день, из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. И менялось лишь внешне, потому что неизменной оставалась сама суть: найти свое место в этом единственно данном нам мире. И вот в это извечное вмещалось всё: забота о хлебе насущном, любовь, семья, дети, становление личности, работа, надежда, дружба, вера, вражда, жажда справедливости и еще, еще всякое, разное. И поэтому так наивно обычное высокомерие современников, уверенных, что они-то живут, а все прошлые лишь существовали. Для истории. И не ведают, что придет – ох, как быстро и незаметно – то время, когда новые поколения не поверят, что и старики тоже могли жить, как сами они сейчас. Но может, именно так и надо: жить с ощущением своей вечности. И хотя бы изредка помнить, что не только сегодняшнее, но и завтрашнее очень быстро становится позавчерашним.
Это семейный роман о людях, живших под одной крышей, под одним небом, которое то солнечно улыбалось, то свинцово нависало над ними и всей страной.
«И все времена, и все умершие не жили до тех пор, пока мы не дали им жизнь, вспомнив о них, и глаза их из сумрака взывают к нам…»
Р. П. Уоррен, «Вся королевская рать».
– Осталось мне жить три года, – негромко, с одышкой проговорила она, глядя на чешуйчато сверкающий залив.
– Кто сказал? – усмехнулся мужчина и подумал: дай-то бог, уж больно слаба была в то лето она.
Гадалка гадала
Был март сорок третьего года: синее небо, желтое солнце, лиловые тени на глубоком снегу, и город – молчаливый блокадный город. Белые просеки улиц, шеренги застывших домов. Сгоревших – в закопченные дыры окон глядит синее небо; обрушенных – над холмистыми грудами битого кирпича разноцветные клетки обоев в четыре-пять этажей; полуживых – кое-где от заколоченных фанерою окон вьется из печных коленец буржуек сизый дымок. Молчаливый, малолюдный и все же живой город: черные фигуры на белом снегу. Скрипят колеса редких машин, скрипят полозья санок. Везут дровишки, скарб, но уже не везут, как год назад, одеревяневших, завернутых в простыни; тех, кому не смогли уж помочь и новые нормы. Идут, идут, молча, с трудом. Стужа, сугробы, синяя, желтая морозная тишина.
Был март сорок третьего года, и было тогда Нинке Быстровой двадцать лет и один год. А болтушке-треплушке Галке Щегловой уже целых двадцать два. Да не в годах дело, Нинкины двадцать – что двенадцать, Галкины можно и за сорок зачесть, не всякая столько успеет. Обе работают в термическом цехе, Нина на закалке пружинок для автоматов, Галина мастером отдела технического контроля. Отсюда, с ленинградского «Судомеха», отвезут пружинки на завод имени Калинина, вставят в автоматы, и там, на фронте, всего-то в десяти-пятнадцати километрах отсюда, кто-то обрадуется, взяв в руки новенький автомат, пахнущий светлым деревом, черной краской, машинным маслом.
– Нинка, хочешь шоколаду?.. – Запихала в крашеный рот три дольки.
– Да иди ты… – Сглотнула.
– Дура, у меня есть, есть, бери!.. – У нее все было: «Моя мамашка торгашка, кувыркается в магазине». – Нина, Ниночка, ну, съешь, съешь!.. Вот умница! Вот такую я тебя люблю.
«А я себя нет».
– Слышь, Нинка, пойдем завтра к гадалке, а?..
– Чего?.. – Отодвинулось миловидное озорное лицо.
Телом, как все, отощала, одежда висела, но лицо не сдавалось. Вот отъелась, иногда слышала вслед. Что ж, еще щекам ее туго, ало цвести, как у многих девчат, переживших блокаду, но и теперь щеки ее маленечко напирали на каре-зеленые глаза.
– К гадалке… – Придвинулась Галя и зачастила: – Понимаешь, она такая, знаешь, чего про нее говорят? Ты слушай, чего тебе говорят, не отмахивайся. Я же тебя не к цыганке зову – к гадалке!
– Как это? Гадалки – цыганки.
– Вот и фиг тебе! Она старая, еще дореволюционная! – Мотнула головой в оренбургском платке. – Она еще в Петербурге, при царе горохе гадала, поняла?.. Поняла? Думаешь, к ней просто так, да, думаешь, она всех подряд, ха?.. К ней попасть – хо!.. – Слизывала шоколадную слюну в уголках крашеных губ. – Чего тебе, денег жалко? Пятьдесят рублей – тьфу!.. – Даже растерла валенком на бетонном полу. – А жалко, я тебе дам, дам!.. И вот, вот… – Совала надломленную шоколадную плитку в фольговых лохмотьях.
– У меня свои есть.
– Значит, идем, идем? Вот такую я тебя очень люблю!
«А я тебя все равно нет».
Жила Нина на Васильевском острове, но дома почти не бывала. Никто не ждал ее там, кроме стужи да темноты, а здесь, в термичке, за печами тепло. После смены завалишься на старые ватники, встанешь – обратно на работу, так чего бегать? Иногда все же надо было сходить, переодеться, кое-что взять. Месяц назад возвращалась на свой завод, еще до середины Невы не дошла, как начался артобстрел. Уж не ей привыкать – их завод рядом с Балтийским, уж сюда-то бьют и бьют, но на льду под обстрел попала впервые. Вот где страх был, за всю блокаду не натерпелась такого. Шлепнулась плашмя на лед, поползла, а снаряды йю-у-у… дзинь!.. Лопаются как-то не так, звонко, лед вздрагивает, ходит, колышется, вот-вот туда, в воду. Ползла к берегу… к берегу… По натоптанной тропке вскарабкалась к парапету, села, прислонилась. Ну, вот, если убьют, не страшно: земля.
Гадалка тоже жила на Васильевском острове, на четвертой линии, рядом с домом Галины. Парадная, обычная дверь, а звонок не совсем – на старинном латунном кругляше полукругом надпись: прошу позвонить. «Видала – просят». – Галка крутанула вправо-влево, дринь-дринь… Шаги… Это только, нааверно, в блокадном городе можно было услышать их днем за двойной дверью – такая была тишина. Женщина – старая, с темным усохшим лицом. Стоит, не впускает, смотрит. И вдруг усмехнулась: «Одна в телогрейке, другая в шубе…» Точно, черная каракулевая шуба, да еще с каждого плеча мордочками вниз свисает по чернобурке, между ними, повыше, побольше другая – Галкина. Курносая, напудренная, бровки выщипаны, губы напомажены, глазки черные, блестят стеклышками.
– Одна в валенках, другая в ботах… – (Верно, в белых фетровых ботах Галина, в серых катанках Нина). – Ты проходи… – Чуть посторонилась в дверях перед шубой хозяйка. – А ты… – внимательно оглядела ту, которая в ватнике, – ты приходи завтра.
– И не подумаю! – Вспыхнули и без того маковые щеки.
– Подумаешь и придешь. Не такие ко мне приходили.
Назавтра: «Ой, Нинка, чего она мне там нагадала!.. Ты, гворит, счастливая, у тебя, гворит, все-все будет!.. – Вилась горячими губами возле Нинкиного лица. – Замуж, гврит, скоро выйду, сына рожу, ха-ха-ха!.. – Мокро сверкали два черных арбузных семечка на круглом раскрасневшемся личике. – Замуж, ха-ха…»
– Замужем не была и без мужа не жила… – Будто бы про себя проговорила пожилая работница.
– Не была, так буду!.. – Галина топнула валенком, прошипела: – Старая карга!.. Нинка, как думаешь, верить ей, верить, а?.. Чепуха!.. Представляешь, какая я буду с пузом, ха-ха… – Распахнула ватник, покружилась.
Ох, и статуя же была! Говорили, говорили завистники, что к такой-то фигуре да другую бы рожу – вот уж ерундовина, уж поверьте на слово. Во все времена нельзя, чтобы одному все, а другому ничего. Каждому, каждому если не все, то хоть что-то, хорошо бы хорошее. – Нин, а, Нин, ну, сходи, интересно, чего она тебе скажет. Наверно, лучше, как мне, а?.. – Вздохнула. – Ты и сама лучше. Хочешь шоколаду? У меня есть, есть…
– Ну, пришла… – Стояла в дверях гадалка. В платке на плечах, в глухом платье, в меховой кацавейке, в черной юбке да в стоптанных валенцах. – Проходи, проходи… садись. Ну, задумай что-нибудь.
Задумалась: о чем же мне думать? О том, что останусь жива? Хозяйка раскинула на столе карты, смешала их, опять начала раскладывать. О чем же еще думать? Как Галка – замуж? Ну, выйду… наверно, все ведь выходят. Почти все. Чего бы такого придумать? А хозяйка снова смешала карты, с досадой:
– Тебе что, совсем не о чем думать? Улыбается… – Качнула головой. – Ну, ладно, давай руку.
– Какую? – Подняла обе с колен.
Взяла левую, разглядывает, поворачивает к свету, так и эдак.
– М-да… – вздохнула, – хорошие у тебя руки, а только счастья не вижу я в них. Вот у подруги твоей… э, какая она тебе уж подруга, так… Н-да, у нее руки худые, но счастья много-много ей будет… – Всматривалась, поворачивала, вздыхала. – А у тебя хорошие, очень даже хорошие, но… родилась ты… – вдруг пристально глянула темными, жгучими, – в феврале…
– Да… – Неожиданно для себя прошептала и почувствовала, как ладони вспотели.
– Рано осиротела?
– Да… – «Откуда она знает? Галка?… Нет, Галка б сказала».
– И лиха хватила…
– Не знаю… – Улыбнулась уже своей милой покорной улыбкой, которая так будет красить ее всю жизнь.
– Да уж я знаю… – И все еще держит ладонь, всматривается. – Ну, выйдешь ты замуж, выйдешь… будет у тебя… двое детей, но проживешь ты всю жизнь одинокой.
– Как это? – Чуть дернулась левой рукой – отобрать.
– А вот этого, милая… – удержала и крепко, – я не знаю. Для этого я должна посмотреть и х руки.
– Почему?.. – Растерянно улыбалась. – Ведь их… – «нет же еще».
– Их руки, их самих… – Словно не слыша. – И болеть будешь, много болеть, вот тут все, все!.. – Сердито ткнула в какую-то точку на ладони. – Пойдем со мной… – Встала, не отпуская руки. – Пойдем, пойдем, не бойся, там никого нет… – Кивнула на дверь в другую комнату. И верно, отчего-то вдруг стало страшно: как она все понимает! – Вот видишь… – Привела в промерзшую полутемную комнату, встала перед большой фотографией на стене, с которой строго глядел молодой моряк. – Видишь этого человека. Вот на его руки я никогда не смотрела, никогда…
– Почему? – Прошептала.
– Боюсь… всю жизнь боялась, а теперь уж совсем… Не могу. Это сын… мой сын. Один единственный человек, которого я боюсь глядеть, а ты мне не веришь.
– Я верю… – «Теперь».
– Теперь веришь… – Усмехнулась. – Я ведь этим делом занимаюсь еще с десятого года, с тысяча девятьсот десятого года, уж можно б и научиться, да?.. – Задумчиво покачивала темной своей головой. – Я ведь и по лицу вижу, каждого из вас вижу… – Возвращалась в маленькую жилую комнатку. – Ты думаешь, я тебя потому не пустила тогда, что ты в телогрейке, а она в шубе.
– Нет, нет! – «Да, потому».
– Не ври. Не хотела я при ней о тебе говорить. Она легкая, сытая. Не едой, не о том говорю, хотя и этого ей хватает, даже теперь, она жизнью сыта и всегда будет, а ты… болеть будешь, много, долго. Но и жить будешь… – Посмотрела как-то уж слишком внимательно, жестко, – тоже долго. – Усмехнулась, чуть заметно краешком бледных губ. – Для тебя долго.
– Сколько?.. – И от радостного испуга услышать что-то такое, чего никто-никто на свете не знает и знать, наверно, не должен, даже сглотнула.
– Сколько?.. – Помолчала. – До шестидесяти пяти лет. Шестьдесят четыре годочка. – Отчеканила веско, раздельно. И печально кивала темною головой.
– У-у… – Облегченно и разочарованно присвистнула Нинка. – Зачем мне так долго? – И подумала: не хочу быть старухой, такой…
– Не хочешь?.. Ну, это, милочка, от нас не зависит.
«Да врет она все, ну ее!.. Откуда ей знать?»
– Вот, глядишь на меня и думаешь: не хочу быть такой, да?..
– Ну, что вы, что вы… – Потупилась, и опять стало жарко.
– Не ври. – Тяжко вздохнула. – Я тоже не хотела такой… – В лад своим думам мелко покачивала темноволосой головой. – Да вот, видишь, пришлось. А красивая тоже была. Была!.. И теперь мне не кажется долго. А мне ведь… – прищурилась, усмехнулась, – ну, и сколько мне дашь?
«Шестьдесят! Или семьдесят?»
– Давай, давай, не стесняйся. Я тебе дала, а ты жадничаешь.
– Я… я не жадничаю… – Вновь запылала, растерянно вскинула глаза. – Я не знаю… – «Вот пристала!»
– Ладно, давай твои шестьдесят пять. Хотя мне немножечко меньше. – Замолчала, уставилась в стол. – Вот так… вот так… А замуж ты выйдешь, но любви не узнаешь.
– Я без любви не выйду! – Гордо откинулась.
– Да-а?.. – Насмешливо, с интересом остановились на ней темнокарие намученные глаза на бледно железистом, словно плохо отчищенная алюминиевая кастрюлька, лице. – А как ты узнаешь? Про то, что любовь?
– Это все знают. – «И она тоже… знала?»
– Думаешь… Нет, милочка, не дано тебе будет настоящей, сумасшедшей любви, так зато и страданий… – вздохнула, – хоть этих не будет. Ты ведь гордая, верная, умная и… разумная, да?..
– Это хорошо или плохо? – Вновь доверчивая улыбка расцвела на румяном лице.
– Ну, и зубы же у тебя. Родовые? И цинга их не тронула. Хорошо.
– Шатаются… – Улыбнулась, потрогала. А про язвы цинготные на ногах не сказала. И эта не догадалась. Значит, не все она знает.
– Ничего, ничего, теперь устоят, скоро лето. Возьми деньги, возьми… – Заметила, как клиентка робко положила на краешек стола сложенную тридцатку, в которой еще были бумажки. – Возьми, не надо мне твоих денег.
– Не возьму… – Тихо, твердо.
– Гордая… Не нужны мне они, не нужны, ты думаешь… Ладно, вижу, что тебе это нужно, тебе. Ну, ладно, иди… – Медленно поднялась. – Устала я. Думаешь, это просто…
– А вы знаете?.. – И запнулась, потому что хотела спросить, сколько ей самой жить.
– Нет. Не знаю и знать не хочу. – Таким голосом в полутьме коридора, что опять страшновато стало. – «Шагреневую кожу» читала? Да вижу, что нет. Прочти. Бальзак, писатель такой был. Ну, вот, что был, знаешь, а не читала. Человеку не положено знать.
«А сама мне сказала».
– Но тебе еще долго, забудешь.
Шла домой, верила и не верила и, понятно, вскоре забыла. Месяца через полтора пришлось вспомнить. «Девчонки!.. – Майским ветром ворвалась в цех Галка Щеглова. – Девочки, я выхожу замуж!..» За врача, армянина. И опять забыла Нина Быстрова про гадалку. И вновь вспомнила: Галка родила. Пусть не сына, как было предсказано, а девочку. И еще год, другой, мужа армянина нет, других хватает – доходило краем до Нины. И пройдет столько лет, сколько было тогда им, в блокаду, прежде чем встретятся, но об этом потом.
…Звонкое февральское утро весело глядело в широкое кухонное окно. За просторным столом сидели двое. А дом еще спал. Двухэтажный, деревянный, он за финнами не ушел и давно уж служил питерским журналистам то ли ведомственной дачкой, то ли гостиницей. Хозяйка (администратор, завхоз) что-то громко рассказывала, я поддакивал, допивая чай, и за этим прослушали мы, как бесшумно вошла женщина. «Доброе утро. Как весело тут у вас…» – Прозвучал певучий, приветливый голос. Однако ж и усмешливость явственно переливалась в нем. Этот свежий, жизнелюбивый голос никак не вязался с той, от кого исходил: пригорбленная спина под стареньким темным шерстяным полушалком, желтовато-бледные опавшие щеки, одышка, слышная в нашем молчании. И сразу не мыслью, но ощущением: какая достойная, умная, твердая. Но при всей своей мимоходно предъявленной нам приветливости держит дистанцию. С грязным бельем к ней не полезешь. Хотя глаза за прохладными стеклышками очков сияют с таким живым интересом. «Какая приятная и больная женщина! – Вырвалось у меня, когда, набрав воды из крана, она вышла. – Кто это?» – «Нина Ивановна…» – Назвала фамилию, о которой я слышал. Больше того, даже о встрече с ней отдаленно и неконкретно подумывал.
Дело в том, что писал я тогда роман о своем друге. А вот эта женщина работала с его первой женой, давно уж покойной. Была с ней в ее последние дни. И месяца два назад был разговор: «Н-ну, если это так интересует романиста… – по обыкновению с усмешкой глядел герой романа на автора, – то я бы посоветовал ему встретиться с этой Ниной Ивановной». И вот случай столкнул нас в одном доме, но все равно представляться, будучи никем и ничем, расспрашивать, казалось неловким, даже вполне унизительным.
А дни вставали все золотистее, выше, и скоро мне уезжать. Каждый из нас занимался своим: я «работал», женщина, когда не было ветра, подолгу гуляла. Шла она медленно, с частыми остановками из-за кашля, и тогда светлая меховая шапочка ее вздрагивала, а надсадный, давимый кашель прогонял осторожных ворон. Лишь воробьи серыми мячиками безразлично прыгали по дорожкам, присыпанным сухими сосновыми иглами. Если случалось солнце, женщина подставляла бледное, процарапанное морщинками лицо теплым янтарным ладоням, смежив глаза, отдыхала от казнящего кашля.
По снегам, пухло взбитым метелями, накатывал уже солнечный, синеглазый март. Пора было уезжать, и наконец я решился подступиться со своей просьбой к незнакомой женщине. Постучавшись в дверь и услышав мелодичное: «Да-а…» – я вошел и увидел за очками вопросительно выжидающий взгляд. «Я – к вам», – улыбнулся. – «Что ж, присаживайтесь…» – любезно кивнула на стул у стола, за которым сидела. Сесть-то было легко, да вот как начать, как представиться, если я – никто. Хотя и приготовил наспех, как говорят шахматисты, домашнюю заготовку.
– Знаете, Нина Ивановна, как знакомились два польских шляхтича? Один протянул руку со словами: князь Радзивилл. Другой ответил: муж графини Потоцкой. Так вот, моя покойная жена была…
И тут я увидел, что это имя тоже ни о чем ей не говорит. И не удивительно: ведь Тамара работала в детской газете, а Нина Ивановна давно уж была далека от этой епархии.
Ничего нового не узнал я о той, которой не станет во второй части романа. Но не знал и того я, что и самой этой второй части, к счастью, не будет. Поблагодарив и наизвинявшись, вывалился я из чужого номера чуть взопревший и с легким оскоминным унижением. И все-таки с облегченьем взбежал к себе на второй этаж, сбросив ненужную ношу. На том мимолетное наше знакомство бы и закончилось, как вдруг нежданно-негаданно был приглашен я на день рождения Нины Ивановны. Это было 23 февраля 1978 года. Так началась наша дружба.
Корни
Иногда, если выпадет такая минута, прикроет глаза, и поплывут там, за серыми веками, яркие летние картинки. Рожь, васильки, синее небо, зеленые, подернутые желтой сурепкой луга, голубая лента реки, за которой тяжко стоят леса. И он, дядя Андрей, просто Андрей, высокий, светло кудрявый, румяный, с такими прозрачными синими глазами. В сероватой полотняной рубахе и холщовых портах, босой, ведет ее в поле. Он убогий умом, блаженный. Но она, трехлетняя Нинка, ничего не ведала – он товарищем был ее детских дней.
Родилась она не в любви. «Мать моя была родом из крепкой, зажиточной семьи. Про таких верно сказал Виктор Астафьев: в деревне всегда бывал дом, на который равнялись, на которых держались устои. И всему голова дед, Петр Саввич. Лапины – говорили, и этим было сказано все. Дом большой, пятистенок, жили в нем все. Когда семья усаживалась за стол, во главе его дед, седой, бородатый, в синей ситцевой рубахе, в черном жилете, на пузе часы на цепочке. Стол, конечно, без скатерти, но надраен скребком так, что блестит. А бабушка Дарья худенькая, маленькая, когда же она спала? Вот уселись, замерли, ждут, и пока Петр Саввич не окунет деревянную ложку в общую миску, никто не полезет, не начнет. И чуть что не так – по лбу. Ну, об этом в книгах много написано. Я боялась, что и мне попадет ложкой, другим внукам влетало, но ни разу дед не стукнул меня, потому что я была питерянка. Бабка Дарья всегда первенький огурчик мне. Но это и все баловство. В три года и я, питерянка, была уж приставлена к делу – поливать цветы на окнах, полоть свои грядки. Утром дед каждому давал наряд на день, и попробуй не сделать. Бездельников в доме не было. Только собака брехает, говаривал Петр Саввич, ну, так это ее работа. В еде, как я помню, были умеренны. От пуза, как теперь противно так говорят, никто никогда не ел. И это не от скаредности, не от бедности – от ума, от уважения к пище. Ели вволю, особенно щей, но еду не выбрасывали. Помню, на псковщине меня поразило, когда хозяйка навязывала мне лишнего творогу. Я отнекивалась, ну, куда мне, мол, столько. Дак чего, говорит, всё одно поросенку вывалю. Да побойтесь вы бога, Евдокия Павловна, говорю. Эв, и бога сюды приплела, не в канаву ж мне выливать. Да мой дед бы за такое убил. Что ели, не помню, щи да каша – пища наша, наверно, так, а на третье всегда молоко. Не пили – хлебали ложками. А из лакомств помню ягоды, землянику, раздавят и зальют молочком. В сенокос… вот уж это был самый большой праздник, не гулянка, а работа-праздник. Все нарядные, мужики в расшитых рубахах, бабы в платочках. И ребята тоже трудились, ворошили сено, ходили за ягодами. В лугах ели на холщовой домотканной скатертке. Помню, как ткали, белили на горке за домом холсты. Другую русскую деревню я видела уже взрослой, на псковщине, и помню, как до отвращения меня поражала их грязь, свинство, какое-то бытовое хамство. А у нас, тверяков, тогда был культ чистоты. Раз в неделю драились веником-голяком все полы, и за что ни возьмись, за тряпочку ль в сепараторной, за ситцевый полог от мух – все чистотой дышит. Жена среднего брата была не очень опрятная, так ее брезгливо и называли: цыганка. Грязнуль и нерях презирали, это уж было в крови. Не знаю, как там сейчас, а тогда… Боже мой, Саша, все расшаталось, все, все…»
– Это в Калининской области, а где?
– Помню, поездом ехали мы до Бежецка, потом уж на лошадях, а кругом леса, поля, речки, покосы, деревни. Представляете?
– Представляю: легкая пыль от колес, они крутятся медленно, железный обод цвета свинца, возница неподвижно сидит, девочка тоже, одна лошадь работает, переставляет, переставляет ноги, головой мотает, отмахивается хвостом – жестко стегает себя по взмокшему крупу.
– Да-а, слепни…
– Мухи!.. Слепней еще нет: лето в самом начале. А когда ехали лесом, то вокруг, по обочинам, белые звездочки – земляника цветет. А небо в детстве почему-то всегда синее с белыми клецками. Вы ведь до сих пор их в бульоне варите.
– Да ну вас!.. – Рассмеялась. – Но синее, а деревни все серые, крыши соломенные. У меня теперь ностальгия какая-то по этой деревне.
– Это по детству, по прошлому. Вообще по ушедшей жизни.
– Не только. По устоям, укладу. Дед умер году в двадцать восьмом. Слава богу, до коллективизации не дожил, а старшего сына Павла сослали. В деревню он уже не вернулся, махнул в Питер, младший погиб еще в первую мировую войну. Все рухнуло, но дед еще успел искалечить жизнь моей матери Степаниде.
Иван Быстров увидел Степаниду Лапину на гулянке и заслал сватов. По великой, мгновенно сверкнувшей любви? Да, по извечной крестьянской – к земле. Кончалась война, уж Гражданская, вышел декрет о земле, и Быстрову Ивану, демобилизованному подчистую красноармейцу (отморозил пальцы на ноге – белый билет) полагался надел. Мать старуха, брат дурачок, а он в Питере, слесарем, но земля дадена, не отдавать же, если взять можно, вот и надо жену – посадить на землю, к маменьке под крыло. Да с дитем, с одним ли, с двумя ли, там посмотрим, как жизнь повернет, а она круто швыряет, две войны, навидались всякого. А девка крепкая, статная, гладкая, одно слово – Лапина.
Власть новая, а земля древняя, и обычай старый на ней: не спросили девку, по сердцу ли жених этот ей: «Выдавать будем Степаниду». – Проговорил папенька. Как приговорил. А она в дыбы: не пойду!.. Не взглянул, что любимица, отходил вожжами: пойдешь!.. Не хочу, я Никиту люблю. Ты Ивана полюбишь, у его землица, надел, а Никита голь перекатная.
Оженили-выдали – только даром бил стекла у Лапиных бедный Никитушка. И ушла Степанида с ненавистным мужем к ненавистной свекровке. Ну, а сам-то муж в Питер отбыл, он ведь так, на побывку сюда приезжал. Письма шлет матушке, поклоны жене, в начале, а в конце наказы – блюсти себя, слушать маменьку.
Родила Степка сына Васю, он до трех лишь месяцев дожил, и обратно она ни вдова, ни девка, ни баба – так, батрачка в дому у свекровушки. И одна отрада – младший брат мужа блаженный Андрюша, юродивый, вот кто любит ее, что ребенок ходит за ней. Но опять спешит по лету законный супруг, побыл, пожил да обратно же (человек подневольный, казенный) отбывает в далекий неведомый город. А жена Степка вдругорядь с брюхом. Тут уж девочка вышла, окрестили Ниной. И уж с а м отец, Петр Саввич, наведался: дошло до него, как он дочь любимую выдал. Бери, говорит, сундук с приданым и домой. Нет, отрезала, и глазами все ему выложила. Промолчал крутой старик Лапин, повздыхал да уехал. А когда Нинушке сравнялось целых восемь месяцев, завернула ее Степанида в одеяло и по серым октябрьским хлябям отправилась в Питер. И как рыжее солнце свалилась на мужа с хмурого неба – у него уж и там кто ни кто, а сударушка есть. Но она, Степанида Петровна, законная, венчанная. Да с дитем. Вот и зажили так: то в деревне, то в городе. Но в деревне, сказала мужу Ивану, со свекровью не буду. Ну, так начали избу рубить для себя.
И теперь из младенчества островками выныривает уж свое, Нинкино. Вот котенок, пушистый, хорошенький, взбрыкнул, вздыбил тощий хвостик трубой, поскакал на упругих лапках – от земли отлетают. Ну, и Нинка за ним. Но задела высокий деревянный горлач, опрокинула, пролились сливки (приготовила мама масло сбивать), испугалась, забилась за бревна, смотрит, ждет. А котенок лижет густую белую лужицу, лак-лак, лак-лак, так и ходит, мелькает на солнышке розовый язычок. Утомился, облизывается. Брюшко вздулось, серое, чернополосатое. Ох, придет мама, заругается (из-под бревен, окоренных, сосново пахучих, в янтарной смоле тревожно мерцают такие же мокрые смоляные глазенки).
Пришла. Увидала. Расплакалась. «Мам, ты чего? – Вылезла, подошла. – Мам, я больше не буду. Терлась о теплый материнский бок, влажно взглядывала. – А зато Тишка поел». Это верно – сладко дремал, претугое пузико видно ходило на вздохах, приоткрыл латунные тигриные плошки (звали?), постояли в них два черных восклицательных знака, утонули за шерстистыми веками.
Прижимала мать дочу, молча гладила, утирала соленые щеки, сглатывала. Ох, кому скажешь, что не масла ей жаль, а нескладной своей судьбины. Как тут жить рядом с этой старой змеей, без мужика середь мужиков. Вот пошла, чтобы дали лошадь, сколько выстояла, да все зря. Изба недостроенная, нету дома ни здесь, ни там, в городе. Зиму там, лето здесь, так поди ж оно прахом все к чертям!
И наладилась снова в город, уже навовсе. Снова лошадь, телега, дорога. Снова пыль кисеей оседает за ними; из нее, из детства, подернутое седыми годами, иногда выплывает темное, светлое. Темное – бабушка в буром платке, суровая, темноликая. «Ешь…» – Кладет пред девчонкой сырое яйцо. «Мама, она не любит… сварите…» – Давясь слезами, говорит мама. «Захочет, так съест». Не захочет, для нее это хуже лягушки.
А светлое это он, Андрюша, что идет за ними, держась за грядку телеги, смотрит, смотрит, хочет заплакать. А в ушах непонятное, бабушкино: «Степанида, скажи ему… – Это папе, папе Ване, – Христом богом молю его, пусть приедет, возьмет малого… – Это тоже понятно – Андрюша. – К дохтуру свозит, ведь старая я, помру я, а он…» И совсем непонятно: плачет, эта бабушка плачет. А мама не плачет, говорит, что наказ передаст.
Там, в Ленинграде, у них с мамой работа другая – ходить по работу. Дотого как проснутся трамваи, поднимала Степанида сонную дочь и пешком на биржу труда, по торцам, по камням, по плитам. Громадные толстые лошади подковами цокали, на телегах нахохленно горбились с папиросками дядьки в картузах, дребезжали трамваи, а уж очередь!.. Она что, не спала?
1926-й, 1927-й, безработица. У окошечка брала мать дочку на руки, чтобы видели, не одна она, надо ж ей… Нет, ничего нет, отвечала светлосерая рубаха с косым воротом о двух пуговицах сбоку – косоворотка. Нет, не вшилиться Степаниде Быстровой никуда и никем. Ну – решилась удариться вдруг в торговлю. Накупила яблок, душистых, румяных, сложила в корзинку, прикрыла накрахмаленной белой салфеточкой, сама вырядилась. «Мама хорошо шила и одевалась со вкусом. Высокая, крутобедрая, тонкая талия, маленькая ножка. Она любила костюмы. Прямой английский костюм любит крутое бедро. У меня его не было, мне не идет, а ей очень. Темный костюм, белая блузка из зефира, свежее лицо, серые глаза, коса каштановая в рыжину, ну и зубы – мелкий жемчуг. У отца тоже хорошие были, это я от них унаследовала».
Вот такая торговка появилась осенью двадцать седьмого года у сада «Василеостровец», где неподалеку теперь дворец имени Кирова. А спустя два часа прибежала домой красная, встрепанная, без корзины, без яблок. Окружили там ее мужики, молодые, охальные, кто глазом лизнет, кто рукой ущипнет, кто словечком скабрёзным измажет, вот и бросила все, убежала под гогот матерых торговцев. Ох, пропадите вы все пропадом! Ишь, нашли нэпманшу.
До тридцатого года не могла устроиться на работу. Ну, Иван помог, он с завода ушел в вагоновожатые, вот и Степку туда же, кондуктором.
Провернулся в скрижалях и со скрежетом встал над землею тридцатый год, обронил письмецо из деревни: умирая, прокляла тебя твоя мать за Андрея, сообщал сосед. Как ударили – собрался тотчас Иван, поехал. Он довез меньшого брата лишь до Твери, пятьдесят верст лугами-лесами были в диво да в радость громадному белокурому ребятенку, а как город надвинулся, сжался, притих. Добрались до вокзала, и вот тут напугало до смерти черное чудище паровоз: эта страшная, эта смирная прародительница паровозов наших «Овечка». Закричал, забился, заплакал Андрей: не поеду!.. Не поеду!.. Так и эдак – никак. Хорошо, в больничке нашлись добрые души, приютили на время Андрюшу.
А Иван вернулся, побыл да обратно в Тверь, может, в городе том, средь чужих людей пообвыкся уж малый. «Пойдем, брат, пойдем, – Говорил Иван, невысокий, темноволосый, кареглазый. – Степаниша ждет, Степушка…» – «Степаниша?..» – Светлел: больше всех на свете любил ее. «Она, брат, и Нина, Ниночка…» – «Нина?» – «Пойдем, брат, и не бойся, люди ездят, и мы, брат, доедем. Паровоз, он же смирный, он там, спереду». – «Нина?» – «И Нинушка там, Степаниша тоже, обое». – «Обое?» – Пошел смирно, но дрожа, уставясь в землю.
До утра не сомкнул в вагоне глаз, тихо пялился в черные окна. И ждала Андрея великая радость – подхватил Степанишу, по комнате носит, приговаривает обычное: «Я когда вырасту большой, шалинку тебе куплю». Восьмой год обещает большим вырасти, восьмой год сулит маленькую шаль купить.
И пошло у них сперва складно: взрослые на работе, ребята дома играют в куклы. Нинушка командует, Андрей слушается. Двадцать три его года, что ее прежние три, а теперь она школьница, во вторую ступень пойдет с осени.
Старший сын сдержал слово, данное некогда матери, свез Андрея к доктору. Покачал головой врач, руками развел: от этого, милый мой, сам господь не излечит. Скорее всего, у него был менингит. А сюда, постучал по виску пальцем, в сей храм и большевики покуда не вхожи. Вот и все. Я сказал вам все. Вы свободны, товарищ. Как свободен? А он, ну, Андрей? Так ведь мать-то ждала, умоляла. И ведь слушался, не перечил ей никогда. Оженился по воле еёной – чтоб земля, значит, чтобы все… а ему-то зачем? Он ведь в город ушел, он бы здесь, в Питере, расхорошо жил, вот хотя бы и с Тасенькой, с той, с которой… как любила, не то что законная, Степанида. А теперь «вы свободны, товарищ»… Как свободен? Для чего же все? Прокляла же мать на смертном одре, а теперь…
И нависло с тех пор над ним – молчаливым, угрюмым стал, зачастил к баптистам, благо дом их молельный был рядом, угловой (там сейчас большой серый). И запомнила восьмилетняя Нина (раза два с собой брал) большую лохань, про которую говорили «купель», и чего-то бубнили. Скучища… Вот к китайцам любила с отцом ходить. Весной, в первую вербную неделю, высыпали на Бульвар профсоюзов «вот такусенькие китаяночки», продавали фонарики, веера. Не китайцы и совсем не такусенькие тоже бойко торговали кто чем. Больше всего нравились восковые уточки. Наливала мать в таз воды, и гоняла Нинуха с Андреем свое утиное стадо.
Но недолго над Иваном Быстровым тяготело проклятие – в тот же год, как привез Андрея, заболел, бредил, метался. Андрей брал его на руки, ходил, нянчил: а-а…а-а… Глядела Нинка, дивилась: какой сильный. Мать на работе, они втроем, отец в беспамятстве мечется, Андрей то поносит его, то положит, смотрит, не ведая, чем же помочь, а девчонке чего-то страшно. Пришел врач: ах, вот как, буйствует? На Пряжку его, в желтый дом. Там расчухали: не по их ведомству, весь горит, весь в огне. Отвезли в больницу Фореля, там-то выяснилось – гнойный плеврит, запущенный. Откачали, да поздно уж, поздно. На двенадцатый день, тридцати четырех лет отроду скончался Иван Быстров. И остались они втроем.
С год тянулась Степанида, из последних сил старалась, жили дружно, да вот горе-то: не прокормить ей Андрея. Он что малый ребенок, а ест за дюжего мужика, дай да дай. А где взять?
По лету поехали они в деревню, в последний уж раз. Никого, считай, не осталось, лишь рыжеволосая Фекла, сестра Степаниды. Отец помер два года назад, мать с год. Павел сослан, об нем лучше не спрашивай, две коровы было у них да две лошади, так теперь легче – лишь одна телка гуляет, а овец, как прежде никто не считал, так и нынче: уж некого стало. Вернулись, и пошла Степанида к врачам. Вину свою за Быстрова они еще помнили, помогли пристроить Андрея. Куда, дочери не сказала, одна повезла шурина.
Паровоз, что некогда напугал Андрюшу, черный, шипящий, окутанный паром – из геенны огненной, не иначе, а вот эти дяденьки-тетеньки в белых халатах не страшные: белым снегом леса, долы, деревни спеленуты с полгода в деревне. И пошел смирно Андрюша, с интересом разглядывал новое. Обернулся сказать Степанише что-то, а уж нет ее. Но когда приехала проведать его, уцепился, обнял, подхватил ее, стал носить-умолять, приговаривая: «Степаниша, родненькая, возьми меня, возьми, христом богом прошу я… Когда вырасту, шалинку тебе куплю, шалинку…»
Отодрали дюжие санитары Андрюшу, увели. А потом уж мать не рассказывала, и не знала Нина, ездила ль. Да и знать-то стало ей некогда, в школе так интересно! Алый галстук повязала на шею, стала истовой пионеркой и гордилась, как все кировцы: сам Сергей Миронович разрешил им носить свое имя.
Жили бедно: картошка, селедка, капуста, горох. «И я говорила, что, когда вырасту, ничего этого есть не буду. Но осталось на всю жизнь. Я не гурман, не сластена, простая пища самая лучшая для меня. Но тогда я мечтала о колбасе, ветчине, буженине. Мясо тогда было дорогое. Но зимой и мне кое-что перепадало. Родители моей соученицы и подружки Зины Федоровой снимали дачу в Кавголове и частенько приглашали меня туда. Зинка был хилым, рыжеватым заморышем, а я сбитая, румяная п у п а – так меня и прозвали. Был тогда у меня старенький полушубочек, он все время рос со мной, каждый год мама надставляла, удлиняла его. В нем и ездила к Федоровым. Я каталась там с гор, бежала за взрослыми, а Зинка топталась у дома. Хотя брали меня туда не столько, может, для компании, сколько для примера: гляди вот на эту здоровую пупу, сама будь такой. Ох, и щеки же у меня тогда были! Сколько уксусу выпила, чтоб согнать этот чертов румянец!»
Гляди, гляди теперь, Нина на Зиночку, Зинаиду Павловну. Ты, одышливая, согбенная, серая – на такую легкую, порывисто юную, суховатую телом, душой, с сигареткой в углу умного рта, с голубым прищуром да быстрой, покалывающей иголочками скороговорочкой – горошком, перченым.
И одно оставалось – вспоминать. Благо, слушатель ей попался заинтересованный. «Мать у меня была хорошая, гораздо лучше, чем я. Ну, хотя бы потому, что она на меня никогда не кричала. А я иной раз не могла удержаться. Она была обыкновенная крестьянка, которая знала, что труд самое главное. Поэтому с малых лет мне не давали лениться. Не потому что сама не могла сделать – приучала. Лишь теперь это понимаю. Но при этом вбивала преклонение перед знаниями, перед книгой. Свою роскошную косу она срезала сразу же после смерти мужа, надоело возиться. А так отец запрещал. Мама была рукодельница, мастерица. По-настоящему хорошо шила, вкус у меня от нее. Свадебное платье она себе сама сделала из розовой шерсти. И какое, Саша! Тончайшее, вытканное в клетку той же шерстью. Я его потом переделала и носила. А чистюля!.. Я, кажется, тоже не неряха, но такого не признаю. Наверно, я потому и не люблю белый цвет, что все у нас было белым. Все под белоснежными чехлами… да, а что – все?..» И задумалась.
Двенадцатиметровая их мансарда, если смотреть на нее сверху, была будто корма лодки: прямые стены переходили в скошенные, соединявшиеся окном. У дверей раковина с умывальником и помойным ведром, над ней шкафчик, за ним кабинетный «Зингер» (машина убиралась вниз, получался письменный стол для Нинки), потом кухонный столик, цветы и окно. В другом углу от дверей висела одежда, далее шла железная кровать с никелированными шарами, за ней этажерка с книгами и кушетка, на которой спала Нина. Середина пустая, да ее, считай, не было – так, лишь пройти. Ах, да, еще три стула разбрелись, приткнулись кто где, лишь один, четвертый, не отлучался от «Зингера». Вот и вся территория, заметенная белым: стулья в чехлах, на кушетке покрывало, на кровати пикейное одеяло, из-под которого приспущен кружевной подзор, подушки, Нинкин воротничок на сатиновом платьице. «Вот гогочка, в белом воротничке ходит». – Поджимали губы соученицы. Сейчас, полвека спустя, отвечает она им: «Так защищалась бедность».
После смерти мужа Степанида Быстрова бросила свой трамвай, ушла из вагоновожатых на сталепрокатный завод, электрокарщицей. Не женский был труд грузить тяжеленные мотки проволоки, везти их из цеха в цех тряским булыжником. Все внутренности отбивало. Зимой из горячего цеха в мороз. «Бывало, придет мама после вечерней смены усталая, потухшая, а я лежу в ее кровати, согреваю постель. Поест она, тогда я прыг на свою кушетку. Как-то пришла она вся красная, наверно, простуженная, а в ночь стирка, очередь подошла. Прачечная во дворе, наша очередь с полночи до шести утра, пропустишь, жди еще месяц. Пошла, отстиралась, и началось у нее воспаление легких. Это было в конце зимы, потому что в день рождения, когда мне исполнилось четырнадцать лет, мама уже лежала в больнице. А потом, не знаю уж почему, у нее началось воспаление брюшины. Может, от тряски на элетрокаре, может, осложнение, не знаю. Будь у нас кто-нибудь взрослый, может, все бы повернулось иначе, а так что я, девчонка, могла. Перевезли маму в больницу Эрисмана, выписали, снова положили, пришло лето, клиника закрывается, я в пионерлагере, чувствовала мама себя уже хорошо и не хотела дергать меня из лагеря, попросила, чтобы ее на недельку, пока я не вернусь, перевели в другую больницу, где-то не то на Пионерской, не то на Гребецкой улице. Там-то ее и простудили, опять началось гнойное воспаление брюшины. У нее в паху получился огромный нарыв, должен был оперировать профессор Рабинович, но он посмотрел и отказался. Как я теперь понимаю, боялся, что она умрет на столе. Операцию она выдержала, но ассистент сделал плохо. Так говорили. И начались мучения. Рана не заживала, полтора года я перевязывала, перевязывала, стирала бинты, гладила их. Помню, после очередной стирки в прачечной мы с Таткой Тверской решили вымыться у них в ванной. Разделись, залезли и уснули, голые. Отец Татки услышал, что там тихо, постучался – молчание, громче – опять тишина, надавил, сорвал крючок, а мы спим, ничего не слышим».
Кто-то сказал Степаниде, что гомеопаты хорошо помогают, и пришел высокий, холеный Рудольф Иванович Эдлис. Он не мог знать, сколько они получают (32 Нинкиных рубля за отца, 40 Степанидиных по инвалидности); он не мог знать, что каждый его визит съедает добрую четверть их «бюджета»; он не мог знать, что эта конопатенькая девчонка добывает и для него хлеб (прислуживает людям, стирает, моет полы, бегает за керосином и в лавку), – нет, не мог он этого знать, но видеть кто и что перед ним он мог? Должен? Не должен.
– Что вы мне подаете? – Стоял с вымытыми мокрыми ладонями, с которых капало на пол, брезгливо глядел на рушничок, протянутый ему Ниной.
– Полотенце…
– Полотенце, милочка, должно быть белое и крахмальное-с…
Что ж, отныне было такое. Но еще нужно было ему подавать пальто, и однажды, распалясь, встала на стул у дверей коротышка Нинка (она позднее выстрелит вверх), сказала: «Подойдите, Рудольф Иваныч, я вам подам пальто». Мать закусила простыню, отвернулась к стене – от стыда за дочь, от беспомощности, безысходности. «Ну, мама, мам!.. – Тоже расплакалась. – Я чего ему, лакей, да, да?.. У нас лакеи отменены! Он чего, сам не может надеть?»
Потом приходила женщина гомеопат, но вот имени от нее не осталось – другое запомнилось. Эта тетенька все видела, все понимала, и однажды позвала Нину куда-то на Пушкинскую улицу к себе, накормила и (самой принести неудобно, обидит) дала девочке сверток с вареньем, консервами, соками. А в карман старого пальтеца сунула початую бутылку рыбьего жира. И вот это осталось – пролился жир, до семнадцати лет вместе с Ниной, вместе с пальто бегало темное пятнышко.
Но ни барин, ни добрая тетенька Степаниду не вылечили, началось воспаление почечных лоханок. Увезли в Мечниковку, положили к Шапиро. Знаменитый профессор оперировал самого Серго Орджоникидзе. Подарил нарком за это профессору легковой автомобиль – диво дивное по тем временам. «Ну, невеста, здравствуй, здравствуй… – Улыбался Нинке при встрече. – Какое у тебя красивое платье». – «Это мама шила…» – Шептала.
– Дома, Саша, на руках, и как сшила!
«А вот ты, когда мама поправится, что мне подаришь?» – «Велосипед». – «Вот спасибо, невеста, придется стараться».
Он старался, Шапиро, но еще больше старалась болезнь, и перевели Степаниду на другое отделение, гинекологическое, где работал «светлой памяти Михаил Петрович Никифоровский». – Так всегда вспоминает тех, кто не только врач был, но еще человек. Вот и этот очень старался, только что же он мог тогда сделать с прободением, перитонитом?
Умерла Степанида Быстрова тоже тридцати четырех лет отроду, в твердой памяти, на руках у дочери. Говорила, торопясь, забываясь: «Одна, одна… как же ты, как… Нина?..» – «Мама, мам, я здесь, здесь…» – «Помни, помни: у тебя страховка… за меня… ничего, ничего…» Так боялась всегда просрочить очередной взнос, отдавала последние гроши за б у м а г у – это все, что могла сироте оставить.
Умерла утром. Пришел Михаил Петрович, молча положил ладонь на спину девочке. Уже девушке, долго сидел рядом с ней. «Как же ты теперь?.. Нина?» – «Не знаю». – «Как работа?»
Да, работала уже в Горном институте секретарем у профессора Германа. Добрые люди устроили (не брали, годами не вышла), но теперь все, шестнадцать исполнилось.
Гробовщик спросил: рост? Не знаю. Ей бы сказать – средний, а она обратно в больницу. Нашла морг, у дверей сторож старик сидел, грелся на позднем осеннем солнышке. Был погожий день тогда, в конце сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года. «Дедушка, у меня мама умерла». – «Ну… – взглянул, пыхнул трубочкой. – Все помирають. Вот и ты, даст бог, помрешь». – «Мне измерить…» – А е е не смогла вытолкнуть. «Вон аршин… – шевельнул головой к стене, где стоял, прислонясь, деревянный метр, – бери да и мерь на здоровьичко». – «А как я найду?» – «Эв, гляди на ее… – Посмотрел, первый раз. – Чай, она твоя мать… была…»
Темно, холодно, страшно. Тускло мерцают цинковые столы, на которых о н и, укрытые с головы до пят простынями. Подошла к одному столу, сжавшись, отвела край простыни – жуть!.. Набросила, побрела к другому, откинула – еще страшнее!.. (Ничего, ничего, Нина, впереди блокада, привыкнешь). И решила с ног. Подняла край простыни… ноги, раздробленные… выронила хвост простыни и бегом туда, где сияет кусочек беленой стены – солнце в дверь смотрит желто, тепло, по-живому, но сюда – нельзя – не заходит. Сзади стукнуло – ой!.. кто? (это метр упал на цементный пол). Вылетела из мертвецкой – мимо сторожа, мимо деревьев, мимо корпусов – домой, домой!.. Ворвалась: «Мама Катя!.. Не буду я… не буду…» – «Чего ты не будешь?» – Из-под кольчатой седой гривы уставились строгие синие глаза. «Хоронить не буду». – «Вот и дура!.. – Выслушал главнокомандующий их двора, рассердился. – Чего раньше мне не сказала?»
Все сделала мама Катя, и везли две седые белые лошади Степаниду Быстрову на Смоленское кладбище. Пришли родственники. Были поминки, а потом, расходясь, говорили тетки: это тебе не нужно (складывали в сумки мамины платья), это тоже. Рылись, примеривали. Ушли и пропали. До самой войны.
В журналисты
В Ленинград из геологической экспедиции Нина вернулась, когда уже началась война. Люди эвакуировались, она возвращалась. Не советовали ей мужчины-товарищи, но тянуло домой. Еще не было голода, но уже стало ясно, что теперь не до геологии. Пошла на механический завод, один из тех небольших, о три с половиной цеха, которых и сейчас повсеместно хватает. Дали ей место – нарезать вручную запалы для ручных гранат, вот и крутила лерку с утра до ночи. Это не шутка – нарезать тысячу штук. Пузо все в масле, руки (с тех пор сильные стали) ходят туда-сюда, целый день крутишь.
Грянули морозы, замерзло паровое отопление, и самым главным стало спасти людей от холодов, если от голода нечем. «На заводе начали делать буржуйки. Я жестянщик пятого разряда. – Не без гордости улыбнулась. – Причем я стояла на самом ответственном участке, делала колено трубы».
Но страшней морозов все же был голод, и начальство стало уговаривать Нину перейти в буфетчицы. «Почему я?» – «Не понимаешь? Ты самый нужный человек, у тебя семьи нет, тебе брать не для кого». – «Да?.. Вы так думаете? – Кое-что она уже знала. – А давайте посчитаем. Начальнику цеха тарелку дать надо? Надо – раз… – Стала загибать загрубелые пальцы. – Парторгу – два, мастеру – три и себе одну взять – четыре тарелки, Виктор Иваныч, очень много». – «Ишь ты, до чего же ты бойкая». – «А буфетчица и должна быть такой!» – «Значит, согласна». – «Ни за что!»
Долго уламывали, да в конце концов отступились.
– А уже весна, и я выжила.
– Как, Нина Ивановна? Были запасы? Не было? Нет уж, извините, у кого не было, – тем прекрасные и кощунственные слова на памятнике: «Никто не забыт, ничто не забыто». И даты: 1941, 1942… И ни одного имени.
– В общем, вы правы. Когда я вернулась из экспедиции, у меня дома жили тетя Шура, младшая сестра матери, с дочкой. Жили они под Ленинградом, в Невской Дубровке, там проходил фронт, и они бежали в город. Так что если какие-то запасы и были, то они их благополучно прикончили. Потом, когда в сентябре начались бомбежки, и моя мансарда начала сотрясаться, Шура сказала: к черту, на твоем чердаке страшно. И ушла к брату.
– Вы ничего не рассказывали о своих родственниках.
– У меня их было много и никого. Когда умерла мама, они все меня бросили, и позднее я дала… – усмехнулась, – ганнибалову клятву – не знать их. Потому-то и Нюра, наша домработница, однажды была сильно удивлена, как я холодно приняла дядю Павла. Как же, по ее деревенским понятиям это было ужасно. А вот эта Шура, когда мне уже было семнадцать, и я приехала летом к ней в отпуск, думала отдохнуть на Неве, покупаться, сразу спросила: ты по делу или просто так? Только до вечера, ответила я, села на пароход и уехала. Вот вы говорите – запасы, а я вспомнила, почему начала курить. Зимой, в голод, стала искать, не завалялось ли случайно чего-то съестного. Тогда все рылись. И нашла три ценнейшие вещи. Красивую жестяную коробку от монпасье и в ней много-много пилюлек, гомеопатических шариков, это от мамы осталось. Плитки столярного клея и две пачки табака. Клей я купила еще до войны, стулья у меня рассохлись, ребята обещали починить. Сколько надо, не знала, вот и взяла пол-кило, он же легкий.
– По тем временам состояние.
– Да, но ни гомеопатические горошинки, ни клей я не ела, не смогла, отдала, а вот табак… Всем геологам полагалось курево, я раздавала мужчинам, но эти две пачки «Особого» прихватила домой. Над моей кушеткой висела на голубом шелковом шнурке длинная деревянная трубка, как она к нам попала, не знаю, но, не найдя ничего съедобного, сняла ее со стены, натолкала табаку и закурила. Странно, но мне это сразу понравилось: голова так приятно закружилась, и я уснула. С тех пор пошло. Возвращаясь с работы, закуривала и засыпала. Такой вот я наркоман. На заводе я не курила, и никто об этом не знал. Поэтому когда ввели карточки на табак, меня вычеркнули из списка. Я расшумелась. Пошли к главному инженеру. Говоришь, куришь, сказал он, ну на – затянись. Ого!.. не закашлялась, значит, куришь. Ладно, будешь получать. А выжила я, во-первых, потому, что была одна, без детей, а, во-вторых, помог случай. Я фаталистка, верю в судьбу, и она меня хранила в войну.
На одной лестнице с нами, только тремя этажами ниже, жила необычная семья. Когда-то вся пятикомнатная квартира принадлежала им, теперь они ютились в одной комнатке, мать, отец, трое детей. Хозяин квартиры барон Обезгаузен был из какой-то ветви знаменитого рода. Революцию барон принял, работал на ниве народного просвещения, умер в конце двадцатых годов, и заслуги его долго еще помогали родным. Надежда Обезгаузен, его дочь, окончила Смольный институт благородных девиц, Артемий Тверской, ее муж, тоже был из дворянского, но захудалого рода. Сам Артемий и его брат были революционерами. Как пересеклись пути этого чекиста и смолянки, не знаю, но я застала их уже в период полного распада – оба пили горькую. Оба нигде не работали, распродавали то, что еще оставалось от деда, от рода. Но разговаривать с ними, когда были трезвые, даже для меня, серой девчонки из крестьян, было одним удовольствием.
Мы учились с Наташкой Тверской в одном классе, и вот тогда-то на ней я впервые поняла, что значит порода. Ее младшие братья, Юрка да Витька, как я теперь понимаю, уже несли на себе печать алкоголизма, были какие-то заторможенные, глуповатые, но Татка!.. Как она бегала, как говорила, как носила дешевенькие ситцевые платьица! Даже писала она диктанты, по-моему, не так, как все остальные. Всё, всё в ней выдавало породу. Хотя дом их был сущий вертеп.
До войны я часто бегала к ним за водой. К нам, в Воронью слободку, на седьмой этаж вода поднималась лишь ночью, в порядочные квартиры нас, голытьбу, не пускали, во двор, в прачечную, далеко, вот и бегала к ним по черной лестнице. Потом, когда мама заболела и лежала в больнице, Татка переселилась ко мне. А когда я поступила на работу в Горный институт, то и ее потянула за собой. Она была на год старше, поэтому устроить ее оказалось легче.
А родители все распродавали, распродавали вещи, и какие вещи! Тогда мы ничего в них не понимали. Смутно помню черепаховые гребни, кивера, серебро, фарфоровые сервизы. Однажды Татка принесла мне целую связку горного хрусталя, но мы тогда в драгоценностях ничего не смыслили, да и откуда? Я-то понятно, но и Татка была далека от этого. Тогда носить драгоценности считалось мещанством, и принеси она связку брилльянтов, они бы тоже куда-то пропали, как те хрустали. Кончилось тем, что Тверские распродали все и поменяли свою комнату на какую-то развалюху в Пушкине – нужны были деньги. Началась война, я вернулась домой, и однажды приехал Артемий Сергеевич, попросил оставить какой-то мешок, сунул его под кровать – то место, где богачи, вроде нас, держат свои драгоценности.
Вскоре Татка поехала в Пушкин проведать родителей и попала к немцам. Они ведь очень быстро подкатились тогда к городу. Началась зима, голод. Однажды во дворе я встретила маму Катю. Слушай, говорит, к тебе тут приходили из НКВД. Ко мне? Ну да, спрашивали, нету ли у тебя известий о Татке. Я сказала, что нету. Правильно, говорю, мама Катя. И вдруг екнуло: а мешок?.. Я ведь о нем совершенно забыла. Зажгла коптилку, полезла под кровать, вытащила, развернула. Там оказалась большая старинная шкатулка и в ней документы Обезгаузенов, всего их рода и всей семьи. Вот тут я почувствовала страх. Я была предельно глупа, ведь в моей Вороньей слободке, в моем царстве-государстве шаги тридцать седьмого года по ночам не звучали. Из тех, наших, не брали никого. Но все же я понимала, что с НКВД шутки плохи. Это было как ожог: немцы под Ленинградом, а я храню документы немецкой фамилии. Зачем? И на другой день я побежала к своей подружке Вале Парамоновой, она сказала, что знает одного парня, который работает там. Мы принесли ему шкатулку, он посмотрел, сказал: оставь. Но я без расписки не отдала. Прошло дня три, и меня пригласили на Гончарную улицу. С Васильевского острова тащиться к Московскому вокзалу о-го-го, но мы с Валькой потопали. Пришли мы в обыкновенную, только очень натопленную квартиру, какой-то дядька предъявил нам документ, потом нас накормили горячей пшенной кашей, напоили сладким чаем с сухарями. Мы отогрелись, разомлели от еды и тепла, а дяденька спрашивает: «Ну, хорошо, а вдруг сюда придут немцы, что тогда будете делать?» – «То же, что и все, то и мы». И в таком роде. Между делом он расспрашивал меня о Наташе Обезгаузен. И вдруг прямо, в упор: «Скажите, а если вы появитесь в Пушкине, Тата не выдаст вас?» – «Думаю, что нет». – «Что ж, об этом стоит подумать».
Я работала на заводе, но меня уже стали готовить к заброске в оккупированный немцами Пушкин. В конце января пришел морячок (очевидно, это была военно-морская разведка) и принес большой пакет черных армейских сухарей. А с заброской все лопнуло, потому что Тата ушла из Пушкина. Это она мне сама рассказала после войны. Немцы узнали, что они Обезгаузены, начали ухаживать за ними, но к чести этих людей, они не приняли от фашистов ничего. Когда родители умерли с голоду, Татка посадила младшего, Витьку, на санки и ушла из города. Шла она на восток, сумела перейти линию фронта и очутилась у наших. Так что, как видите, дополнительная подкормка у меня все же была. Кроме того, я продавала рушники. Неудобно хвастать, но во время геологических странствий хозяйки, у которых мы останавливались, дарили мне эти красивые полотенца. В самый голод за них давали двести грамм хлеба. Много? Ну, Саша, так это же ручная работа.
Зиночка, Зинаида Павловна Федорова, которая уже после смерти Нины Ивановны прочла эту рукопись, добавила, что в первый блокадный год Нина иногда неделю-другую жила в доме Вали Парамоновой и в другой семье – у Лидии Алексеевны Слепневой, первой жены знаменитого тогда летчика Слепнева. Люди эти были достаточно обеспечены, чтобы по доброте душевной поддержать сироту. Сама Зинаида успела эвакуироваться с родителями еще до блокады, сама же Нина Ивановна о Парамоновых и Слепневых мне не рассказывала, да и на все ли нужны раскопки, не идущие к делу.
В сорок втором году Нина Быстрова перешла на «Судомех», в сорок третьем тоже, как Галина Щеглова, стала мастером технического контроля. Ненадолго. Проволока пошла плохая, и новоиспеченный мастер отказался подписывать акт о сдаче партии пружинок для автоматов. Был скандал, мастер уперся и его перевели в корпусной цех, дали бригаду девчонок, мальчишек, и начали они делать тралы для вылавливания мин. «Наш завод курировал, как теперь говорят, корреспондент «Ленинградской правды» Горбачев, он часто бывал у нас, очевидно, я ему нравилась и, как ни придет, так орут на весь цех: Нина, твой журналист пришел! Уже за одно это я его невзлюбила, а был он еще какой-то грязный, неряшливый, вечно что-то из него торчало. У нашей причальной стенки стоял крейсер «Максим Горький», и на фоне ладных, подтянутых даже в то время военных моряков Горбачев казался мне особенно неказистым. А ведь он был, как я теперь понимаю, способный журналист и человек, наверно, хороший. В сорок третьем году многие заводы снова начали выпускать многотиражные газетки. Дошла очередь и до нашего «Судомеха», и вот тут совсем неожиданно для меня выяснилось, что лучшей кандидатуры, чем я, нет. Роковую роль, наверно, сыграл этот вечный вопль: Нина, твой журналист пришел! В парткоме, наверно, подумали: ага, этот Горбачев и поможет ей. «Мы тебя назначаем ответственным секретарем нашей газеты». – «Но я же ни бум-бум в этом деле». – «Ничего, научишься». – «Не пойду, и все!» – «Пойдешь». – «А я говорю: не пойду!» – «Будем судить». – «За что?!» – «За саботаж».
«Как я тогда металась, как плакала! Не помогло. Так вот и повернули меня в журналистику. И всю жизнь я писала, писала… говорят, неплохо работала, но скажу вам честно, лишь один раз я писала с увлечением. Вот так… так, голубчик, так повернулась жизнь. Потом послали меня в областную партийную школу на ускоренные курсы, оттуда в газетку „Ленинградский трамвай“, а когда в сорок пятом году возобновился выпуск „Ленинских искр“, меня, молодого коммуниста, направили туда заведующей пионерским отделом».
Разговоры
– Нина, ты бы не могла покормить Мишу… хм, пока он не получит карточки? – Осторожно спросил литсотрудник газеты Виктор Иванович Островский.
Он любил ее, потому и обращался с такой просьбой. Бывало, заглянет в лицо: «Чертики в глазах бегают, а за ними грусть и грусть… – Гудел ласковым полубасом. – А почему, не знаю». – «Да ну вас, придумываете вы все, Виктор Иванович!» – Отмахивалась.
Отставной капитан Миша был новым заведующим научно-популярного отдела. Высокий, сухощавый, с поредевшей темнокаштановой головой, он показался ей очень ехидным, особенно когда шевелил темными усами. Как таракан. Хорош Миша!.. Ну, для дяди Вити, может, и так, оба они уже старые, еще до войны работали в этой детской газете.
В столовой Нина решила удивить подопечного: дала отстричь от своей литерной карточки целых четыре порции масла, к двум кашам, его да ее. Поглядывая на такую отчаянную щедрость, Михаил Петровский прятал усмешку в усы. Но когда перед ним поставили пшенку, залитую каким-то подозрительным маслицем, принюхался, начал водить усами да шеей, словно гимнастерка душила его белым подворотничком. «Ешьте, Михаил Сергеевич». – Добирала уж ложкой свою кашицу. «Вы знаете,.. – Шумно вздохнул, – чего-то не хочется». – «Вприглядку наелись». – Смотрела, как он взялся за стакан кирпичного чая. Она-то, блокадная душа, думала его удивить, а он заканчивал войну в Австрии, почти год «гужевался» в венских ресторанах. «Знаете что, Нина, пойдем вечером в «Метрополь». Тогда это был ресторан «Особторга», идти не на что, неудобно, не пойти еще хуже: пожилой дядька зовет. Согласилась, хотя и со вздохом. Но ресторан-то коммерческий, обед комплексный – ужас! – 52 рубля, за двоих 104. В ресторане за столиком уже был другой разговор.
– Вы со мной разоритесь, Михаил Сергеевич.
– Что вы, что вы, Ниночка, я богатый.
– Хм, богатый, а ходите в гимнастерочке.
– Самые богатые теперь в гимнастерочках. – Непонятно усмехнулся.
– Все ясно!.. – Тряхнула короткими подвитыми волосами.
– Честное слово, богатые… – Обрадовался, что поняла. – Если не деньгами, то пережитым. А мне, когда демобилизовался, денег много выдали.
– Зачем же их так тратить? – Оглядела жующий зал «Метрополя».
– А как же еще прикажете? Вы не чинитесь, я пригласил вас сюда, завтра вы меня поведете в столовую.
«Чинитесь?.. Слово какое-то». – Ладно!.. Хорошо… – И еда у нее пошла легче.
– Только у меня к вам одна просьба: не берите, пожалуйста, масла для меня, целых две порции. Вообще ни одной. Почему? Ну, оно конопляное… – Улыбался в усы.
– Ладно!.. – Покраснела. – Вы потому и не ели? А чего ж не сказали сразу?
– Не все можно говорить.
Так они и ходили целых две недели, до тех пор пока Петровскому не выдали карточки. Ей интересно было с ним, но и только. Да и какое ей дело до этого старого дядьки, у которого к тому же, как она слышала от кого-то в редакции, то ли жена, то ли какая-то тетка. Ему тоже было интересно: что же у нее происходит с летчиком?
С Героем Советского союза Петром Соколовым она познакомилась на военной игре, которую проводила газета. Красавец, русый, высокий, улыбается не хуже, чем эта корреспондентша. Была она в самом нарядном платье, купленном по случаю у располневшей приятельницы: белом трикотиновом с синим воротом в виде матроски и в голубой шляпе. Ах, вот что она обожала – шляпы!.. Потаскал ее Соколов на ПО-2, кукурузнике, а Юра Нефедов, фотокорреспондент газеты, сделал снимок. Вот она, эта фотография: взбитые ветром волосы, озорные глаза, сдавленные тугими щеками, отчаянно вскинутое лицо, улыбка, словно вскипевшее молоко.
Соколов приехал в редакцию, и началось у них то, что Нина Быстрова называла романом (у людей, она слышала, это бывает). У нее тоже бывало, неоднократно. И есть: кроме летчика, еще двое. С одним она ходит в кино, с другим гуляет по улицам. Летчик стал третьим, вернее, вторым, потому что один из прежних уже предостаточно изучил все окрестности Невского. Но в редакции Соколов стал первым и единственным, кто туда заходил. Скоро к нему притерпелись, кричали, как некогда на заводе: эй, Нинка, твой герой пришел! Ну, пришел и пришел, а ей-то чего.
И однажды отвел ее в сторонку Виктор Иванович Островский: «Нина, ну, зачем же ты так с ним?» – «А как надо? Скучно мне с ним». – «А водишь». – «Я – вожу?.. Я?..» – Задохнулась. «Ну, сам ходит». – «Пускай ходит, жалко, что ли». – «Его жалко». – «А чего его жалеть? Здоровый, красивый, герой, чего еще надо?» – «Вот то-то и оно: чего тебе еще надо?» – «Но все-таки кто-нибудь тебе нравится?» – «Нравится!.. Володя Говорков». – «Не наш?» – «Не ваш, ха-ха-ха!..» – «Так зачем же ты этого кружишь?» – «Я?.. Да он сам кружится».
Ужины с Петровским кончились, но все равно вместо комплексного обеда иногда приключались комплексные прогулки. Оба изрядно знали историю города, так что в этом она, если и не была с ним на равных, то, по крайней мере, хоть понимала почти все, что он говорил.
– Ну-с, Нина Ивановна… – начинал он в их отделе, когда там никого не было, – куда мы сегодня двинем свои стопы? – Он был с ней почтителен, но по отчеству называл редко, когда ехидничал (либо смущался, но этого она не осознавала). А то еще вообще взял привычку обращаться к ней, как… как к собачке: Ёж… еще чего!..
– Сегодня никуда мы не двинем! – Радостно сообщала ему.
– Отчего ж так сурьезно? Свидание?
– Ага!.. А вы разве в молодости не бегали на свидания?
«В молодости…» – невольно вздохнул, а сказал вроде бы поощрительно: «Ну, ну…» И очень хотелось ему улыбнуться дружески, ободряюще, но голос отчего-то садился и – вот черт! – невозможно было отыскать в себе этих добродетельных, отцовских чувств. Вообще никаких. Кроме ржавых, горелых: и куда ты, старик, лезешь?
Ранней весной пионерский отдел в составе заведующей Нины Быстровой и литсотрудника Анны Ильиной собрался в командировку в Волосовский детдом. Уезжали в ночь. Поезд страшный, вагоны покалеченные, темные, народ всякий. А они молоды (Ильина хоть и старше, но живая, умная, добрая); а они стоят у вагона, посмеиваются над своими страхами – ехать надо, но входить неохота. «Гляди, гляди!..» – Анна дернула сослуживицу за рукав, с величайшим интересом вглядываясь в ее лицо: по дощатому перрону шла прямая, высокая фигура в коричневом кожаном пальто, в черной шляпе, в хромовых сапогах. Среди залощенных ватников, старых «польт» не заметить Петровского было трудно.
Поздоровались, довольно натянуто. Лишь добрые темные глаза Анны колются бенгальскими искрами (сразу вспомнила, как недавно он говорил ей: «Ох, и характерец у твоей Быстровой. Несчастный будет тот, кто на ней женится»).
– Почему не входите, боязно?
– Миша, поехали с нами, с тобой не страшно. – Засмеялась Анна.
– С удовольствием бы, но… Вот я тут вам кое-что принес… – Подставив бедро, открыл полевую сумку. – Чтобы вы в дороге не умерли с голоду.
– Спасибо, Миша, ей надо, она блокадница.
«Ничего мне не надо!..» – Молча отвернулась.
Когда поезд тронулся, развернула Анна сверточек, принесенный Петровским, подала Нине бутерброд и за ним довесочек: «Поздравляю, Нина». – «С чем?» – Быстро выпрямилась, так что за спиной брякнула опущенная вторая полка. «Закружила ты Мишке голову». – «Отстань!.. Нужен он мне…» И подумала: а ведь правда… наверно. Зачем это? Нет, не буду с ним больше ходить.