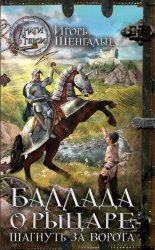С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали (сборник) Абгарян Наринэ

Вернулась она спустя два часа, сосредоточенная и задумчивая.
– Знаешь, о чем я сожалею? – спросила она, когда, выкупав и уложив детей спать, они с мужем пили на веранде заваренный Валинкой чай с чабрецом. – О том, что под рукой нет карандаша и бумаги.
– Можно попросить Немецанц Мукуча, он привезет из долины.
– Попроси, пожалуйста. Я не уверена, что получится, много лет не вспоминала о рисовании. Но сейчас почему-то захотелось.
Тигран обнял ее за плечи, поцеловал в висок.
– Хорошо.
Глава 7
К концу второй недели на подоконнике высилась изрядная стопка карандашных набросков. Валинка перебирала шершавые, исчерканные темным грифелем листы бумаги, разглядывала долго и вдумчиво, вздыхала, цокала языком. Поговорить с невесткой толком не получалось – забота о детях отнимала много времени и сил, да и маранским Настасья владела слабенько, часто сама раздражалась от того, что не может правильно сформулировать и донести до прасвекрови свою мысль.
Тигран пропадал целыми днями, ходил по домам стариков, ремонтировал все, что мог починить: укреплял заборы, срубал иссохшие деревья, колол дрова, латал на скорую руку крыши, прочищал трубы дровяных печек, выносил на околицу и сжигал ненужный хлам, выбивал на солнце дряхлые выцветшие ковры. Помогал, как мог. Алиса часто увязывалась за ним, вертелась рядом, охотно общалась со стариками, рассказывала какие-то свои истории, те расцветали от ее щебета, становились разговорчивей, улыбались. Мастерили ей кривобокие игрушки, дарили безделушки и учили делать цветочных куколок – вывернул бутон мака наизнанку, аккуратно вырвал сердцевину, насадил на стебель, расправил кокон лепестков – получается черноволосая цыганка в алых маковых юбках. Алиса следила, затаив дыхание, личико веснушчатое, солнечное, глаза зеленые, кошачьи, волос соломенный, легкий, словно одуванчиковый пух. Бегала с каждой цветочной куколкой к Тиграну – пап, видишь, какая получилась красота? На расспросы Валинки внук вскользь и неохотно упомянул о тяжелом разводе и нежелании настоящего отца общаться с дочерью и принимать хоть какое-то участие в ее воспитании. Валинка покачала головой, повздыхала, а на следующий день, обойдя соседок и выпросив недостающие ингредиенты, испекла большой коричный пирог, чрезвычайно трудоемкий в приготовлении – пять песочных коржей, пропитанных кремом из уваренных в меду жареных орехов – грецкого, миндаля и фундука, такую выпечку раньше подавали на торжество по случаю крестин, а Валинка испекла ее для маленькой девочки, которая по закону жизни не имела к ней никакого отношения, но по закону сердца была ближе и родней любимого внука. Алиса ела пирог, светясь от счастья, нахваливала и просила добавки.
– Ты потом сделаешь мне точно такой же торт? – пристала она с расспросами к матери.
Пришлось Настасье записывать под диктовку подробный рецепт и клятвенно обещать дочери испечь коричный пирог к Рождеству.
– Справишься? – засварливилась та. Женщины, переглянувшись, фыркнули – общение со стариками не прошло даром, Алиса переняла их ворчливый тон и манеры – стояла, криво подбоченившись, и, вытянув шею, глядела исподлобья.
– Ишь! – Настасья дернула дочь за косичку. Та вывернулась, цапнула со стола горсть алычи и убежала к отцу.
Валинка наблюдала за невесткой и ее дочерью с улыбкой. Они были удивительно похожи – одинаково легкие, изящные, длинноногие.
– Наш народ другой, – задумчиво протянула она, – мы крупные, основательные, горбоносые, неповоротливые. А вы порхаете, словно бабочки.
– Вы очень красивые, – отозвалась Настасья. – И… словно каменные. В Маране, по-моему, все каменное. Дома. Деревья. Люди. И… – Она пощелкала пальцами, вспоминая слово. – Высечены, да. Высечены из камня.
Дождавшись, когда невестка, покормив и уложив спать Киракоса, уходила рисовать деревню, Валинка принималась рассматривать ее наброски – кладбище, косой луч света в узком окне часовни, дождевые бочки, колесо телеги, привязанный к одинокому деревцу ослик, глиняные карасы, кустик просвирняка. В отдельной стопке лежали несколько неоконченных портретов Анатолии – та с Ясаман часто заглядывали к ним в гости, Настасья усаживала ее у окна и рисовала, пока Ясаман, давая отдохнуть Валинке, нянчилась с младенцем. Анатолия распускала косу – волос у нее, несмотря на немалый возраст, сохранил густоту и удивительный медовый отлив, Настасья ахала от восторга – надо же, какое редкое и удивительное сочетание смуглой кожи и пшеничных, с рыжинкой, волос, красота, красота! Анатолия же водила плечом – ничего особенного, Стася-джан, взяла одно у отца, другое – у матери, вот и получилась такая внешность.
Ясаман шепотом жаловалась Валинке на подругу, здоровье которой, несмотря на лечение травами, не улучшалось.
– Не могу заставить ее уехать в долину – показаться врачам. Никого не слушается – ни меня, ни Василия, ни Ованеса. Ослабла совсем, то голова закружится, то ноги не ходят. На той неделе в обморок упала, еле в чувство привели.
– Хочешь, я поговорю с ней?
– А толку? Все равно сделает по-своему. Еще и обидится, что тебе на нее нажаловалась!
– Ну что поделаешь. Не маленькая, чтобы заставлять.
– Ничего не поделаешь, да.
Несмотря на болезненный вид, на портретах Настасьи Анатолия получилась настоящей красавицей – молодая, трогательно-светящаяся. Иногда Валинке казалось, что невестка намеренно ее приукрашивает, а иногда – что никакой приукраски нет, и что именно такой она Анатолию и видит. Да и вся деревня на ее рисунках выходила такой, какой давно не была. Словно Настасья намеренно обходила следы старения и унылого разрушения, оставляя Марану тишину и счастливую умиротворенность. Казалось, она относится к этому чужому для себя краю с таким состраданием и пониманием, словно ощущает свою личную ответственность за ту горькую участь, которая выпала на его долю. Ей удивительным образом удавалось подметить или интуитивно вычислить то, чего давно уже не замечали старики. Валинка повертела в руках подробный рисунок кормушки, что стояла во дворе Немецанц Мукуча. Казалось бы – обыкновенная кормушка, низкорослая, кособокая, испачканная куриным пометом. Но надо же было такому случиться, чтобы именно ее облюбовали деревенские чижи. Дождавшись вечера, они прилетали целой стаей и устраивали в ней шумную возню. Домашняя птица наблюдала это копошение издалека, и лишь старый индюк, сварливая бестолковая сволочь, которому у Мукуча все рука не поднималась свернуть шею, ходил кругами и злобно клокотал, тряся багровым наростом на клюве. Впрочем, чижей возмущение индюка не волновало. Поскандалив какое-то время и подъев все подчистую, они разом взмывали ввысь и улетали в сторону леса. На расспросы Настасьи, почему птицы прилетают стаей именно в его двор, старик Мукуч разводил руками – откуда мне знать, дочка, наверное, так было задумано, потому что так было всегда. Маранцы давно уже свыклись со странным поведением чижей, а Настасья, гостившая в деревне всего две недели, не только заметила это, но еще и не поленилась нарисовать облепленную птицей кособокую кормушку. На вопрос Валинки, зачем она это делает, ответила с обезоруживающей искренностью – сама не знаю.
Или же история с оградой на краю обрыва, где покоился павлин. Вано каждый вечер наблюдал эту ограду сквозь закатные лучи, а Валинка ухаживала за горными лилиями, посаженными Тиграном на могильном холмике, и никто из них не подозревал, что по углам, там, где проходит сваренный шов, кованый узор складывается в буквы «К» и «В».
Разглядела их Настасья, перерисовала, показала мужу. Тигран не поверил своим глазам, сходил к ограде, удостоверился, что жена права.
– Но как тебе удалось различить эти буквы? Ты не знаешь нашей письменности!
– Я видела их на крест-камнях и запомнила!
Валинка с удивлением рассматривала очерченный невесткой узор ограды. Они с Вано едва умели складывать буквы в слова, но знали ведь, как выглядят и «», и «Ч». Не увидели, не рассмотрели.
Сразу на нескольких листах Настасья подробно изобразила обрушенную веранду отцовского дома Якуличанц Магтахинэ, с матерью которой в свое время, пока та совсем не сошла с ума, Валинка дружила. Настасья поймала тот ракурс, где обваленные и давно уже проросшие мхом прогнившие балки складывались в старческий профиль. Приглядеться – лицо отца Магтахинэ – нос с характерной горбинкой, насупленные брови, тонкие губы. Валинка специально сходила, посмотрела. Так и есть, лежит Якуличанц Петрос, ровно такой, как в день своих похорон. Ушел, но остался в развалинах своего дома.
Налюбовавшись рисунками невестки, она складывала их в стопку, убирала на подоконник. Поднимала полог люльки, прислушивалась к дыханию спящего Киракоса. Вот он, последний мальчик Марана. Других нет и уже не будет. Молодые уехали, а старики уйдут, не оставив за собой даже воспоминаний.
– Ну и ладно, ну и пусть, – легко соглашалась с горькой реальностью Валинка. – Наверное, так было задумано, потому так и будет.
О забытой на чердаке картине она вспомнила совершенно случайно. Объясняла невестке, как нужно правильно развешивать простиранное белье – по типу, по цвету.
– Надо же сколько правил, – смеялась Настасья, расправляя влажный край простыни.
– Такты думала! По тому, как женщина развешивала белье, люди судили, какая она хозяйка. Не поверишь, об этих хитростях знали даже мужчины. Даже моя свекровь знала, царствие ей небесное, даром что была княжеских кровей, заварить чая не умела, а как нужно правильно развешивать белье – знала!
– Ваша свекровь была княжной? – удивилась Настасья. – Прабабушка Тиграна?
– Он тебе не рассказывал? Видно, не придал значения. Потому их род и называют Меликанц, что… – тут Валинка осеклась, заморгала, потом хлопнула себя по лбу, – как я могла запамятовать! Пошли, Стася-джан, покажу тебе чего. Ты рисуешь, тебе это будет интересно.
И, бросив развешивать белье, она заторопилась в дом, на ходу вытирая мокрые руки подолом передника и ругая себя за забывчивость.
Лестница на чердак располагалась в большой угловой комнате на втором этаже, определенной Валинкой под хранение шерстяных одеял, матрасов и тугих, плотно набитых гусиным пухом, подушек. Дверь этой комнаты с приезда гостей держалась взаперти – из опасения, что Алисе вздумается вскарабкаться по ненадежной чердачной лестнице, старые ступеньки которой отзывались на каждый шаг недовольным скрипом, облетали трухой и тяжело прогибались – дерево местами прогнило и грозилось обвалиться.
– Надо попросить, чтобы Тигран ее укрепил, – опасливо оглядывая каждую ступеньку, сказала Настасья. Она шла за прасвекровью, след в след, не дыша, держась рукой за стену – опираться о шаткие перила побоялась.
Валинка с оханьем переставляла ноги:
– Стара я стала, колени совсем больные, нужно на ночь сделать картофельное обматывание.
– Помогает?
– Немного помогает. Натираешь сырую картошку, добавляешь ложку крупной соли, обмазываешь колени, закутываешь платком и подкладываешь под ноги мутаку, – Валинка толкнула дверцу чердака, та со скрипом распахнулась, дыхнула в лицо унылым запахом лежалых вещей, – я тут давно уже не прибиралась, дочка, сил не хватает. Осторожно, не испачкайся.
Настасья заглянула в помещение и ахнула – просторный, но забитый донельзя отслужившими срок вещами чердак показался ей местом, где не просто остановилось, а запуталось-забылось время. Все пространство вокруг было заставлено покрытыми налетом пыли и паутины старыми сундуками, казанами, чанами, пустыми глиняными карасами, мебельной рухлядью – шифоньер, табуреты, сломанный стул. На переднем плане, повернувшись к ней искривленной ручкой, стоял медный кувшин – высокий, длинношеий, в бирюзовых пятнах окиси. Настасья не удержалась, украдкой погладила его по пыльному боку, попыталась поднять крышечку, но тщетно – та держалась намертво.
– Вот как надо делать. – Валинка наклонилась, надавила пальцем на невидимую кнопку – крышечка со щелчком откинулась набок, открывая узкое горлышко кувшина.
– Знаешь, кто его сделал? Дядя Василия. Хорошие были у Кудаманц Арусяк сыновья, рукастые. Отец Василия был знатным кузнецом, а дядя – медником. Одно время все женщины Марана с такими кувшинами на родник ходили. Была у них одна важная особенность – в любую погоду вода в них оставалась холодной.
Валинка повернула кувшин, продемонстрировала дырявое дно.
– Давно прохудился, а починить некому. И выкинуть рука не поднимается.
– Еще бы, такую красоту выкидывать!
– По правде говоря, я не из-за красоты его храню, – возразила Валинка. – А в память о людях, которых знала. Видишь эти карасы? Их дед Бехлванц Мариам сделал, той старухи, со свекровью которой я туфли Вано на тот свет передала. А вот этот ларь, – Валинка похлопала по тяжелой крышке, – сколотил плотник Минае. Хороший был старик, совестливый. Умер в войну, не дожил до похоронки на сына два дня. Бог его пожалел, раньше забрал.
Валинка заглянула за большой деревянный ларь, поелозила там рукой, нащупала потемневший край рамы.
– Стася-джан, помоги достать, одна не справлюсь.
Настасья вцепилась в другой угол рамы и осторожно вытянула тяжеленную и чудовищно грязную картину. Валинка достала из ларя ветошь, протянула невестке – давай ты протрешь, дочка, я боюсь попортить. Настасья принялась аккуратно счищать плотный налет грязи, но толку от этого оказалось мало – полотно было испачкано до такой степени, что различить, что на нем изображено, не представлялось возможным.
– Свекровь ее тут спрятала. – Валинка распахнула единственное окно чердака настежь, надрывисто закашлялась.
С трудом отдышавшись, утерла тыльной стороной ладони выступившие слезы. – Всю жизнь кашляю от пыли.
Настасья заволновалась.
– Идите вниз, я сейчас тоже приду. Вот только отнесу в хозяйственную комнату картину, вдруг я смогу… – она попыталась придумать на маранском синоним к слову «реставрировать», но быстро сдалась, – починить ее.
Валинка кивнула.
– Как скажешь, дочка. А я тогда белье довешаю.
– Сколько лет она тут пролежала? – спросила вдогонку Настасья.
Валинка застыла в проеме чердачной двери.
– Да целый век, наверное. Мы с Вано, если честно, ни разу ее не видели. Пока свекровь была жива, никого к ней не подпускала, а к тому времени, когда она померла, мы об этой картине напрочь забыли. Диву даюсь, как это я сегодня о ней вспомнила!
Рама осыпалась мертвой трухой. Пришлось полностью отделить ее, благо далась она легко, гвозди, державшие полотно, давно уже проржавели и крошились от надавливания пальцем. Убрав прогнившие обломки обратно за ларь, Настасья отнесла холст вниз и поставила так, чтобы на него падал бьющий из окон солнечный свет. Под ярким дневным освещением на полотне проступил силуэт человека. На нижней части картины виднелось мутное белесое пятно.
Заагукал Кирюша – Настасья заторопилась вниз, к рукомойнику, умылась, наспех переоделась, заглянула к ребенку – прасвекровь как раз меняла ему промокшие ползунки. При виде матери он радостно залопотал, потянулся к ней ручками. Она покормила его – молока было так много, что Кирюша еле справлялся, приходилось отнимать сосок, чтобы дать ребенку отдышаться. Настасья поймала себя на мысли, что при других обстоятельствах и в другом месте она бы сочла возвращение молока чудом. Но в Маране она отнеслась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. «Наверное, так должно было быть, потому что так и было задумано», – повторила она про себя любимую присказку стариков и улыбнулась. Чем проще слова, тем значительней их смысл.
Вернулись Тигран с Алисой, мы сейчас пообедаем и снова уйдем, ворвавшись в комнату, сообщила довольная дочка, чмокнула в круглую щечку брата, потом поцеловала Настасью – мам, там одна бабушка (забыла, как ее зовут) учит меня на спицах вязать, я уже связала целых два ряда, представляешь?
Пока Алиса отвлекалась на мать, Валинка отправила Тиграна наверх – поглядеть на картину, а сама принялась накрывать к обеду стол – разлила по тарелкам окрошку на мацуне, выставила отварную курятину и молодую картошку, брынзу, малосольные, отдающие анисовым ароматом помидоры, зелень, свежие огурцы и редис. Тигран вернулся озадаченный – о существовании картины он, как и Настасья, услышал впервые.
– Как такое могло случиться, чтобы вы с дедом ни разу о ней не вспоминали? – спросил он.
– Сама в толк не возьму! – закручинилась Валинка.
– Я имею приблизительное представление, как почистить картину, – подала голос Настасья. – Попробую это сделать. Времени уйдет много, но к нашему отъезду справлюсь. Единственное, что мне нужно, – растительное масло. Найдется?
– Найдем.
После обеда Тигран с Алисой вернулись к старику Анесу, он – колоть дрова, она – учиться у его подслеповатой жены вязать шерстяной носок, Валинка взялась за тесто для луково-яичного пирога, а Настасья, выпросив у прасвекрови растительного масла и мягкую тряпочку, ушла чистить картину. Приступала она к работе с большим опасением, боялась, что ненадлежащие условия хранения и плотный слой грязи безвозвратно испортили холст, однако под налетом пыли, паутины и темных пятен, оставшихся после нашествия мух, обнаружилась изрядно потускневшая, но неплохо сохранившаяся масляная краска. За три часа кропотливой работы Настасье удалось отмыть небольшой фрагмент полотна – край сине-белого полосатого то ли герба, то ли щита и кусок стены в каменной кладке. Спустя еще неделю на полотне проступил молодой крестоносец – высокий лоб, глубокие глаза, прямой нос, короткая густая бородка. Одет он был в легкие пластичные доспехи, поверх доспехов был накинут тяжелый плащ, багряно-золотой, бархатный, горловину плаща стягивала цепь, каждое ее звено украшал оттиск, замысловатый узор которого, увы, невозможно было разглядеть.
Белесое пятно Настасья оставила под самый конец. Приступая к его очистке, думала, что, скорее всего, это плесень, безвозвратно погубившая часть холста. Но по мере обработки столетняя заскорузлая грязь, уступая осторожным прикосновениям смоченной в растительном масле тряпочки, понемногу отступала, открывая изображение того, при виде чего заглянувшая в хозяйственную комнату с маленьким Киракосом на руках Валинка побледнела, схватилась за сердце и застыла, не в силах пошевелиться. Настасья испугалась, что она выронит ребенка, но прасвекровь успокоила ее – все в порядке, дочка, отдала младенца, а сама, неуверенно ступая мелкими шажками, подошла к картине, ахая и скорбно качая головой, а потом расплакалась – с таким явственным облегчением, словно получила ответ на вопрос, мучивший ее всю жизнь. А в ногах крестоносца, вытянув вверх изящную голову в пышной короне, стоял большой кипенно-белый царский павлин и смотрел на нее прозрачными, цвета гранатового зерна, прекрасными глазами.
Post Scriptum. Разумеется, Валинка никуда не уехала.
Часть III
Тому, кто слушал
Глава 1
Магтахинэ приходила ближе к ночи, сразу после того, как в окнах домов занимались редкие огни, а над деревней раскидывала свое звездное покрывало милосердная сентябрьская ночь.
Она стояла на веранде, сложив на груди руки, и смотрела во двор. Василий успел уже привыкнуть к визитам покойной жены. Заметив ее прозрачный на фоне темнеющего неба силуэт впервые, он, вопреки ирреальности ситуации, испытал не страх, а чувство растерянности и беспомощности. Анатолия к тому времени уже легла – из-за неважного самочувствия она почти все свободное от домашней работы время проводила или на тахте – за необременительным рукодельем, или же в постели. Василий преданно ухаживал за ней – и чаю заварит, и пледом вечно зябнущие ноги укутает, и не забудет вовремя поднести травяной настой, который нужно было принимать три раза в день, строго до еды. Если доводилось отлучаться в кузницу, он обязательно предупреждал об этом Ясаман и Ованеса, чтобы они не оставляли ее без присмотра. Анатолию забота Василия трогала до глубины души. Непривычная к ласковому и внимательному обращению, она, насколько позволяло здоровье, отвечала ему тем же – готовила любимые блюда, привела в порядок весь его скудный гардероб – перелицевала и перешила старое пальто, заштопала белье, связала несколько пар шерстяных носков, сшила из отреза хлопчатобумажной ткани, что берегла для себя, две рубашки. Вечерами она учила его грамоте – Василий, высунув от усердия кончик языка, выводил закорючки букв, с трудом удерживая в неповоротливых, искореженных тяжелым кузнецким трудом пальцах карандаш, а потом, хмурясь и сбиваясь, читал, старательно выговаривая по слогам слова. Давая ему отдохнуть от занятий, Анатолия читала ему вслух книги, которые забрала из библиотеки в первую зиму холода и тем самым уберегла от гибели. Содержание этих книг Анатолия помнила наизусть, но, отмечая неподдельный интерес Василия к художественному тексту, читала ему с таким удовольствием, словно впервые брала их в руки. Засыпали они трогательно обнявшись. Она, улыбаясь, думала о том, каким многоликим может быть человеческое счастье, многоликим и милосердным – в каждом своем проявлении. Смущалась и краснела, вспоминая первую неловкую ночь любви, случилась она спустя неделю после того, как Василий перебрался к ней. Можно тебя обнять, спросил он, нерешительно потянувшись к ней, Анатолию так удивил его вопрос – бывший муж брал ее никогда не спрашивая разрешения, почти всегда – вопреки ее воле, распаляясь от приговоренного молчания и безвольных ее слез, потому эта обезоруживающая, высказанная стыдливым шепотом просьба о ласке стала для нее таким откровением, что она сама потянулась к нему и обняла, стесняясь своего порыва. Василий, несмотря на неотесанный вид и грубоватый мужицкий нрав, оказался удивительно предупредительным в постели, принимал ее нежность с благодарностью и относился к ней так бережно и ласково, что Анатолия впервые ощутила интимную сторону жизни не как унизительную муку, а как счастье. В силу преклонного возраста их чувства были лишены пылкости и затуманивающей сознание страсти, а тела – возможности любить так часто, как это дано молодым, но они принимали это с пониманием и были безмерно признательны небесам за благословенную возможность делить осень своей жизни с тем, кто тебе воистину дорог. «Если бы мне сказали, что нужно еще раз пережить все, что я прошла с бывшим мужем, чтобы быть потом с тобой, я бы на это согласилась», – как-то призналась Анатолия Василию. Он был тронут ее словами до глубины души, но так растерялся, что не нашелся что ответить. Пропадал потом на кузне целый день, а вечером принес неумело выкованную розу – первый цветок, смастеренный им за многолетнюю работу кузнецом. «Я не умею, как ты, сказать словами», – признался он и осекся, не зная, как правильно закончить мысль, «потому решил выковать свои чувства в металле?» – пришла ему на помощь она, «да», – ответил он.
В день, когда Василию впервые явилась покойная жена, Анатолия легла пораньше, измученная грозой. Погода с утра стояла душная и вязкая, не давала дышать – лето было на исходе, уходящий август капризничал и истерил, накалял добела полдень, а ближе к ночи разражался чудовищной силы грозой, разрывал воздух копьями небесных аждааков, лил горячими потоками дождя, но долгожданного облегчения не приносил. Василий заглянул в спальню, убедился, что Анатолия уже уснула, – в придачу к накатывающим приступам слабости она в последнее время мучилась еще и ногами – жаловалась на боли в суставах и отеки, потому спала, подложив под колени сложенный вчетверо плед. Сетовала, что поправилась, всю жизнь была худющей, словно щепка, а теперь бока себе отъела и живот, скоро буду круглая, как головка сыра, шутила она, ничего, я тебя и толстой буду любить, вымученно улыбался Василий – состояние здоровья Анатолии неуклонно ухудшалось, было ясно, что без поездки к врачам из долины не обойтись, но она сопротивлялась и ударялась в слезы каждый раз, когда кто-то заговаривал об этом. Василий оставил дверь в спальню приоткрытой, чтобы услышать, если она позовет, а сам пошел на кухню – заварить чаю с мятой. Входная дверь почему-то была распахнута настежь, он подошел, чтобы притворить ее, и сразу же увидел Магтахинэ. Она стояла, прислонившись животом к перилам веранды, простоволосая и почему-то короткостриженая, и, сложив на груди руки, смотрела во двор, в тот его угол, где находилась конура Патро. Несмотря на то что она сильно исхудала и была ниже своего роста на целую пядь, Василий сразу ее узнал по привычному силуэту – однажды, еще по молодости, она неловко повернулась, запуталась ногой в бахроме половика, упала с высоты своего немалого роста и повредила плечо. С того дня оно часто ныло, особенно к перемене погоды, и Магтахинэ инстинктивно задирала его, а руки держала сложенными на груди, из страха нечаянно задеть что-нибудь локтем и сделать себе больней. Василий хотел было подойти, но она повернула к нему неожиданно молодое, без единой морщинки, лицо и сердито замотала головой. Дверь от дуновения ветра захлопнулась, а когда Василий отворил ее снова, веранда была пуста.
С того дня Магтахинэ являлась почти каждый день, обязательно ночами, дождавшись того часа, когда Анатолия уснет, Василий безошибочно угадывал ее приход, выглядывал на веранду, она стояла там, прижав к груди руки, и смотрела во двор. Он больше не делал попыток подойти, но знал, что она приходит не просто так, а чтобы что-то ему рассказать, вот только пока медлит, непонятно почему. Визиты покойной жены его не пугали, несмотря на испортившийся к преклонному возрасту характер, Магтахинэ была женщиной доброй и беззлобной, самоотверженно ухаживала за своими родителями, которых хоть и упрекала в недостаточной любви, но скорее по привычке, чем из-за обиды. Они с Василием поженились через год после того, как отступил голод, и она приняла и полюбила девятилетнего Акопа как родного. И даже после, когда у них родилось трое сыновей, она различий между мальчиками не делала, относилась к нему с особенной нежностью и не отходила от него ни на шаг, когда у Акопа случались необъяснимые приступы лихорадки. Василий хмурился и тяжело вздыхал, вспоминая страдания младшего брата. Первый приступ случился спустя несколько месяцев после смерти матери: Василий, не дозвавшись брата к ужину, пошел искать его по дому и нашел на полу в гостиной, у Акопа была такая высокая температура, что, прикоснувшись к его лбу, он испуганно отдернул руку. Василий быстро раздел его догола, обтер тутовкой, уложил в постель и побежал за Ясаман. К ее приходу Акоп снова лежал на полу, распластавшись горячим телом на прохладных досках, и заходился в бреду. Пока Ясаман пыталась напоить его травами, он вырывался и стонал, а потом, уложенный в постель и накрытый двумя одеялами, чтобы пропотеть, жалобно плакал и просил убрать из-под подушки меч, который оставил там злой дэв Аслан-Баласар. Приходилось поднимать подушку, показывать, что ничего там нет, но Акоп не унимался, перекатывался в другой конец кровати, протягивал руку к окну – посмотрите, он ждет, чтобы, улучив момент, прийти и убить нас своим мечом. Василий перенес его в другую комнату, подальше от злополучного окна, но и это не помогло – Акоп безутешно рыдал и умолял убрать меч, иначе никому не будет спасения. Лихорадка продержалась всю ночь и отступила лишь к рассвету, а к полудню мальчик проснулся на удивление здоровым, только слабеньким, ничего не помнил, кроме того, что потерял сознание от сковывающего душу ужаса – почувствовал за спиной присутствие кого-то страшного и упал. С того случая приступы повторялись ежемесячно, иногда даже чаще, отходил от них Акоп по нескольку дней, боялся темноты, старался не оставаться в одиночестве. Василий делал все возможное, чтобы ему помочь, – несколько раз отвозил на лечение в долину, водил по толкователям снов и знахарям, приглашал священника. Увы, все старания пропали втуне: врачи отклонений в здоровье мальчика не находили, заговоры знахарей не действовали, толкователи снов, как ни заглядывали в свои стеклянные шары, ничего разглядеть не могли, а вызванный на дом молодой тер Азария, подоспевший как раз к очередному приступу Акопа, промолившись над ним несколько тяжелых ночных часов, не выдержал душевного напряжения и беспомощно расплакался, прижавшись лбом к его горячей ладони.
Единственной, кому удалось разгадать причину выматывающих приступов Акопа, оказалась Магтахинэ. В отличие от Василия, который старался не заговаривать с братом о болезни, чтобы не заставлять его заново все переживать, она мягко, но настойчиво выводила его на разговор, собирала по крупицам и складывала обрывки воспоминаний в пока бессмысленные, но картинки. Со временем она научилась предугадывать припадки, правда, как это у нее выходит, объяснить мужу не могла, потому что вычисляла их приближение исключительно интуитивно, опираясь на свои ощущения и догадки. В такие дни Акоп находился дома, под ее наблюдением, а оставшийся без помощи брата Василий вынужден был проводить в кузнице чуть ли не круглые сутки, чтобы справиться с работой. Но, как ни старалась Магтахинэ держать Акопа в поле своего зрения, ей не удавалось застать начало приступа, что ее безмерно удручало и злило, потому что откуда-то она знала, что разгадка болезни мальчика кроется именно в тех нескольких секундах, которые предвосхищают его обморок. Василий относился к уверенности жены как к причуде, иногда даже подтрунивал над ней, но в глубине души лелеял надежду, что Магтахинэ все-таки сумеет разузнать причину странной болезни брата.
И однажды, спустя два долгих года, когда все уже успели отчаяться и разочароваться, Магтахинэ это все-таки удалось. В тот день, оставшись по ее настоянию дома, Акоп складывал в поленницу колотые дрова. На веранде, завернутый в теплое одеяло, спал в люльке годовалый племянник Карапет, первенец Василия и Магтахинэ, удостоверившись, что ребенок уснул, она спустилась во двор, чтобы быть поближе к Акопу, но не успела сойти с последней ступеньки, как Акоп, не оборачиваясь к веранде, пробормотал быстрым полушепотом: сейчас ребенок упадет. Магтахинэ испуганно повернулась и ахнула – каким-то чудом выпутавшись из одеяла, малыш высунулся из люльки и свесился вниз, опасно перегнувшись через невысокий дощатый бортик. Она в три прыжка преодолела лестницу, схватила сына на руки, прижала к себе, сердце билось так громко, словно находилось не в грудной клетке, а снаружи. Кое-как уняв сердцебиение, она с тревогой добралась до края веранды и увидела то, что и ожидала увидеть, – посреди двора, на груде колотых дров, лежал сраженный припадком мертвенно-бледный Акоп и стонал от сжигающего внутренности чудовищного жара.
– Может, потому ты и болеешь, что умеешь видеть наперед? – осторожно предположила на следующий день Магтахинэ.
Акоп, который ничего, кроме леденящего душу страха, не помнил, бессильно прикрыл глаза.
– Какой в этом смысл, если я сразу все забываю? – прошептал он.
– Не знаю.
Спустя время свидетелем его приступа стала заглянувшая за кукурузной мукой Бехлванц Мариам. Магтахинэ купала ребенка, а Акоп стоял рядом и держал наготове полотенце. Вдруг он отступил на шаг, нашарил рукой стену, прислонился, закатил глаза и медленно сполз на пол и за секунду до того, как потерять сознание, выговорил сквозь сжатые зубы: уста Само. Магтахинэ сунула мокрого сына Мариам, а сама кинулась к Акопу.
– Ничего не спрашивай, – бросила она через плечо, – помоги одеться ребенку, а потом сбегай к Сербуи, предупреди, что с ее отцом приключилась беда.
Уста Само, пастуха, нашли на краю дубовой рощи. Старик лежал, окруженный преданным и молчаливым стадом, и рыдал от боли, словно ребенок, – оступился, неудачно упал и сломал лодыжку.
Весть о том, что младший брат кузнеца Василия предвидит беду, быстро распространилась по деревне. Люди стали приходить, чтобы разузнать о своем будущем, но Акоп беспомощно разводил руками – видеть-то, может, и видит, но ничего не помнит. К его сбивчивым объяснениям маранцы относились с недоверием, обижались, упрекали в бесчувствии и нежелании помочь. Дальше всех пошла старая Парандзем, у которой от неведомой болезни полегла вся дворовая птица. С какой-то радости решив, что причиной тому приступы Акопа, она распустила слух, будто он не предчувствует, а наоборот, накликает несчастье. За вредный нрав и отвратительное злоязычие никто в деревне ее не любил, но некоторые из маранцев все-таки поверили сплетням Парандзем и стали относиться к Акопу как к прокаженному. Они прятали от него детей, не появлялись в кузнице, если он там находился, а встретившись с ним на улице, боязливо крестясь и пряча глаза, переходили на другую сторону.
Если Акоп воспринимал это с несвойственным его юному возрасту хладнокровием и даже радостью – пусть думают, что хотят, лишь бы не досаждали назойливым вниманием, то Василия такое отношение к брату обижало и ранило в сердце. Несколько раз он пытался объясниться с односельчанами, ссорился и доказывал, распаляясь, даже лез в драку, но добился обратного эффекта – теперь маранцы обходили стороной и его. Впрочем, работы от этого в кузнице не убавлялось – страх страхом, а добротной мотыгой, которая прослужит долго и не сломается от постоянного дробления глыб (а каменного добра на макушке Маниш-кара было не меньше, чем земли), не у каждого мастера можно было разжиться. Потому маранцы продолжали ходить в кузницу, а Василий, несмотря на обиду, молча принимал заказы и делал свою работу так, как только умел – старательно, усердно и зачастую в долг, никогда не отказывая в рассроченной оплате тем, кто не в состоянии заплатить за его труд сейчас.
Напряжение, возникшее между односельчанами и семьей Василия, наверное, продержалось бы долгие годы и превратило бы кузнеца и его брата в конце концов в изгоев, если бы не событие, случившееся той же весной и буквально перевернувшее с ног на голову отношение Марана к Акопу. К тому времени участившиеся припадки стали такими выматывающими, что казалось – любой из них может стать последним. Ясаман, которая всегда была рядом, боролась за здоровье юноши, как могла. Она составила специальный сбор трав, вытяжка из которых должна была помочь ему легче переносить тяжеленные приступы. Акоп старательно выполнял все ее предписания: принимал горькие настойки, спал в любую погоду с распахнутым окном, обливался холодной водой, дышал, как она учила – пятнадцать глубоких вдохов-выдохов по утрам, сразу после пробуждения, и перед сном. Лечение, безусловно, помогало, потому что за все эти годы у него не случилось ни одного не то что серьезного заболевания, но даже банальной простуды, а настигшая деревню эпидемия ветрянки, от которой не удалось увернуться никому, даже старикам, обошла его стороной, словно не заметила. Но с припадками назначенное Ясаман лечение справиться было не в силах. Мучительные и тяжелые, они со временем стали до того непосильными, что застигнутый ими врасплох Акоп терял сознание мгновенно, не успевая не то что предупредить о привидевшейся беде, но даже осознать, что с ним произошло.
Отчаявшись хоть как-то облегчить состояние брата, Василий предпринял еще одну поездку в долину. Но и этот визит к врачам ничего не дал, более того, не обнаружив у юноши отклонений, они не придумали ничего лучше, чем предложить оставить его в клинике для душевнобольных. Взбешенный Василий увез Акопа с твердым намерением никогда больше не возвращаться в долину.
– Если ему суждено умереть от припадка, пусть лучше это случится на моих руках, чем там, среди сумасшедших, – заявил он.
Акоп переживал за Василия больше, чем за себя, потому никогда не жаловался и не стенал. Старался не унывать – оправившись от очередного приступа, помогал в кузнице – работал споро и увлеченно, не требуя к себе снисходительного отношения, очень обижался, если Василий предлагал ему передохнуть или оставлял самую трудную часть работы себе. Он был бесконечно благодарен Магтахинэ за заботу, любил ее, как сестру, был предупредителен и ласков к ее родителям – старики, остро переживавшие за шаткое здоровье своей младшей дочери Шушаник, сильно сдали, у Петроса отнялась левая нога, а доведенная бессонницей до истощения его жена слегла от нервной хвори, называемой в народе болезнью жимажанка – болезнью сумерек[27]. Акоп с готовностью помогал по дому – убирал, стирал, стряпал, возился с обожаемыми племянниками-погодками, старшему из которых исполнилось к тому времени семь, среднему – пять, а младшему – три года. Мальчики уже всё знали о болезни своего дяди и трогательно ходили по дому на цыпочках, давая ему отоспаться в тишине после тяжелейшего приступа. У Василия сердце обливалось кровью, когда он наблюдал за сыновьями, за братом, за несчастной своей Магтахинэ, разрывающейся между нуждающимися в уходе родителями и семьей, с наступлением каждого января он вздыхал с облегчением, в надежде на то, что новый год будет милосердней и счастливей старого, а к декабрю с горечью констатировал – жизнь и не думала становиться легче, принося с собой все новые и новые испытания.
Случай, изменивший отношение маранцев к Акопу, они так потом и называли – день, когда младший внук Кудаманц Арусяк уберег нас от гибели. На отвесном склоне Маниш-кара, с противоположной стороны от той, что рухнула при землетрясении в пропасть, зияла широкая и глубокая проплешина – там год от года, сразу после таяния снегов, сходил, подминая под себя упорно прорастающий кустарник дикой сливы, поток селя. Люди давно уже привыкли к грохоту низвергающейся в самое сердце пропасти стремительной лавины, спускалась она всегда по одному и тому же проторенному пути, оставляя за собой влажнобурый, пахнущий холодом и сырой землей развороченный шрам. От селя деревню защищал огромный вулканический зубец, торчащий клыком чуть выше самых крайних домов, – раз за разом спотыкаясь о его несокрушимый асбестовый бок, грязевая лавина сворачивала направо и уходила восвояси, не причинив Марину вреда. Люди, свято верящие в незыблемость каменного зубца, устоявшего даже в знаменитое землетрясение, относились к селю с беспечным безразличием – смысл бояться того, что никогда до тебя не доберется?
Что зубцу не устоять, привиделось однажды Акопу. Это был единственный раз, когда, очнувшись после припадка, он вспомнил в подробностях картинку, представшую перед глазами: сель, устремляясь вперед смертоносным ледяным потоком, дробил на мелкие осколки спасительную глыбу и, с чудовищным чавканьем поглощая дом за домом деревню, смывал ее в пропасть, не оставляя в живых никого.
Поскольку никогда прежде запомнить предсказание не удавалось, Акоп важности ему не придал, решив, что это обычный обман памяти. Но на следующий день, томимый неясным беспокойством, сходил к восточному склону, просто для того, чтобы удостовериться, что все с ним в порядке. Чтобы обойти его по периметру, понадобился целый час, огромная асбестовая глыба возвышалась на краю деревни, литая и цельная, без единой трещины, и казалась абсолютно несокрушимой. Успокоенный увиденным, Акоп расстелил в ее солнечном подножии архалук, с облегчением растянулся, чтобы дать себе передохнуть, и устремил взгляд в небеса. Земля была холодной, но уже покрылась нежными побегами трав, подснежники успели отцвести, уступив место блекло-голубым высокогорным фиалкам, распустившим свои робкие листья, но пока временившим с цветением. Было почти безветренно и благостно, совсем низко над головой, цепляя макушку Маниш-кара белоснежным невестиным подолом, медленно проплыло облако, разливая вокруг молочную тишину… Акоп сложил под головой ладони, улыбнулся, вдохнул полной грудью отдающий талым снегом невесомый воздух, прикрыл глаза – и внезапно увидел на внутренней стороне век два зияющих провала-воронки. Они вращались с чудовищной скоростью, перемалывая своими ледяными лопастями в мертвую пыль камнебокую часовню Марана, если прищуриться, можно было разглядеть ее купольный крест – он мерцал в слепом провале угодившей в капкан птицей, которая рвалась вверх, раскинув в бессмысленном полете тонкие крылья.
Акоп вынырнул из ледяного морока в твердой уверенности, что в этот раз вулканическому зубцу не выстоять, и что единственной возможностью спасти деревню будет каменное ограждение, воздвигнутое между ним и восточными домами. В том, чтобы убеждать брата в грозящей Марану опасности, не было никакой необходимости – Василий верил Акопу безоговорочно. Но как убедить в этом остальных мужиков, особенно тех, кто категорически настроен против него, когда времени оставалось ничтожно мало, а в строительстве спасительного ограждения дорога была каждая пара рук?
Недолго думая, Акоп направился к дому Меликанц Вано, к которому маранцы относились с особым пиететом, да и как можно было еще относиться к человеку, сделавшему все от него зависящее, чтобы приумножить Ноево стадо и спасти тем самым деревню от гибели? Вано выслушал его, не перебивая, вопросов задавать не стал, ничего не обещал. Выпроводив Акопа, сходил в кузницу, поговорил с Василием. Тем же вечером собрал у себя во дворе все мужское население Марана. Какими словами он их убеждал – Кудаманц-братья не знали, ибо идти на это собрание отказались наотрез, Василий – потому, что до сих пор не простил односельчанам предвзято-суеверного отношения к брату, а Акоп – потому, что не видел в этом никакой необходимости.
Защитную стену вдоль восточного края деревни маранцы воздвигали почти месяц. К началу Цветоносной недели[28] она уже опоясывала каменный зубец с той его стороны, где ютились три крайних двора. По настоянию Акопа ее дополнительно укрепили прочными балками и обложили мешками с землей. Сель сошел накануне Вербного воскресенья, в самое безмолвное и страшное время ночи – энбашти. Из-за поглотившего деревню снежного вихря люди разглядеть впотьмах ничего не смогли, а с раннего утра обнаружили лишь нижнюю часть защитной стены – верхняя ее половина, взяв на себя чудовищной силы удар, раздробилась и рухнула в пропасть, увлекши за собой деревянные балки и мешки с землей, а на месте каменного клыка, на протяжении многих столетий защищавшего деревню, остался грубый ров – словно кто-то прошелся по склону Маниш-кара огромным плугом, вспарывая его живое плечо широким лезвием лемеха.
Акоп подошел к полуобвалившейся стене, приложил к ней ладонь, прислушался. Обернулся к односельчанам:
– У нас впереди целый год, чтобы ее восстановить. Я слышу грохот других селей, они не будут такими сильными и не причинят деревне вреда. Но стену все равно нужно укрепить. На всякий случай.
Маранцы молча расступились, пропуская своего спасителя, кто-то протянул руку – извини. Акоп замотал головой.
– Не за что извиняться.
Он шел сквозь толпу, стремительно бледнея, худой и изможденный, с беспокойными, цвета остывшего пепла, глазами. Василий, не сводивший с него взгляда, сразу почувствовал неладное, заторопился, расталкивая людей локтями, и успел подхватить брата за секунду до того, как тот свалился в обморок. Тело Акопа горело чудовищным жаром, ноги сводило в конвульсиях, голова беспомощно запрокинулась назад, из горла вырвался протяжный, хриплый стон. Люди, впервые ставшие свидетелями его припадка, растерялись и испуганно замерли, но через мгновение подняли его на руки и помогли отнести домой. Магтахинэ отвела сыновей к родителям, чтобы они не пугались стонов дяди, а, вернувшись, застала изможденного от переживаний мужа у постели Акопа – чем я могу тебе помочь, чем? – повторял Василий, хватая за руки мечущегося в горячечном бреду брата. Она обняла мужа, прижала его голову к своей груди, Василий сделал слабую попытку вырваться, но потом обмяк и беспомощно разрыдался – не могу я так, не вынесу я больше этого.
Вопреки обыкновению, к следующему утру приступ не закончился, Акоп то терял сознание, то приходил в себя, метался по постели, голова раскалывалась от невыносимой боли, а глаза жгло так, словно в зрачки воткнули два огненных прута. К десяти часам, когда апрельское солнце затопило своим целительным светом деревню от края до края, а в часовне началась праздничная служба, Василий вынес брата из дому. Рядом шла Магтахинэ и подсказывала, куда идти. Спустя годы, когда она, вконец надломленная невзгодами, превратила своим недовольством и бесконечными жалобами-причитаниями жизнь мужа в беспросветную пытку, Василий ни разу не позволил себе ни одного слова наперекор. Он терпел до последнего, а когда становилось совсем невмоготу, отводил жену за руку в дальнюю комнату и запирал ее на засов, а потом, украдкой проверив, стоит ли под окном деревянная лестница, уходил в кузницу – коротать там долгий бессмысленный день. Магтахинэ жаловалась на свою горькую судьбу, на неблагодарность родителей, на невыносимую боль, которая поселилась в ее душе со дня гибели сыновей, но ни разу она не упомянула имени Акопа, ни разу не упрекнула мужа в долгих двенадцати годах ночных бдений, когда приходилось дежурить у постели больного не для того, чтобы помочь – какая может быть помощь при неизлечимом недуге, а просто чтобы быть рядом. В то утро Василий вышел на веранду, чтобы попросить жену перестелить промокшую от пота постель Акопа, она стояла, прислонившись к деревянным перилам, и, прижав к груди руки, глядела в тот угол двора, где спустя тридцать лет Василий поставит конуру собаки, Магтахинэ обернулась на звуки его шагов и сказала: я знаю, почему он так страдает, потому что каждый раз воюет со смертью, вырывая из ее когтей чью-то жизнь, но она этого никому не прощает, вот и мучает его припадками. Василий не нашелся что ответить, смотрел, словно громом пораженный, только ртом воздух хватал, а Магтахинэ помолчала и добавила: ты не волнуйся, я, кажется, поняла, что нужно делать, заверни его в одеяло и вынеси из дому, мы пойдем на мейдан. Василий сделал так, как она просила, вынес из дома брата, как в ту морозную ночь голода, когда он отнес его, пятилетнего, к краю пропасти и узнал о том, что вся долина светится синими огнями, Магтахинэ молча шла рядом, прижав к груди руки, Маран словно вымер – люди ушли на праздничную службу, и только домашние звери и летающие в небе птицы были свидетелями тому, как они несли к мейдану измученного, умирающего юношу. Чисто вымытая по случаю Вербного воскресенья площадь сияла на солнце, словно тщательно натертые стеклышки, в которые дети ловят солнечных зайчиков, Магтахинэ вывела Василия на середину мейдана, попросила убрать одеяло и уложить на землю Акопа – тот мгновенно очнулся от прохлады и открыл глаза, Магтахинэ опустилась рядом на колени, погладила его по щекам, по лбу: Акоп-джан, скажи, что ты этого больше не хочешь, я этого больше не хочу, шепнул Акоп, едва шелестя своими бескровными губами, не мне говори, а ей, рассердилась Магтахинэ, ты знаешь, кто тебя мучает, скажи ей, что ты этого больше не хочешь, крикни один раз, но так, чтобы она услышала, Акоп едва заметно кивнул, прикрыл глаза, глубоко вдохнул и исторгнул из себя нестерпимо страшный, ранящий гортань вопль. Вопль этот, обернувшись тысячами ледяных осколков, вонзился в его душу, вывернул ее наизнанку, обездвижил и обезволил, поворотил беззащитным нутром к нестерпимо холодному дыханию закрутившихся под веками вертунов и, взорвавшись слепящей вспышкой, заполонил собой все и вся, не оставляя даже самой ничтожной надежды на спасение. Душа Акопа повисла над холодной бездной жалким ветошным клочком, а потом полетела вниз, в ее вечную мерзлоту, в бескрайний ее мертвяной морок. Но в самый крайний миг, когда обрушились все небесные своды и рухнули последние опоры, когда от бездушного дыхания вертунов заиндевело время, она извернулась и вырвалась на этот ничтожно краткий миг, чтобы выдохнуть, обжегшись: Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ТАК. Ее оглушило, опрокинуло, поволокло в бездну, ударило о чертополоховы берега, засосало в смрадную тьму, пронзило такой чудовищной болью, что она растеклась ртутными каплями по пространству, выжигая в его сумрачном теле светящиеся огненные лабиринты. И внезапно, на самом краю, когда не осталось ничего, кроме безысходной обреченности, когда страдание стерло черту между жизнью и смертью и погасило последний свет, – наступило абсолютное безмолвие.
«Вставай!» – велел кто-то не терпящим возражения голосом.
И Акоп открыл глаза.
С того дня, когда стала приходить Магтахинэ, состояние Анатолии неуклонно ухудшалось – теперь, в придачу к общей слабости, ее донимала чудовищная тошнота, любая съеденная крошка, не задерживаясь в желудке, просилась обратно. Если в августе она жаловалась на прибавку в весе, то к октябрю исхудала так, что все ребра можно было пальцами пересчитать, а однажды ночью Василий проснулся от того, что она, не сумевши добраться до нужника – от слабости подкашивались ноги, сидела на полу и безудержно рыдала, причитая и жалуясь на свою горькую судьбу. Он помог ей справиться со своими делами, уложил в постель, взбил подушку, чтобы ей высоко было лежать, – так меньше мутило. Поставил чайник, а пока вода закипала, сидел рядом и гладил ее по рукам. Анатолия плакала – от стыда за свою немощь, от того, что легла на его плечи тяжелым бременем. Она несколько раз пыталась извиниться перед ним, но Василий ее обрывал – не обижай меня такими словами, я этого не заслужил. Заварив крепкого сладкого чаю, он напоил ее с блюдца, бережно дул перед каждым глотком, чтобы остудить кипяток, Анатолия выпила треть чашки – больше не смогла, откинулась на подушку, прикрыла глаза. Василий лег рядом, осторожно приобнял ее, поцеловал в висок.
– Я перед тобой очень виновата, – прошептала Анатолия.
– Не начинай опять, – перебил ее Василий.
– Дай мне досказать, – взмолилась она.
Василий молча выслушал ее покаянный рассказ о внезапном кровотечении, о том, как она утаила это от Ясаман, как малодушно, чтобы выпроводить его из дому, согласилась на предложение съехаться, как потом не нашла правильных слов, чтобы переубедить его.
– Я знала, что ничем хорошим эта затея не кончится, но не смогла сказать тебе правду.
– Ты жалеешь о том, что мы вместе? – спросил Василий.
– Ну что ты! – Анатолия виновато зарылась лицом в ладони. – Я жалею о том, что усложнила тебе жизнь.
– Ты не мне жизнь усложнила, а себе. Если бы вовремя сказала про кровотечение, Ясаман бы знала, как тебя лечить.
– Она бы не стала лечить. Она бы попросила Сатеник вызвать карету скорой помощи. А я не хотела в долину. Я хотела умереть.
– Почему?
– Потому что устала жить.
– И сейчас этого хочешь? – спросил с горькой усмешкой Василий.
Анатолия расплакалась.
– Сейчас я хочу жить как можно дольше.
Василий подождал, когда она уснет, осторожно поднялся, накинул на плечи архалук, вышел на веранду. Магтахинэ ждала его у перил. В этот раз она стояла к нему не спиной, а лицом и была ровно такой, какой он увидел ее в день венчания – юной и красивой, в жемчужно-серебристой минтане и кружевной накидке, обрамляющей нежный овал лица. Она улыбнулась, но подойти ему не разрешила – подняла предостерегающе руку.
– Зачем ты приходишь? – спросил Василий.
Она не ответила.
– С того дня, как ты стала появляться, ей становится все хуже и хуже. Ты за ней приходишь?
Магтахинэ совсем по-детски обиженно замотала головой.
– Прошу тебя, помоги ей. Раз ты Акопа спасла, то и ее спасешь.
При упоминании имени Акопа Магтахинэ замерцала-запереливалась золотыми искринками. Через секунду она исчезла, бесследно растворившись в воздухе. Василий подошел к тому месту, где она стояла, потрогал перила. Они были теплые, словно к ним прислонялся живой человек. Он постоял немного, вдыхая полной грудью острый осенний воздух. На востоке занимался рассвет, разгоняя ночную мглу, падала первая, скудная роса. К утру будет вторая, обильная, пахнущая травами и влажной землей. На краю деревни возвышалась защитная стена – с того дня, как Акоп отрекся от своего дара и навсегда избавился от припадков, с макушки Маниш-кара сошло двадцать два селя, но все они прошли мимо, не причинив деревне вреда.
Ранним утром Сатеник отправила в долину телеграмму. А спустя два часа, после первичного, но тщательного обследования, карета скорой помощи, трезвоня на всю округу сиреной, увезла Анатолию в больницу, оставив в ступоре оглушенную неожиданной новостью деревню. На пятьдесят восьмом году жизни, пережив последних своих родственников почти на полвека, прошедшая через голод, холод, предательство и войну, но сумевшая вопреки тяжелым испытаниям сохранить доброе сердце и чуткий нрав, младшая дочь Севоянц Капитона и Агулисанц Воске оказалась на пятом месяце беременности.
Глава 2
После отъезда кареты скорой помощи маранские старики с замиранием сердца ждали вестей из долины, которые приносил или ездивший за продуктами Мукуч, или же почтальон Мамикон, с упрямством барана раз в две недели штурмовавший долгий, пологий путь до деревни, чтобы доставить в почтовое отделение пустопорожнюю прессу и рекламные листовки.
Новостей, увы, было мало, потому что вход в специально оборудованную палату, где под наблюдением врачей лежала Анатолия, был закрыт не только для сторонних посетителей, но и для Василия. Единственное, что ему разрешалось, это передавать с медсестрой свои нацарапанные печатными буквами корявые записки, на которые Анатолия отвечала длинными посланиями, полными заверений, что обходятся с ней отлично, кормят вкусно, не дают подниматься из опасения, что она может потерять ребенка, – как-никак возраст, все будет хорошо, любимый, писала Анатолия, Василий, разбирая по слогам ее письма, каждый раз спотыкался о ласковое обращение и повторял про себя – любимый, любимый. Жил он в захолустной гостинице, от которой добираться до больницы три часа в один конец, чтобы платить за дешевый неотапливаемый номер, устроился дворником, взяли его с неохотой, пеняя на возраст, но все-таки пошли навстречу, и теперь Василий совсем не высыпался, потому что с раннего утра размахивал метлой, убирая с окраинных городских улочек осеннюю листву, а потом допоздна, пока в больнице не погасят верхний свет, сидел под окнами палаты, в которой лежала Анатолия, охраняя ее покой.
Можно было, конечно, оставаться в Маране и ездить в долину с Немецанц Мукучем, но он остерегался покидать город из суеверного страха, что, не будь его рядом, с Анатолией может случиться непоправимое. О ребенке, как ни странно, он совсем не думал и даже не очень верил в его существование, поспешность, с которой Анатолию упрятали в больницу, и строгая секретность, коей ее окружили, подвигли его к мысли, что у нее, скорее всего, такая же неведомая науке болезнь, как у Акопа, только если в случае с Акопом ему удалось провести врачей, то теперь они добились своего и отняли у него единственного человека, который ему дорог больше жизни. О своих опасениях Василий никому не говорил и даже Анатолии не писал – мало ли, вдруг медсестра прочитает его записку, покажет начальству, и ему навсегда запретят показываться на территории больницы. Одну попытку вызволить ее из плена он уже предпринимал, пришел к главному врачу, потребовал немедленно ее выписать, тот, опешив от напора, сначала показывал ему какие-то снимки и бумаги с непонятными закорючками, потом принялся совестить, однако Василий не стал его слушать, потребовал пустить его в палату, а когда получил отказ, обозвал шелудивым щенком, за что, скрученный охраной, был выставлен за порог больницы, и теперь единственное, что ему позволялось, это передавать записки и сидеть под окнами палаты Анатолии.
Мукуч каждую неделю доставлял ему продукты, которые собирали деревенские старики, – хлеб, сыр, орехи, сухофрукты, немного солений и топленого масла, нехитрую выпечку – сали или гату. Василий был бесконечно благодарен за участие, выкроил из сэкономленных денег крохотную сумму, приобрел в магазине рукоделья восемь наборов для вышивки – ткань и разноцветные шелковые нитки – и передал их в деревню, мужики обойдутся, а вот женщин хочется отблагодарить, объяснил он Мукучу. Тот отнекивался, но гостинцы забрал, а спустя две недели привез восемь одинаковых вышитых подушечек – старухи просили передать их Анатолии, чтобы ей мягко было лежать. Подушечки в больнице не взяли, дескать, Анатолия лежит в стерильной палате, и лишняя зараза им не нужна. Оскорбленный Василий оставил их в гостиничном номере, чтобы увезти потом обратно в Маран.
К концу ноября из-за северного перевала пришла большая посылка с припасами и денежным переводом. Мамикон, утирая пот со лба, приволок ее в гостиницу, Василий сначала решил, что это посылка для Ейбоганц Валинки, которую нужно с Мукучем передать в Маран, но Мамикон обиделся – почтальон я, и доставлять посылки тоже мне, отправление для Валинки я на той неделе отнес, чуть спину себе не сорвал, а это тебе, от Тиграна и его жены, как ее там, забыл имя, ах да, Настасьи.
В посылке обнаружились рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко и несколько упаковок песочного печенья, а также бережно завернутое в нарядную бумажную упаковку белоснежное одеяльце – нежное и мягкое, из какой-то невесомой пряжи.
– А это кому? – опешил Василий.
– Ребенку, наверное, – восхищенно зацокал языком Мамикон.
Василий возражать не стал, только пожал плечом. Убрал одеяльце под вышитые подушки, разложил на подоконнике консервы. Попытался отдать несколько штук Мамикону, но тот замахал руками, попятился к входу – ты что, с ума сошел, тебе жить не на что, а ты едой разбрасываешься.
Присланных Тиграном денег оказалось ровно столько, чтобы оплатить гостиничный номер на два месяца вперед, растроганный Василий сходил на почтамт, отправил телеграмму с благодарственными словами и заверением, что вернет деньги, как только заработает. Ответ не заставил себя долго ждать, на второй день горничная доставила ему вчетверо сложенный листок бумаги, Василий попытался прочитать сам, но не смог – больно крохотные были буквы, потому сходил за помощью к привратнику. Тот повертел в руках телеграмму, нацепил очки, прочистил горло и прочел, делая многозначительные паузы в конце каждого предложения: «Дядя Васо, ничего не надо возвращать. Одна просьба – дождитесь моего приезда. Крестным ребенка должен быть я».
– Какого ребенка? – оторвался от телеграммы привратник.
Василий почесал в затылке, покряхтел и неожиданно для себя рассказал чужому человеку о беде, которая случилась с Анатолией, о том, что все радуются ее беременности, а он в нее не верит, потому что не привык доверять врачам. Если получит на руки ребенка – одно дело, значит, не врали, а если нет – придется воевать с больницей, вот только как, он пока не знает.
– Чьего ребенка? – не понял привратник.
– Моего, – раздраженный его непонятливостью, буркнул Василий, забрал телеграмму, отправился в почтовое отделение и продиктовал ответ: «Даст Бог – обязательно».
Ночью, вернувшись после дежурства под окнами палаты Анатолии, он обнаружил на пороге своей комнаты белесого, словно обсыпали мукой, вертлявого молодого человека, который, тыча ему в лицо металлической коробочкой с проводами, затараторил о беременности старухи.