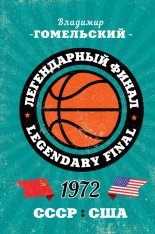Мне лучше Фонкинос Давид

– Да, действительно, вижу.
– Причин для беспокойства нет. Но все же лучше бы сделать МРТ.
– Что-что?
– МРТ. Чтобы получить более четкую картину, чем на рентгене. Это позволяет визуализировать опухоли, если они имеются.
– Опухоли? Почему?.. Вы думаете, у меня опухоль?
– Да нет. Я говорю вообще. Скорей всего, у вас просто соприкасаются два позвонка.
– Не очень-то вы, кажется, верите в такой диагноз.
– Ну что вы!
– …
От этих слов, которые наложились на не стихающую двое суток боль, у меня подкосились ноги. Стало дурно. Я хотел прислониться к стене, но и она оказалась зыбкой. Рентгенолог послал стажерку принести воды, а сам подошел поближе и сказал:
– Послушайте… это самое обычное исследование. Оно позволит окончательно удостовериться, что у вас все в порядке…
– …
– Как оно наверняка и есть…
Но уверенности в голосе я не услышал – просто он пошел на попятный, чтобы я не грохнулся в обморок у него в кабинете, а то он выбьется из графика и у него сорвется план трахнуть молоденькую практиканточку в обеденный перерыв. Я не сошел с ума. Что-то в этом докторе настораживало. Его манера не договаривать фразы, словно оставляя многоточия между словами, – все это неспроста, так говорят только те, кому есть что скрывать: скандальное прошлое, тайные мысли. Откуда в нем такая беспардонность? Разве можно так запросто бросаться словом “опухоль” и делать вид, будто это пустяки! Я спросил, когда нужно сделать эту МРТ.
– Чем раньше, тем лучше. Скорее… отделаетесь.
– Вы это честно говорите, или на самом деле это срочно, но вы не подаете виду?
– Честно. Чтобы вы скорее успокоились.
– …
– Вы ничего не почувствуете. Это похоже на кабину солярия, – сказал он, посматривая на практикантку – она вернулась со стаканом воды в руках.
Я оделся за ширмой. Этот тип меня будто контрастным душем окатывает. То говорит, что все прекрасно, то вдруг оказывается, что при этом необходимо новое исследование. Он тоже хочет “уточнить диагноз”. И он произнес слово “опухоль” – одно из самых жутких слов, какие мне известны[3]. Мне представлялось, что во мне сидит паук. Я еле справился с рубашкой. Каждую пуговицу застегивал по минуте. А выходя из кабинета, наткнулся на стажерку. Она широко улыбнулась и сказала:
– Он всем рассказывает про солярий, чтобы снять напряжение.
– …
– Понятно, что вы нервничаете. Когда болит спина, это очень изматывает.
Все это – не переставая улыбаться. Я попытался тоже улыбнуться, но у меня свело челюсть. Стало неловко за то, что я о ней плохо думал. Разумная, добрая, старательная девушка. Она пошла дальше, а я проводил ее взглядом и неожиданно залюбовался: до чего красивая спина.
8
Интенсивность боли: 8
Настроение: унылое
9
Я плелся еле-еле. Чувствовал себя так, словно меня прищемили дверями. Прежде чем уходить, мне захотелось зайти к тому доктору, который смотрел меня накануне. На счастье, он как раз проходил по коридору. Тут же спросил, как у меня дела, – вот это я понимаю! После меня он принял уже не один десяток пациентов, а помнит, будто мы только что расстались. Я пожаловался, что рентгенолог послал меня на МРТ. На секунду он показался удивленным, но как профессионал тотчас вернул лицу нормальное выражение. Да-да, все нормально. Главное, не беспокойтесь. Это высокочувствительный метод, который позволит установить абсолютно точный диагноз. Он на минутку задержался, чтобы меня приободрить, и рассказал, как проходит МРТ. Я моментально успокоился. И, хотя было неудобно задерживать его еще больше, пожаловался, что боль никак не отпускает.
– Понимаю. Я выпишу вам обезболивающее. Это таблетки с кодеином. А если они не помогут, дам рецепт на морфин.
– …
– Назначают еще кортизоновые инъекции, но я в них не верю.
У меня самого никакого мнения на этот счет не было. Я целиком полагался на доктора. Он выписал рецепт, и я от всей души поблагодарил его за внимание и любезность. Благодаря ему я немножко воспрянул духом и мог теперь заняться другими делами.
На улице я стал искать аптеку. Но ни одной поблизости от больницы не нашлось – странно! Вот ведь вокруг кладбища всегда полно цветочных магазинов. И только метров через двести аптека наконец обнаружилась. Меня обслуживала приветливая, но ужасно медлительная особа. Минут пять, не меньше, она разглядывала рецепт и рылась в компьютере, а потом еще столько же искала лекарство. А когда что-то болит, десять минут – это целая вечность. Вначале она мне понравилась, но теперь – придушил бы.
– У вас болит спина? – спросила она, пока я расплачивался.
– Да.
– Типичный случай. У всех теперь болит спина.
– Вот как…
– Пошла такая мода.
– …
Я не знал, что ответить. У меня, значит, модная болезнь. Хоть какое-то утешение. Ну, и есть свои плюсы: моя хвороба – не сиротинушка какая-нибудь безвестная. К нашим услугам медицина развернула целый арсенал. Я попросил у аптекарши стакан воды запить таблетки и принял две штуки, не сходя с места. За мной успела выстроиться целая очередь, уходя, я слышал у себя за спиной неодобрительный шепот.
Что дальше? Идти на работу не было сил. У меня не хватит духу заглянуть в лицо несчастью. Да и зачем? Я никому не нужен, я изгой. И не уволен только потому, что мой проступок не имел губительных последствий. Меня, как говорится, “положили на полку”, и теперь мне предстоит там полеживать. Меня оставили еще и за прошлые заслуги – ведь до сих пор моя карьера развивалась безупречно. Я даже считал, что все меня ценят, за исключением, конечно, Гайара. Скажу, не хвалясь: я был хорошим сотрудником. Умел работать в группе, выслушивать каждого, умел вносить человеческую нотку в казенные отношения. Вчера, к концу рабочего дня, ко мне заглянул Одибер. Не тот взбешенный начальник, что после совещания метал в меня громы и молнии, а кто-то совсем другой, тихий и сдержанный. Я нутром почуял в нем протестантскую закваску. Этот прямой, корректный человек, с детства приученный жить по совести и справедливости, казалось, источал некую спокойную силу. Судя по тому, что он пришел в мой кабинет, он корил себя за то, что вспылил, пусть даже для ярости были все основания. Человеческие отношения важнее. Да и не пристало такому трезвому дипломату, важному должностному лицу орать, как скупому лавочнику.
– Все мы можем ошибиться, – заговорил он негромко, но твердо.
– …
– Я знаю и ценю ваши способности. Возможно, вы просто переутомились.
– Скорее всего.
– И вы, надеюсь, понимаете, что в ближайшее время я не могу доверять вам ответственные задания.
– …
– Но, думаю, в дальнейшем положение исправится, и мы обсудим планы на будущее.
Я даже растерялся от неожиданной милости Одибера. Тут бы воспользоваться моментом и рассказать, как меня подставили. Но что-то меня удержало. В глубине души я все же чувствовал свою вину. И оправданий мне не было. Не надо было полагаться на Гайара. Я должен был проверить документы, которые он мне давал. И нельзя сказать, что он действовал исподтишка – он никогда не скрывал, что считает меня своим соперником. Так что в значительной степени я подвел себя сам.
Сейчас, когда я шел по улице и вспоминал вчерашний разговор с шефом, мне вдруг стало ясно: то, что случилось, не сильно меня удивило. Как будто я всегда знал, что потерплю полный крах. Есть люди, совершенно уверенные, что их ждет успех, они полны самых смелых притязаний и знают, что рано или поздно добьются своего, – таковы все политики. Во мне же, кажется, всю жизнь работал обратный отсчет – от момента провала. Подсознательно я всегда ощущал себя на краю пропасти. А в последние годы это чувство стало еще острее; что-то во мне надломилось, и стало окончательно ясно: я не из породы победителей. Вчерашний день лишь подтвердил предчувствие, в котором я не в силах был признаться: такая жизнь мне в тягость.
Как ни странно, неприятности на работе не стали для меня страшным ударом. То есть я, конечно, расстроился, но не впал в отчаяние, поскольку и так был настроен на худшее. От этих мыслей меня отвлекла эсэмэска, пришедшая на телефон[4] – Элиза спрашивала, что показал рентген. Я ответил, что все хорошо. Мне нравится такая письменная форма общения. Телефонные разговоры не для меня, я часто не знаю, что сказать, а повесить трубку – слишком грубо. Хорошо еще и то, что жена не могла меня слышать, а то почувствовала бы в голосе тревогу. Таблетки помогли, но это ничего не меняло: завтра надо идти на МРТ. Все, естественно, старались меня ободрить, однако беспокойство не отпускало. МРТ по пустякам не назначают. Больницы, как известно, перегружены. Лишних исследований теперь не проводят. Для этого нет средств, поэтому врачи проверяют главное и делают это в самых серьезных случаях. Я поглубже вдохнул, чтобы остановить кровавую ленту катастрофического сценария. Шагать, размеренно шагать, пока не успокоюсь, – ничего другого не оставалось. Как же давно я не видел наш город вторничным утром. И вообще едва ли помнил, что бывают вторники. В офисной жизни дни сливались. Меня бросало то в жар, то в холод. Циклотимия разлилась по жилам. Мне начинала нравиться эта прогулка – бродить вот так вот в будний день по улицам, без всякой цели – красота! Я с восторгом разглядывал каждую мелочь, как будто все мне было в новинку. И только через некоторое время до меня доходило, что это обыденные вещи. Во мне проснулась пламенная страсть ко вторникам. Так можно полюбить только то, что чуть не потерял. Все вокруг казалось невыразимо прекрасным. Я сам себе напоминал героя “Смерти в Венеции”, разве что холеры не хватало.
И тогда я подумал об Эдуаре. В последнее время мы как-то отдалились друг от друга, но сейчас мне захотелось видеть именно его. Он был тем другом, с которым можно разделить хандру и ничего при этом не объяснять и даже вообще не рассказывать. Пешком до его кабинета пришлось идти целый час. В приемной было пусто. Я тихо сел и стал ждать. Он вышел через несколько минут и, увидев меня, без тени удивления спросил:
– У тебя болят зубы?
10
Интенсивность боли: 7
Настроение: фаталистическое
11
Нет, зубы у меня не болели. Нельзя, что ли, зайти к приятелю-стоматологу просто так, не страдая кариесом? Вот когда на лице Эдуара отразилось неподдельное удивление – значит, мои друзья считают меня напрочь лишенным способности к неожиданным поступкам. Натура, значит, у меня неартистичная настолько, что я уж не могу и забежать к товарищу без особого повода. Что ж, я действительно люблю планировать, расписывать, намечать все заранее.
– Страшно рад тебя видеть, – сказал Эдуар. – Тем более мадам Гарриш так кстати отменила свой визит. У нас куча времени. Я свободен до четырнадцати сорока пяти.
– Вот и отлично.
– Можем сходить в итальянский ресторанчик на углу. Там очень вкусное тирамису, вот увидишь.
– …
– Или ты предпочитаешь “Плавучий остров”?[5] Но перед тем как идти в ресторан, ему непременно хотелось похвастаться своим приобретением – новейшим суперкомфортабельным зубоврачебным креслом.
– Смотри, какие мягкие подлокотники – пациент может положить сюда руки.
– Да…
– А это облегчает боль. Вроде бы пустяки, но так пациент расслабляется процентов на десять больше, чем обычно.
– Да?
– А подставка для ног, погляди… высота регулируется. Как в Эр-Франс в первом классе.
– …
– Вот погоди, еще немного – и визит к стоматологу станет сплошным удовольствием.
Тут уж я промолчал. Да Эдуар и сам, похоже, понял, что хватил лишку. Впрочем, для стоматолога такая любовь к своему ремеслу и такая забота о пациентах весьма похвальна. Его профессиональный пыл не мог меня не тронуть, так что я, поначалу равнодушный к его драгоценному креслу, невольно заинтересовался. И даже задал несколько вопросов. Эдуар просиял, и мы еще довольно долго, как фанатичные креслопоклонники, созерцали это чудо техники.
На полпути в ресторан Эдуар вдруг остановился:
– Но… ты что, сегодня не работаешь?
– Взял день отгула.
– А-а… понятно… – сказал он, помрачнев. – Надеюсь, ничего серьезного?
– …
– Ты что-то хочешь мне сказать?
– Да нет.
– Являешься без предупреждения и хочешь, чтобы я поверил, будто ты ничего не собирался мне сказать?
– Но так и есть – ничего! Просто взял и заглянул к тебе. Как раньше.
– Но ты и раньше так не делал.
– Тогда допустим, я решил начать.
Это правда. Я никогда не заходил к нему вот так – ни с того ни с сего. Наша дружба носила характер строго размеченной пунктирной линии, и было неизвестно, к чему приведет моя попытка отклониться в сторону: сможем ли мы дружить в не отведенных для приятельского общения обстоятельствах. У Эдуара, как и у меня, все в жизни развивалось предсказуемо. У него даже был свой постоянный столик в ресторане. Поражаюсь людям, которые любят обставлять свой быт такими указателями. Лично мне было бы неприятно появляться там, где меня легко найти и опознать, ведь это значит, что придется разговаривать, а я не всегда готов к изящному трепу. Хотя вряд ли кто-нибудь догадывается, что я чураюсь устойчивых привычек из робости. В этом смысле Эдуар – полная противоположность мне: он обожает, чтобы его узнавали, обращали на него внимание, выказывали уважение. С хозяином ресторана он был на ты. “Как дела? – А у тебя?” – приветствовали они друг друга. За обменом любезностями следовала краткая, не дольше минуты беседа – общие слова о политике, о погоде, – этакое скоропалительное словоизвержение; и все завершалось заказом. Впрочем, в этом неизменном ритуале оставалась незаполненная ячейка, предназначалась она блюду дня. Варианты чередовались, снабжая организм завсегдатая ежедневной толикой адреналина. “Ну, что у нас сегодня?” – спрашивал Эдуар, и в глазах его зажигался азартный огонек.
Думаю, Эдуар частенько заглядывал сюда и в одиночку. Так и представляю себе: вот он сидит, поедает фрикадельки и листает финансовые хроники в “Фигаро”. Газета ему нужна, чтобы создавать имидж солидного бизнесмена, озабоченного финансовыми вопросами, тогда как на самом деле ему было в высшей степени плевать на биржевые фортели. И верно, каждый раз он пялился на соседок – трех дам, судя по всему, тоже постоянных клиенток. Они же наверняка каждый день перемывали косточки сослуживцам, – в ресторанах, где кормят по талонам, ничего никогда не меняется. Первая дама выбирала вслух и, готов поспорить, начинала со слов: “Что бы такое взять сегодня… может, пиццу или пасту?” А чуть погодя отметала искушение: “Нет, это вредно. Лучше салатик”. В подругах тоже просыпался стыд, и они по ее примеру тоже заказывали салатики – ни пасты, ни пиццы никому не доставалось, и так каждый день. Да я и сам не раз терялся в лабиринте гастрономического выбора. Никогда не знаешь, что заказать, ведь, выбирая что-то одно, убиваешь все прочие варианты. Ресторанное меню – лучшая метафора всех наших жизненных метаний. Три женщины ели салат, мечтая об эскалопе по-милански. Какое-то время спустя они бросят салат и начнут новый роман с лазаньей. Но и тут их ждет разочарованье: лазанья тоже приедается.
Эдуар тоже наблюдал за тремя подругами. Может, когда-нибудь он рискнет с ними познакомиться. Хотя заговорить с женщиной просто так, ни с того ни с сего, довольно трудно. Кто на это способен? У кого найдутся подходящие слова, чтобы достигнуть цели и не показаться бабником самого низкого пошиба? Вот если бы у них были проблемы с зубами! – должно быть, мечтал Эдуар. И неожиданно сказал, что был бы не прочь на минуточку сбегать налево – а то в жизни не хватает остроты.
– Подать вам к пицце острой подливки? – спросил официант.
– Нет-нет, спасибо.
Мы заказали по пицце “четыре сыра”. Не думал, что смогу есть, но, похоже, желудок мой не желал прислушиваться к больной спине и перешел на автономный режим. Эдуар меня удивил. Заглядываться на посторонних женщин – это еще ладно, но связь на стороне… Выходит, он, так любящий свою жену, тем не менее хотел бы завести интрижку? Наверное, ему просто нужно было высказать вслух это желание, чтобы оно не стало навязчивым. Ведь слова в какой-то мере заменяют действия. Я прекрасно знал, что изменять жене он не станет, он и сам это знал, потому и говорил об этом так легко.
– Как там Сильви? – спросил я.
– Отлично. Много работает. Выложилась до предела, пока готовила последнюю большую выставку. Зашел бы как-нибудь к ней в мастерскую посмотреть. Ей будет приятно.
– Да-да, я ей обещал.
– …
– А как у вас с ней?
– То есть?
– Ну, как вы ладите?
– Почему ты спрашиваешь?
– Да не знаю… Супружеская жизнь – нелегкая штука, а у вас, как ни посмотришь, все как будто хорошо.
– А что, у вас с Элизой что-нибудь не так?
– Да нет, все нормально. Может, не совсем так, как прежде…сам понимаешь, время идет…
– Представь себе, у нас такого нет. Просто чудо!
Он наклонился и шепотом сказал:
– Смешно, конечно, но… этой ночью мы с ней три раза… понимаешь? Двадцать лет живем вместе, а вот поди ж ты!
– Так это замечательно!
– Ну а у вас-то? Теперь, когда дети разъехались, все должно образоваться?
Странное рассуждение. Как будто если уехали дети, то на освободившемся месте должна заново расцвести эротика? Да ничего их отъезд не изменил. Даже хуже стало. Наплыв событий выбил нас из колеи – сын и дочь покинули дом почти одновременно. В конце лета Алиса объявила, что переезжает к Мишелю, своему жениху. Он старше ее на двенадцать лет, и я его почти не знал. К тому времени они были знакомы месяца два-три, и то, что поначалу казалось просто увлечением, очень быстро превратилось в прочный союз. Алиса, верно, обиделась на меня за то, что я отнесся к ее решению без особого восторга. И так ни разу и не наведался к ним, хотя давал ей вялые обещания. Это было выше моих сил. Слишком быстро и резко все произошло. Дочь не должна расставаться с отцом так внезапно, нет бы все постепенно, как у людей.
Беда, как известно, не приходит одна, и вскоре огорошил сын – сказал, что едет учиться в Америку. В Нью-Йорк, на целый год. Круглый отличник, он получил стипендию, а нас даже не поставил в известность, что подавал запрос. Любой другой отец был бы только горд, но для меня, сразу после ухода дочери, это оказалось ударом. И не только для меня – для жены тоже. Недели не прошло – и мы с ней остались вдвоем. Сыну пошел восемнадцатый год. Два года назад ему было пятнадцать, а еще три года назад – всего двенадцать. Но сколько бы я ни крутил в голове цифры – хоть вперед, хоть назад, суть не менялась: сын повзрослел со страшной быстротой. Нет, отъезд детей не запустил нас на новый виток супружеской любви. Хорошей встряской, резкой переменой стал – это да, – переменой, к которой мы были совершенно не готовы, и она не взбодрила, а, наоборот, пришибла нас.
Эдуар почувствовал, что затронул деликатную тему, и перевел разговор в другое русло – спросил, как моя спина. Минуту я поколебался – сказать ли ему всю правду. Но надо же мне было выговориться хоть перед кем-нибудь. В конце концов, не за тем ли я к нему пришел? И я поведал все: как долго – неизвестно почему – меня держали на рентгене и как потом направили на МРТ.
– На МРТ?
– Правда странно?
– Да нет… просто хотят исследовать получше.
– Как ты думаешь, это что-то серьезное?
– Не знаю, я не видел снимков. Но МРТ – обычное дело, нет причин для тревоги.
– Но наверняка же он увидел что-то подозрительное, иначе зачем бы…
– Пока что беспокоиться не стоит. А спина не проходит?
– То и дело сводит.
– Можно на иглоукалывание походить. Говорят, помогает.
– Ну уж нет! Чтобы в меня втыкали иголки… лучше умереть!
– Тогда к остеопату. Могу, если хочешь, порекомендовать толкового специалиста.
– …
– Да ладно, не хандри! Завтра пройдешь МРТ, и все будет хорошо. Иногда ребята на этом просто зарабатывают – назначают дополнительные исследования… чем дороже, тем больше им капает.
– …
– Может, не надо говорить, но я и сам, бывает… ну… посылаю пациентов на рентген, хоть знаю, что он ничего не покажет… Медицина – это тоже коммерция.
– Думаешь, моя МРТ из этой оперы? Какая подлость – так играть на человеческих нервах!
– Не утверждаю, но может быть и так.
– Ну да, повесить мне на спину что угодно… – Я сказал это машинально, не замечая каламбура. А Эдуар расхохотался. Но что-то слишком громко, как будто беспокоился за друга, но хотел утаить это беспокойство.
Пока мы обедали, я несколько раз пытался заговорить о чем-нибудь другом, но никак не мог выкинуть из головы сомнения насчет МРТ. На вопросы Эдуара отвечал механически. Он настойчиво предлагал мне заказать десерт, и я обнаружил перед собой “Плавучий остров”. Мне как будто подставили зеркало – размазня на тарелке в точности соответствовала моему душевному состоянию, только еще и с сахарком. И тут Эдуар спросил:
– Знаешь, что пошло бы нам с тобой на пользу?
– Нет.
– Махнуть на выходные куда-нибудь вдвоем. Честно говоря, мне очень не помешало бы чуток расслабиться.
– Хорошая идея.
– В Женеву, например. Ты же любишь Швейцарию?
– Да, но я столько раз бывал там по работе. Лучше куда-нибудь еще.
– Ну, давай в Барселону. Барселона – это сказка!
– В Испанию мы ездили прошлым летом с детьми.
– Ах да… Тогда, может, в Россию? Уикенд в Петербурге, а? Там, говорят, самые красивые девушки в мире.
– …
– Сходим в дом-музей Достоевского!
Это меня изумило. Уж сколько лет мы с Эдуаром не говорили о литературе. Вот что значит старая дружба – она пропитана мифами начальной поры. Достоевский – весточка из молодости, когда мне было двадцать лет и я страшно увлекался русским безумием и психическими расстройствами. Предложение посетить дом-музей великого русского писателя на двадцать лет отстало от моих вкусов. Но это было даже трогательно. Эдуар обращался ко мне давнишнему – такому, каким я себе нравился больше всего. Теперь я так далек от всякой словесности. Несколько месяцев не брал в руки книгу. Последний раз вроде бы читал свежего Гонкура… да и то не уверен. Купить купил – точно помню, но, кажется, ни строчки не осилил. В последнее время все как-то плохо запоминается. Не то что книги, прочитанные в молодости, – сколько лет прошло, а они помнятся во всех подробностях. Я и сейчас могу ясно услышать, как дышит над ухом Раскольников. Время не властно над нашими первыми впечатлениями, даже если они запылились от долгого хранения в памяти. Поразмыслив минуту, я согласился: мысль превосходная. Почему бы нет! Внезапное решение наполнило меня радостью. За последние годы я позволял себе так мало удовольствий; плюнуть на все и отправиться путешествовать с другом – это действительно было бы неплохо. И у меня появится точечка света впереди, стимул, чтобы не сломаться, преодолеть боль. Нам будет так хорошо, выпьем водки, да и итальянские рестораны там наверно тоже есть.
12
Интенсивность боли: 7
Настроение: русское
13
После этого обеда мне здорово полегчало. О неприятностях на работе я и не вспоминал. Потихоньку учился отстраняться. Сослуживцы думали, что меня нет в офисе, потому что мне слишком тяжело, а я преспокойно гулял по Парижу. Боль была вполне терпимой. Во всяком случае, гулять она мне не мешала (не то что какой-нибудь радикулит или межпозвоночная грыжа). Я прошелся вдоль Сены, полистал книги на лотках букинистов. Остановился на некоторых именах, будто вынырнувших из далекого прошлого: Лотреамон, Мишо, Герен. Купил пару книжек и в придачу путеводитель по Санкт-Петербургу. Мысль об этой вылазке нравилась мне все больше, радовала душу. Не считая семейных поездок в Испанию и нескольких служебных командировок, я за последние годы практически не покидал Францию. Летом мы обычно ездили в Бретань, к родителям Элизы. Там было весело детям – они встречались со старыми друзьями. Но теперь это не имело смысла. Дети с нами больше никуда не поедут. Ничего не поделаешь – что было, то прошло.
Не могу сказать, чтобы я по-настоящему любил родителей Элизы, но питал к ним уважение. Я так долго лелеял фантазию об идиллической второй семье, где меня примут как родного, и я смогу наконец установить с миром какой-никакой эмоциональный контакт. Однако и через много лет наши отношения оставались не более чем просто теплыми: то было приятное, умеренное тепло на швейцарский лад. Они платили мне уважением – не больше и не меньше. Мне, может, хотелось бы чего-то другого: душевных порывов, ласковых слов, – но до этого дело не доходило, меня держали на расстоянии. Во всяком случае, так это виделось мне. А Элиза говорила: “Мои родители любят тебя так же, как любят меня”. Я изо всех сил старался быть образцовым зятем. И это рвение так бросалось в глаза, что однажды теща сказала Элизе: “Твоего мужа, видно, мало любили в детстве”. Я желал невозможного: восполнить изначальный дефицит родительской любви.
Элиза, как все девушки, которые были у меня прежде, обожала отца. Собственно, до нее только одна и была[6]. Наверно, мне такие нравятся – папенькины дочки. Ведь я воочию видел того, кто представляется им идеальным мужчиной, а потому, не пытаясь с ним сравняться, мог лучше их понять. Отец Элизы всегда внушал мне почтение. Видный, блестящий, наделенный к тому же прекрасным чувством юмора. Он преподавал историю в Реннском университете, был известен по множеству публикаций и выступлений (с самим Миланом Кундерой общался!). Оглядываясь назад, я подозреваю, что именно из-за него отказался от мысли написать исторический роман, которую вынашивал несколько лет. Было страшно подумать, что скажет обо мне этот человек, перед которым я преклонялся. Я ему как будто нравился, так зачем рисковать драгоценной благосклонностью. По воскресеньям, за семейными обедами, я предпочитал сидеть молча и не вступать с ним в спор. Если же он сам спрашивал моего мнения по тому или другому поводу, старался высказаться не совсем так, как он, и показать, какой я независимый и умный, но в целом соглашался с ним, не покушаясь на его авторитет. Сбалансированная дозировка самостоятельности и подхалимажа укрепляла мир в семье. К тому же не страдали отношения с женой, которая всегда и во всем была на стороне отца. Он с нетерпением дожидался, когда можно будет уйти на покой, и говорил, что вот тогда-то сможет наконец дописать свою книгу. Над этой книгой о Пражской весне он работал уже много лет – собирал материалы о том, как готовилось советское вторжение. Помню, часто ездил в бывшую Чехословакию, – так и вижу его с дипломатом в руке и с кривоватой улыбочкой на губах. По лицу было видно, насколько он захвачен этой работой. По случаю его выхода на пенсию (и одновременно шестидесятилетия) в их доме был устроен пышный праздник. Вот что значит слава, с завистью думал я, глядя, сколько собралось народу – дай-то бог, чтобы на мой юбилей пришло столько же! В ближайшие годы эта популярность могла самым обидным образом сойти на нет. Но тут он заболел. Совершенно внезапно, не прошло и нескольких месяцев. И с самого начала ему поставили беспощадный, как приговор, диагноз: рак. Родные были потрясены. Элиза просыпалась по ночам и рыдала: “Не может быть! За что ему такое!” И я не знал, чем ее утешить. Врачи практически не оставляли надежды. Потом я вспомнил пример Франсуа Миттерана. Вот кто всю жизнь неистово боролся за то, чтобы стать президентом, но не успел прийти к власти, как у него нашли рак. Давали полгода жизни, не больше. Все шло к тому, чтобы его президентство стало самым коротким за всю историю Пятой республики. Так нет же! Он решил бороться, не сдаваться, победить судьбу. Так все и вышло. Он скрутил болезнь в бараний рог. В 1988 году был даже избран на второй срок и умер через несколько месяцев после истечения этого нового мандата. Пока же оставался на посту, запретил себе умирать. Я напомнил эту историю Элизе, для поднятия духа. Ее отец должен написать книгу, такова его миссия, и он не может уйти, не исполнив ее. При таком мощном стимуле он, я уверен, одолеет болезнь.
И я оказался прав. Отец Элизы прошел длительную химиотерапию, то были месяцы боли и мучительных ожиданий для него и его ближних, но в конце концов он выжил. Это было чудо. Пережитое его преобразило, он буквально стал другим человеком. Да, он выздоровел, уцелел, но потерял в борьбе со смертью много сил. Раньше в семейных застольных беседах ему безраздельно принадлежала первая и главная роль, теперь же он подолгу сидел молча, с отрешенным, отсутствующим видом. Однако мало-помалу все-таки пришел в себя. К вящей радости окружающих. Счастливая Элиза сжимала отца в объятиях. Прошло еще несколько месяцев, мы почти забыли обо всем, что с ним произошло, и не переставали восхищаться тем, что он остался с нами.
Вот почему я не хотел говорить Элизе про МРТ. Официально у меня еще не признали никакой болезни. Но если это случится, я бы хотел поберечь жену, не тревожить ее. Так что, когда она пришла домой и спросила, как моя спина, я ответил – все хорошо. Помню, даже сказал: “Мне лучше”.
14
Интенсивность боли: 5
Настроение: боевое
15
Но лучше-то мне не стало. Всю ночь я терзался страхом. Мрачные мысли сменяли друг друга, как караульные на посту. Никогда прежде я не задумывался о смерти. Наоборот – всегда был уверен, что буду жить долго. Собственно говоря, я так давно уже чувствовал себя постаревшим, что дожидался настоящей старости как благодатного времени, когда дух и тело наконец придут в гармонию друг с другом. Быть стариком – мое призвание, и ничто не должно было ему воспрепятствовать. Как вдруг условия задачи резко поменялись. И я впервые допустил, что жизнь моя может неожиданно оборваться.
– Ты не спишь? – прошелестела Элиза.
– Сплю, – буркнул я вопреки всякой логике.
Да, я боялся умереть. Что действительно стоящего успел я сделать? Снова и снова я прокручивал в голове всю свою жизнь – ничего! Дети? Да, конечно. Но что нас связывает? Сын живет в Нью-Йорке, мы разговариваем с ним по скайпу раз в три дня. Виртуальное общение. Я столько раз прижимал к себе своего мальчика, а теперь вижу его только на экране. И даже не знаю, что он делал сегодня, вчера, позавчера. Дети – как книги, которые мы сочинили, но которые с какого-то момента пишутся помимо нас.
А дочь… моя принцесса, жемчужина моего царства, по которой я схожу с ума…. Ничего как будто бы не изменилось. Мы часто друг другу звоним, посылаем эсэмэски, иногда она еще зовет меня папочкой. Но с тех пор, как она живет с Мишелем, все стало как-то не так. Даже сейчас, ночью, меня бесило само его имя. Я тут лежу умираю, а он меня бесит. С какой стати он зовется Мишелем! Такое имя подходит для коллеги – у меня полно сослуживцев Мишелей, но чтобы моя дочь жила с человеком, которого зовут как сослуживца, – не должно такого быть.
– Мишель так Мишель, не все ли равно, как его зовут! – говорила жена.
– Совсем не все равно!
– Да что ты уперся! Никогда тебя таким не видела. Твоя дочь стала взрослой женщиной, с этим надо смириться.
– Я и смирился.
– Нет. Ты прицепился к имени, но это только предлог. Имя человека – входная дверь к нему.
– Входная дверь?..
– Ну да! А ты не хочешь заходить.
Отчасти Элиза была права. Но и меня можно понять. Я не успел свыкнуться с новым положением. Все произошло так стремительно. Чтобы смириться с мыслью, что дочь – моя родная девочка! – уходит, нужно время, пусть не сто лет, но хоть месяц-другой. Ну не мог я, не мог принять их отношения, хоть понимал, что это глупо. И ничего не мог с собой поделать – разлука с дочерью было невыносима. Мне всегда казалось, что мы с ней так прочно, чтобы не сказать неразрывно, связаны, и какой же хрупкой оказалась эта связь. Она почти разрушилась. Мы столько сил вложили в воспитание дочери, а в конечном счете, спрашивается, зачем? Смысл жизни постепенно утекал.
С уходом детей я все яснее видел никчемность своего существования. Они жили своей жизнью, и я вовсе не был уверен, что как-то прорастаю в них. Что я им передал? Да ничего. Я силился припомнить хоть что-нибудь… Думал-думал, пока не нашел: я научил их присматриваться к другим людям. Все время повторял: “Надо интересоваться другими”. И то хорошо. Но самому-то мне другие интересны? Все меньше и меньше. А если учишь одному, а поступаешь иначе, грош цена твоей науке. Что еще? Интерес к книгам? Я давно перестал читать. Внимание к старикам? Я не выношу своих родителей. Так что же? Что вообще они думают обо мне, о моих убеждениях, о том, какой я отец? Я пустое место. И с моей смертью для них, в общем-то, мало что изменится. Конечно, бессонница прибавляла мрачности моим мыслям, но они были не так уж далеки от истины. Я ничего после себя не оставлю. Никаких следов – словно прокатился по жизни на коньках.
Мне на ум приходили великие мастера, которые успели изменить мир, хотя умерли молодыми. Франц Шуберт прожил тридцать один год. Вольфганг Амадей Моцарт – тридцать пять. Не говоря уж о Джоне Ленноне. Можно перебирать имена до утра, а чтобы перечислить проекты, в которых я принимал участие, хватит пяти минут. Башня Ламартина в Кретейе. Музей Жака Превера в Туре. Лицей имени Ромена Гари в Ницце… М-да… о профессиональном вкладе лучше не думать. А тогда о чем? О нас с Элизой? Что ж, я мог бы составить список наших лучших вечеров, прекраснейших прогулок, мысленную антологию счастливых минут. Бывало, я бежал на встречу с ней, бывало, часами лежал, дожидаясь ее, в супружеской постели или сидел в кино с нею рядом. Знавали мы всякие позы. Но выбрать что-то одно я никак не мог. Всматривался в нашу любовь, как в горизонт, не останавливаясь ни на чем. Взгляд терялся в житейских мелочах, и даже любовные признания не удержались в памяти. Элиза тут, рядом со мной, мне захотелось ее разбудить. Сказать, что она – любовь всей моей жизни, что она нужна мне всегда и будет нужна до последнего дня. Но я не шелохнулся и будить ее не стал – она спокойно спала и ничего не знала о моих терзаниях.
После великих творцов я подумал о других людях, чьи судьбы искалечила болезнь. И почему-то сосредоточился на Патрике Руа[7]. Есть вещи, которые навсегда западают в душу, меж тем как все о них давно забыли. Я вспомнил, как кто-то из его родных говорил в интервью, что его болезнь началась с боли в спине. Я люблю телевизионные игры. Когда дети были помладше, мы старались не пропускать “Вопросы на засыпку” или “Кто хочет стать миллионером?”. В начале девяностых Патрик Руа был восходящей звездой канала TF1. Блестящий, энергичный, обаятельный – с таким телеведущим было бы приятно посидеть в ресторане. На вид славный малый, со смешинкой в глазах. Таких ребят, как он, которые нравились бы чуть ли не всем на свете, очень мало. Тогда каналов было меньше, чем сейчас, и TF1 регулярно замерял рейтинги ведущих среди пятнадцати миллионов зрителей. С Патриком Руа никто не мог сравниться. Не знаю, как он пришел на телевидение, по-моему, с Радио Монте-Карло. Взлет его был стремительным. Особенно благодаря игре “Золотая семья”. Там соревновались две семьи – старались угадать, какие ответы на разные вопросы даст большинство опрошенных людей. То есть надо было научиться думать, как думают другие. Бывали ответы смешные, нелепые, какие-то семьи ругались, какие-то впадали в истерику, когда начинали выигрывать. Такие передачи мне не очень-то по вкусу, я предпочитаю что-нибудь на эрудицию, но эту смотрел – из-за Патрика Руа. Уж очень он был хорош. А потом его вдруг заменили на Филиппа Ризоли. Ризоли тогда вел “Миллионера” – где игроки вращают колесо в надежде выиграть миллион, а публика подстегивает их криками: “Миллион! Миллион!” Когда кто-то выигрывал всего сто тысяч франков, это было, конечно, обидно, но полагалось говорить: “Это тоже хорошая сумма!” Ризоли был отличным ведущим. Тоже этаким простецким парнем, но еще и с налетом рок-музыканта (раньше он вел на Canal+ передачу StarQuizz, – к сожалению, ее закрыли). Этакий телеэкранный Филипп Лавиль[8]. Словом, в один прекрасный день он появился в “Золотой семье”. Никто не понимал, в чем дело. Поползли самые невероятные слухи. Но вскоре выяснилась правда. Патрик Руа серьезно заболел. И сгорел за несколько месяцев. Помню, как его хоронили. Гроб несли коллеги, ведущие других программ. Жан-Пьер Фуко (“Славный вечерок”), Кристиан Морен (“Колесо Фортуны”). Эта смерть наделала много шума. Несколько дней только о ней и говорили. Публика хотела знать все детали трагически прервавшейся жизни. Появились интервью с его последней подругой, хотя я могу и ошибаться – дело давнее. Но родителей его я точно видел по телевизору, а потом, позже, они даже написали и опубликовали книгу, посвященную памяти сына. Ясно помню их лица… и вот о них, о родителях Патрика Руа, я думал ночью, в постели, рядом со спящей женой.
16
Интенсивность боли – 8
Настроение: похоронное
17
Утром я все твердил, что мне лучше. А мой убитый вид Элиза, кажется, не замечала. Зато, когда я сказал, что хочу позвонить своим родителям, она удивилась:
– Да?
– Да. Если ты не против, позову их в гости сегодня вечером.
– …
– Так ты согласна?
– Ты уверен, что это хорошая идея?
– А что? Наверняка им будет приятно посмотреть наш дом и сад.
Реакция жены лишний раз показала, какая пропасть пролегла между родителями и мной. Чтобы я их приглашал к себе – такого никогда не бывало. Всегда предпочитал навещать их сам. Безопасности ради – так я мог уйти, когда захочу. Если же придут в гости они, все сложнее: чего доброго, мать начнет совать всюду свой нос, делать замечания. Да и бывал-то я у родителей всего несколько раз в год. Исключительно по торжественным случаям: по праздникам и дням рождения. А тут вдруг приглашаю их без всякого повода, ни тебе дня рождения, ничего… немудрено, что Элиза удивилась.
– Уверена, что ничего хорошего не выйдет, – сказала она.
– Зачем ты так говоришь? В кои-то веки я делаю шаг им навстречу, так поддержи меня.
– Я давно не вмешиваюсь в твои отношения с родителями… но каждый раз, как мы у них бываем, ты возвращаешься злой. А что будет у нас, подумать страшно.
– Но я хочу их видеть, вот и все.
– Ну хорошо, хорошо. В конце концов, это твои родители.
Разумеется, Элиза была права. Скорее всего, ничего хорошего не выйдет. Скажи я отцу, что скоро умру, он вполне может ответить: “Ты в своем репертуаре! Уж не знаешь, что выдумать, лишь бы все вокруг тебя плясали!”
Я заперся в душе. Хоть тут можно было не притворяться, что у меня ничего не болит, и корчиться, пока жена не видит. Я направил душ на поясницу – надеялся, что водяной массаж поможет. Ничуть – только еще больнее. Я вылез, вытерся и посмотрел на больное место в зеркало. Ничего особенного не наблюдалось. Вражья сила коварно притаилась внутри. Рубашку я надевал осторожно, следя, чтобы ткань не прикасалась к коже. Как при ожоге. Элиза остановила меня на пороге:
– Как, ты не выпьешь кофе?
– Нет, я опаздываю. У нас сегодня встреча с китайцами.
– Я думала, с японцами.
– Ну да. С теми и другими. Там половина китайцев, половина японцев.
– …
– И даже пара корейцев в придачу.
Чтобы не завраться окончательно, я выскочил из дому, не дожидаясь, что ответит Элиза. И уже с улицы увидел: жена машет мне на прощание рукой из окна. Никогда раньше такого не бывало. Наверное, подумала: “Что-то с ним сегодня не так”. Что ж, верно. Все не так. Я старался делать бодрый вид, но моя лодка дала течь. Вроде бы все у меня было слава богу, и вдруг все-все разом пошло прахом: я болен, одинок, меня крупно приложили на работе. Я попытался улыбнуться Элизе, но получилось не очень. Залез в машину и почувствовал облегчение, как под душем – никто на меня не смотрит.
Конечно же Элиза трогательно помахала мне в окно из самых добрых побуждений, но в ее жесте не было любви. Эта картинка – Элиза с поднятой рукой – стояла у меня перед глазами всю дорогу в больницу. “Пока, пока”… Так провожают случайного гостя. С заученной, лишенной живого чувства любезностью. Жест постороннего человека, думал я, с каждой минутой все больше уверяясь в этой мысли. Одно и то же прокручивалось в мозгу снова и снова: вот она отодвинула занавеску, поднесла руку, раскрыла ладонь и несколько секунд медленно водила ею справа налево, слева направо. Но я не узнавал в этой женщине свою жену. Не знаю, как объяснить, но то была не она. Вот так, в один миг можно испытать головокружительную гамму чувств. Любовь вдруг растворяется, и в душе проявляется новая правда.
18
Интенсивность боли: 8
Настроение: шизофреническое
19
Третье утро подряд оказывался я больничной приемной. И мне уже хотелось, как второгоднику в начале учебного года, подбадривать новичков: “Все будет хорошо, здесь прекрасно лечат”. Я выглядел тут страдальцем со стажем. Накануне я сознательно не стал искать в интернете информацию об МРТ. Не хотел еще больше запугивать себя рассказами, какую у кого обнаружили опухоль. За две минуты таких ужасов начитаешься! Никто ведь не будет оставлять сообщение в медицинских форумах, чтобы похвастаться отменным здоровьем. Здесь каждый изливает свои жалобы, как будто интернет и впрямь дает возможность поделиться своей болью. Одни выкладывают фотографии гангрены, другие в деталях описывают агонию. Такие результаты принесли современные технологии, вместо того чтобы, наоборот, помочь людям поддержать друг друга, сплотить их в борьбе с болезнью. Мои мысли прервал крик в коридоре. За ним последовали новые вопли. Настолько дикие, что было трудно понять, кто кричал – мужчина или женщина. Все, включая меня, посмотрели в ту сторону, откуда доносился крик. Я даже привстал, чтобы разглядеть, что происходит. В глубине коридора двое санитаров внесли в одну из дверей женщину на носилках. Всего несколько секунд я был свидетелем ее мук. Мы постоянно видим чьи-то страдания, но очень редко они достигают такой акустической силы. Я ничего не знал об этой женщине: кто она, что у нее болит. Только я успел сесть на место, как услышал свое имя. Меня вызывали. Я зашел в кабинет, и чужую боль заглушила моя собственная.