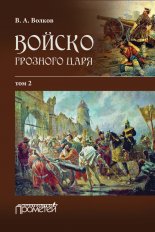Опыт моей жизни. Книга 1. Эмиграция И.Д.
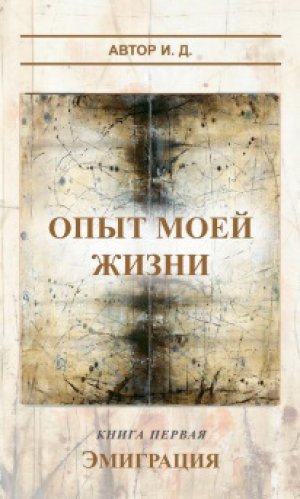
Хоть нам и казалось, что мы взяли с собой из Союза все предметы первой необходимости, сняв квартиру и начав жить, мы обнаружили, что не привезли и сотой доли всего необходимого, а привезти все было просто-напросто невозможно.
Объездив с помощью дяди Стасика все ближайшие синагоги, кое-как нашли несколько стульев, два матраца. Стулья были хоть и не очень чистые, но вполне пригодные. Матрацы же с виду были так, ничего, но как только их принесли в дом, по всей квартире пуще прежнего замелькали шустренькие, противненькие, фасолеобразные букашки.
– Это тараканы, – пояснила тетя Хиба со вздохом. – Тараканы – бич Нью-Йорка. Борись с ними, не борись – они в каждой квартире есть. У всех.
Первое слово, которое мы выучили в Нью-Йорке по-английски, это «кокроуч» – «таракан». А еще, его веселую русско-испанскую вариацию – «кукарачча».
Вошел дядя Стасик, счастливый, довольный.
– Та-ак! Одевайтесь, быстренько! Я здесь поездил вокруг. На Авеню Пи кто-то кровать выставил в гарбич. Они так специально выставляют на улицу, а гарбичмены специально не забирают, зная, что кто-нибудь да подберет.
– А кто это такие, «гарбичмены»? – не поняли мы.
– Вы не знаете, кто такие гарбичмены?! Мусорщики! «Гарбич» – по-английски – мусор!
– Так что, надо поехать забрать? – неуверенно спросил папа.
– А что, смотреть на нее что ли? – засмеялся дядя Стасик. – Широкая, двуспальная, первое время на ней можно и втроем уместиться. А если сейчас не заберем, завтра среда, мусорщики могут забрать. Эти же слюнтяи… им лень в синагогу отвозить, они и выставляют на улице. Несколько дней не подымет никто – мусорщики увозят. Новые, хорошие вещи, вот вы сейчас увидите.
Поход в супермаркет занимал полдня. Продавщицы нет, спросить не у кого. Полки, заставленные продуктами, каждая – километр длиной. Полок целый аэродром. Яркие шикарные коробочки, пакетики, баночки… Поди разберись, что там. Спросили, где сыр, нам показали. Все сорта и виды сыров, которые есть в мире, были здесь, в местном супермаркете. Попробуй пойми, какой сыр тебе нужен. Купили что попало, чисто по картинкам. Дома открыли банки, чтобы пообедать, но вошел дядя Стасик и покатился со смеху.
– Вы… вы… – говорил он, помирая со смеху, – собачьи консервы купили…
Мы переглянулись недоумевая.
– Консервы для собак! – пояснил дядя Стасик и снова скрутился.
Мы все еще не могли понять, что существуют «консервы для собак». Собаки, что, люди? Консервы – для людей. А собакам – кости.
Сегодня дядя Стасик привез нас на Брайтон-Бич.
– Вы не знаете, что такое Брайтон? – удивился он. – Это маленький Союз, или, точнее, это маленькая Одесса. Здесь живут в основном русские эмигранты, а так как большинство из них одесситы, Брайтон называют «маленькой Одессой». Здесь самые лучшие русские магазины. Вот вы сейчас увидите!
Мы вошли в магазин. Ощущение такое, будто я попала в волшебное царство, где абстрактное выражение «мед и молоко льются рекой» превратилось в явь. Здесь было все-все, о чем только можно мечтать, и даже то, о чем не мечтали. Уж насколько я презираю удовольствие смачно пожрать, и то не могла оторвать восхищенных глаз от батареи аппетитно выстроенных бесчисленных сортов колбас. Копченые, вареные, телячьи, говяжьи, салями французские, салями немецкие, салями итальянские, буженина, польская колбаса, краяна, чесночная, докторская – всяческая! Живописно оформленные сорта рыбы: копченая, вяленая, маринованная. Балык, красная рыба, осетрина.
– Ну что? Вкусно кушать – это же мещанство?! – блестя глазами от радости, подмигнул мне папа, заметив, что я глотаю слюнки.
Я на минуту оглянулась вокруг, искала глазами наших. Мама с раскрытым ртом смотрела по сторонам, и глаза ее блестели от восторга.
– Смотри, Танечка! Бананы! Смотри их сколько! Посмотри, какой виноград!
Дед, взяв бабу под руку, прохаживаясь, более сдержанно, чем мама, приговаривал: «А какие хлеба благородные! Пышные, царские!»
– Пять, шесть, семь… восемь сортов! – сказал папа.
– И все как куколька! Как дома испеченнии, – добавила бабушка.
– А в отделе тортов вы побывали? – спросил папа оживленно. – Киевский торт! В Америке, представляете? Конфеты «Белочка», «Птичье молоко»!
– Ой, посмотрите, посмотрите туда! – перебила его мама.
Молодая продавщица перекладывала гигантской ложкой красную икру из одного сосуда в другой с таким же спокойным лицом, с каким в сказках по телевизору купцы высыпают из мешков груду золотых монет.
Буквально через пять минут я уже была голодна как зверь. Я не знала, чего хотеть и что покупать: хотелось попробовать все, что я видела. Вот это Брайтон-Бич!
У выхода из магазина две женщины громко спорили:
– Да пойми ты, деревня, правильно говорить «дыс!», – говорила одна.
– От деревни слышу, ты сама деревня! Кто же так произносит? «Дыс!» – передразнила вторая. – Да не «дыс», а «зыс»!
– А давай на доллар поспорим с тобой! Ты проиграешь! «Зыс» – не говорят! Это грубейшее, деревянное произношение.
– Ага… А «дыс» – говорят?! Ну, ты сумасшедшая! Спорим на три доллара!
– Девчонки, как правильно произнести по-английски: «дыс» или «зыс»? – обратились в конце концов обе женщины к продавщицам.
Продавщицы говорили каждая свое: одна утверждала, что правильно «зыс», вторая утверждала, что правильно «дыс»! Третья говорила, что и то и другое неправильно, а надо говорить «выс!»… Поднялся базар, и в это время мы ушли из магазина.
Помню свои первые впечатления от витрин американских магазинов, помню щекочущее ощущение тщеславия перед воображаемыми друзьями в Союзе, которое я испытывала впервые, стоя у застекленных богатых витрин. Меня распирало желание охапками забрать все с этих витрин, подчистую, и послать в Союз. Представляю, сколько шума это бы там наделало.
День нашего первого визита в «Наяну». Вся семья, от мала до велика, в первый раз выехала в Манхэттен. Все нарядные, заинтригованные. В первый раз мы увидели сабвэй – так здесь называют метро. В Москве, в Ленинграде я видела метро: с мраморными полами, с расписными потолками, каждая станция – как музей. Все безукоризненно чисто – ни окурка, ни соринки. В Нью-Йорке, как вы думаете, хуже или лучше?
Вонючий подвал. Смесь всех оттенков серого и черного цветов. Запах сырости перемешан с запахом мочи. Лужи, плевки, огрызки яблок, гнилые продукты… Оскорбление человеческого достоинства. Пощечина. Омерзение. Вот – нью-йоркское метро. Такое средство передвижения – для скота, не для уважающих себя двуногих.
Ни в метро, ни в городе – ни одного американца. Китайцы, корейцы, индусы, негры, арабы, если где промелькнет белое лицо – русский эмигрант. Где американцы?
– А американцы – это и есть эмигранты, – пояснил папа.
Заблудились, естественно. Встали кучкой посреди улицы.
– Эскюз ми! Эскюз ми! – махал рукой папа пролетавшим прохожим, кротко улыбаясь и покашливая.
Папа выговаривал все это так долго, что прохожие успевали услышать только одну букву из всего, что он говорил.
Наконец кто-то остановился. Женщина с сумкой и в очках. Мы все ее окружили, опасаясь, как бы и она не улетела.
– Наяна… Наяна… – повторял папа.
– На-на? – проглотила американка.
– Нэяана, нэяана, – поправила мама.
– На-на, на-на, – утвердительно закивала американка, глотая и коверкая звуки.
Она подняла указательный палец, посмотрела сквозь свои суровые очки вправо и залпом проглотила целый поток предложений с важной для нас информацией.
– М-м-м… пардон аз, вуд ю репит, плиз, – мягко улыбаясь, попросил отец.
Американка опять равнодушно и быстро, одним залпом проглотила, вероятно, тот же набор предложений, но еще раз повторить отец ее не попросил.
– Вы что-нибудь поняли? – спросил он нас с мамой, после того как она улетела.
– Кажется, улица, которая нам нужна, – Фортостит, – неуверенно сказала я.
– Мне тоже так показалось, – сказала мама, – но у меня есть адрес, там нет такой улицы. «Найана» находится на Четырнадцатой стрит, а «четырнадцать» – это «фотин». Как же быть?
Решили, что это ошибка. Снова стали ловить прохожих: сжимаясь в размере, задавать вопросы, растягивая уши, ловить ответы.
– Фортостит, – подтвердили и другие.
Нашли еле-еле. Оказалось, «фортостит» и «фотин стрит» – это одно и то же. Американцы, как выяснилось, выговаривают «ар», но при этом глотают другие слоги. Вот как просто все на самом деле было. А мы, как дебилы, искали «фортостит».
В «Наяне» наша ведущая миссис Померанец, приветливо скаля зубы, каждому из нас пожала руку, даже Таньке.
– Со, хау ар ю? – спросила Померанец Таньку.
– Скажи «файн»! Скажи «о’кей», – шептали мы, но Танька только краснела и краснела, пока мы не перестали обращать на нее внимание.
В кабинете речь миссис Померанец стала абсолютно нечленораздельной: один сплошной журчащий, бурлящий поток.
Мы сидели как вкопанные, безуспешно стараясь поймать неуловимое.
Миссис Померанец снисходительно показала зубы еще раз и привела переводчика. Тот объяснил, что папе предлагалась работа слесаря, но это только на первое время. А мне, тоже только на первое время, работа в магазине.
– Я не хочу терять время зря, – сказала я.
– Во-первых, в этом году ты уже все равно опоздала в колледж, – сказал мне папа, – во-вторых, ты попробуешь, что такое работать, как взрослая, в Америке, – заработаешь кучу долларов! Представляешь себе, ты заработаешь доллары! Ты даже сможешь заработать себе на автомобиль!
– Да нужен мне ваш автомобиль! Я могу и в автобусе ездить. Не буду я тратить драгоценное время на ерунду!
– Это очень престижный большой магазин в Манхэттене, – добавила Померанец. – Кто-то должен начать работать.
– Ну, только не больше чем на месяц! – нехотя согласилась я.
Для папы решили искать более подходящую ему работу.
– Хотя бы чертежником, – говорил он. – Это будет, по крайней мере, то, что я умею делать.
– Слесарем!!! Человек за свою жизнь ничего тяжелее авторучки в руках не держал! – усмехнулась мама.
– Ты всегда пытаешься меня унизить! – начал багроветь папа. – Да, не слесарь я. В этом ты видишь мой недостаток? Я не забивал гвозди и не умею держать молоток, но я защитил кандидатскую и докторскую! Мои труды опубликованы более чем в десяти странах мира, а для моей жены я все не хорош, потому что я не умею забивать гвозди!..
– Тихо, тихо, позор какой! – зашикали старики, недовольно косясь на маму. – Зачем ты сейчас завела его? Ты не могла не съязвить?
– Я ничего такого не сказала! Мне просто смешно, что они ему предлагают.
– А улыбка-то у нее странная, – заметила мама, когда мы вышли. – Вы видели, как они здесь улыбаются? О! – мама оскалила зубы и сделала гримасу.
– Да, действительно, – согласились все.
Когда мы вернулись домой, бабушка открыла кастрюлю с супом и отпрыгнула с криком. Мы все сбежались: в кастрюле лежал, лапками кверху, огромный налитой дохлый таракан. Никто из нас пока не мог привыкнуть к этим тараканам.
Вечером мама пошла мыться в душ и из ванной донесся вопль, а затем звуки тяжелых ударов о стены, дверь, пол. Она залезла под душ, а из мочалки таракан – как понесется прямо по ее голому телу! На себе его прихлопнуть трудно, пищала так, что мертвых бы разбудила, пока его скинула. Потом все-таки тапочкой его прибила.
Дед зашел в туалет и выскочил оттуда как ужаленный. Нам он не хотел говорить, но потом мы от бабушки узнали: он увидел в унитазе в своей моче кровь.
– Шестьдесят лет живу на свете и не видела, чтобы человек писел с кровью! – озабоченно говорила бабушка на нашем горско-еврейском языке, который один и знала в совершенстве. – Что же это может быть такое?..
– Надо бы показать его врачу, – сказала мама тоже по-горски. Они всегда говорили на этом языке, когда говорили о чем-то важном.
Мама в прошлом медработник, имела два образования: фельдшера-акушера и педагога.
– Когда будет «медикейд»?[4] – спросил папа. – Померанец сказала, что нам скоро дадут всем медстраховку… Когда же это «скоро»?
Моя первая работа в жизни – в большом универмаге «Сен-чюри Твенти Уан», в даунтауне. Станция метро Кортленд-стрит. Два часа дороги туда, два обратно. Думаете, продавцом? Не-а! Даже не помощником продавца. Работа истуканом. Это я ей такое название дала, так как заключалась она в том, чтобы стоять на одном месте по стойке смирно до помутнения в глазах и ничего (!) не делать.
Впрочем, какие-то обязанности у меня все-таки были: иногда, когда в отдел заходили покупатели, а продавщица уходила на ланч, я должна была развесить по местам все, что разворошил посетитель. Это был отдел женского белья. Все трусики висели в одном месте, все лифчики – в другом, и т. д. Вот так стоишь себе на одном месте, пока перед глазами синие круги не пойдут или какая-нибудь нога не задеревенеет. Зачем это им надо людей мучить? Зачем они меня здесь поставили? Я объяснить покупателю ничего не могу, да и не требуется этого. Поставили меня, только чтобы помучить.
А американки, оказывается, сущие свиньи! Пустить американку в отдел – все равно что посадить свинью за стол. Сколько там трусиков на вешалках висит, она все их сдернет, размеры перепутает и, не купив ничего, с довольным видом пойдет в другой отдел.
Просить их убрать за собой строго запрещалось. Даже нельзя было выказывать недовольство. Они все переворачивают, а ты им улыбайся! Так бы и убила этих гадюк синтетических! Трусики розовые – все в одну кучу. Бежевые – в другую. Черненькие – в третью. Беленькие – в четвертую… Все по вешалочкам, один к другому, аккуратненько. Не успею я еще закончить, как является очередная «чушка» и в один миг переворачивает то, что я уже битый час раскладывала.
Все мои одноклассники уже поступили кто куда, учатся на первом курсе университетов, институтов, а я здесь трусики сортирую. Как-то раз вижу: одна из посетительниц смотрит трусики и кладет их на место, смотрит другие – опять на место. Я от удивления подошла к ней вплотную и смотрю на нее во все глаза. А она мне на чистом русском языке говорит: «Недавно приехали?»
Наверное, дело здесь не просто в культуре, а в том, что у каждой советской женщины рефлекс, как у собаки Павлова: она настолько боится, что продавщица агрессивно обрушится на нее, что готова не только за собой прибрать, но и уложить то, что другие раскидали. Мы разговорились с Ритой: интересов общих не оказалось. Рита тоже работала в этом магазине, только в обувном отделе на первом этаже. Работала она давно, так что ее уже повысили в продавщицы. Предложила познакомить меня с поэтом из Москвы.
– Он у нас в бэйсменте пока грузчиком работает. Его зовут Леня. Но ты же знаешь, здесь все первое время грузчиками работают, это ничего не значит.
– В бэйсменте? – переспросила я, не поняв незнакомого слова.
Рита засмеялась.
– «Бэйсмент» – это подвал. На складе в подвале он работает, здесь, в нашем магазине.
Вот все, что было на моей первой работе, если не считать минимальной по американским понятиям, но заоблачной по нашим, советским, меркам зарплаты: четыре доллара в час. Четыре доллара – это громадные деньги! Но целый час быть истуканом, огромный час – тупости, час – ряби в глазах, час – потерянный из жизни! Стоил ли он даже таких больших денег, как четыре доллара?
Однажды я задала папе вопрос. Ради какого великого будущего мы опустились на самое дно жизни? Ради чего все эти, пусть даже временные, но вычеркнутые из жизни тяжелые месяцы, а то и годы? Ради чего мы бросили огромный дом с садом, где у каждого была своя комната, у папы – свой кабинет, личная библиотека, еще одна библиотека внизу, большая гостиная, прекрасная виноградная беседка, балкон и терраса? Ради каких таких благ в будущем мы теперь жили вшестером в двух комнатах, спали вдвоем или втроем на одной кровати, подобранной на гарбиче, да еще с тараканами?
Зачем папе понадобилось бросать работу преподавателя в Кабардино-Балкарском университете и, унижаясь, умолять о работе чертежника, но не слесаря, только не слесаря?
Зачем я, вместо того чтобы учиться теперь на первом курсе МГУ или ВГИКа, стояла здесь, собирая трусики, которые перемешивали избалованные американки? Ответ: «Да не поступила бы ты никогда!» – был для меня не убедителен. Я-то знала, что поступила бы.
Что такое должно было произойти в будущем, что окупило бы весь тот кошмар, в который мы попали? Я не издевалась, я действительно не понимала!
Папа же принял мой тихий, спокойный вопрос за издевку и, что совершенно для него нехарактерно, раскричался так, что брызги изо рта летели.
– Ну и уезжай в свой Союз обратно! Такие, как ты, павлики морозовы[5] не заслуживают хорошего! Вы неблагодарные свиньи! Я никого не заставлял сюда ехать! Очень жаль, что ты там не пожила!
– А где же, по-твоему, я жила? – удивилась я.
– Ты жила у отца за пазухой!
Я, может быть, и жила, как он говорил, у него «за пазухой», но все же я жила там, в той стране. У меня было нормальное достойное детство и вполне осмысленная юность. Я выросла в той стране, сформировалась там и ко времени отъезда соображала уже достаточно, чтобы теперь задавать вопросы.
Я не понимала, ради чего я должна была неизвестно сколько времени жить в маразме. Я готова была допустить, что в силу молодости я чего-то не успела понять, готова была выслушать объяснение. Когда же на мои вопросы вместо убедительных логических ответов я слышала озлобленный крик и оскорбления, то начинала догадываться, что мой отец совершил неописуемую, непростительную ошибку!
Однако, понимая это, что я могла изменить? Уехать обратно? Действительно, перед отъездом из Союза родители предложили мне, если хочу, остаться. Вот это-то предложение как раз и было издевательским, хотя они уверяют, что искренне предлагали. Дело вовсе не в том, что мне было 15 лет и я бы не смогла прожить сама, без взрослых. Мне могут не верить, но я-то знаю: я бы не пропала.
Причина была в другом. В свои 15 лет, так же как и в 14, и в 13, и в 12, и вообще, сколько я себя помню, больше всего на свете я любила свою маму. До сих пор я не знала в жизни ничего, ради чего я бы могла отречься от мамы. Ничего! Так же сильно и нежно я любила и своих стариков – дедушку и бабушку, да и самого папу, пока он не заболел Америкой, одержимый своей безумной мечтой. Америка убила всю мою нежность к нему, осталось одно раздражение.
Я не могла представить своей жизни даже без одного из них, не то что без всех сразу. Ничто не могло компенсировать такую потерю. В 1980 году уехать за границу означало умереть для всех тех, кто оставался в Союзе. Я понимала, что, однажды разлучившись с ними, я больше никогда их не увижу. Я не могла пойти на такое. Я не могла похоронить их всех одновременно.
Но точно так же сильно, как я любила свою маму и свою семью, я любила и свою страну, и свою культуру. Я любила дом, в котором прошло мое детство, улицу, на которой мы играли детьми и росли с подругами; я любила стены своей школы, многих своих учительниц, киоск на углу, неподалеку от дома, тетю Надю, Эмкину маму, которая в этом киоске работала (Эмка – моя ближайшая подруга); я любила железную дорогу, расположенную за школой, убегающую змейкой в большую жизнь. Я знала историю своей страны, я любила ее писателей, поэтов, артистов, режиссеров…
Уехать из своей страны, быть навсегда оторванной от всего, что в ней происходит, было все равно, что умереть. Уезжать я не просто не хотела: это было гораздо серьезнее, чем хочу – не хочу, я понимала, что означало для меня «уехать».
Я не могла выбрать. Не выбрать – это уже само по себе, оказывается, выбор. Я уехала со всеми, так как не проявила никакой инициативы, чтобы остаться.
Путь эмигрантов из СССР в 1980-е годы пролегал сначала через Австрию и Италию, а по истечении трех-четырех месяцев эмигранты прибывали в США.
Позже, в Италии, я тысячу раз благодарила судьбу за то, что не осталась. Мамочка, моя мамуля, наверное, не перенесла бы такого удара. Она интеллигентный человек: когда прощались со всеми в Бресте, вела себя сдержанно, без выкрутасов, без истерик и падений в обморок.
Так же сдержанно вели себя и все остальные. До Бреста нас провожали только самые близкие: мамина мама – бабуля Маня, мамин родной брат, дядя Борис, родная сестра моего папы и единственная дочь дедушки с бабушкой – тетя Валя – и две родные сестры моей бабушки. У каждого оставался в Союзе кто-то родной.
Как сейчас помню их лица, бледно-серые, потерянные. Все понимали, что никогда больше не увидятся. Это тикали последние минуты вместе. Старались держать себя в руках, не расстраивать друг друга слезами и причитаниями. Как-то даже не верилось, не укладывалось в голове, что сейчас пройдем эти железные ворота – и там как отрубит разом все эти родные до боли, бледные лица, все, что было до сих пор, все близкое, до истерики близкое. Не мо-о-о-жет бы-ы-ы-ть!!!
Прошло чуть более месяца (мы в это время были в Италии), и мама попала в больницу. Никаких признаков болезни – вдруг упала на улице, и я увидела, что самый дорогой человек, который у меня есть на свете, моя мама, умирает! Я по-итальянски – ни слова. То есть те слова, что я знала, типа «миля», «лира», здесь не помогали. Где госпиталь – не знаю, какой номер «скорой» – не знаю, что делать – не знаю!
Маму спасли. Только чего мне это стоило – сама чуть не умерла от страха. А если бы меня там не было? Старики вообще – ни бум-бум, Танька – малышка, а папа, он, пока один палец поднимет, земля полный оборот вокруг своей оси сделает. Я сориентировалась, бегом туда, бегом сюда, забыв всякий стыд, стучалась в двери к незнакомым, жестами, истерическим криком, по-русски объясняя итальянцам, что человек умирает. В госпиталь отвезли, даже переводчик русский нашелся: это, говорят, на нервной почве. Было у нее нервное потрясение? Было ли! Половину своей семьи заживо похоронить, мать-старушку бросить… Мама не могла себе этого простить.
А что она могла сделать? Она должна была отречься или от матери с братом или от одной из дочерей с мужем. А если бы в последний момент еще и я осталась?
Глава вторая
Декабрь 1980 г. – февраль 1981 г.
Когда мне было 10 лет, это было в 1975 году, папа спросил меня, не хочу ли я поехать в Америку. Он пообещал, что в Америке я увижу «Битлов», а еще он мне купит автомобиль «Шевроле».
Когда мне было 10 лет, этого хватило, чтобы я охотно согласилась ехать с папой. Тогда он сказал маме: одна дочь тебе, одна мне. Не хочешь ехать – развод! Услышав это, мама, которая раньше наотрез отказывалась, сразу же согласилась ехать с папой в Америку. Папа подал заявление на выезд, но ему отказали.
Отказывали ему ни много ни мало пять лет. Когда же его наконец отпустили, дав на выезд 30 дней, мне было уже 15 лет, и я была уже совсем не тем ребенком, который готов был ехать в Америку за автомобилем «Шевроле». Прошло всего пять лет, но за это время ребенок превратился в сформировавшегося человека. А на выезд дано было 30 дней!
Уже давно все забыли о папиной затее с отъездом, только папа все неугомонно хлопотал, пока не добился своего.
Вот теперь я в Америке. И никто не может мне объяснить, ради чего все это.
Пока нам дали медикейд, прошел месяц. Пока сообразили и вычислили, к какому врачу и куда вести деда, прошло еще недели две. Наконец провели обследование: у нашего деда, оказывается, рак. Лечить можно, но, кажется, уже поздно. Похоже, что поезд ушел.
В Италии он три месяца купался, загорал, грелся на песке. Солнце активизирует рост раковых опухолей. А мы-то не знали! Может быть, и стресс добавил свое. Дедушка не попал в больницу сразу, как мама, на нервной почве, а, возможно, схлопотал себе рак. Я знала: так же, как мама переживала разлуку со своими матерью и братом, дедушка переживал, что оставил в Союзе любимую дочь.
Папа не признавал ни влияния стресса, ни влияния итальянского солнца. Он считал, что если человеку суждено заболеть, то это случится, где бы он ни был – в Италии или в Нальчике. В Америке больным открыто говорят, что им недолго осталось жить. У нас в Союзе это не принято.
– Доктор, пожалуйста, не говорите ему!
Кто знает, в какой именно день и час спасти деда стало невозможно. Я уверена: если бы мы сразу, не откладывая, обратились к врачу, нам бы удалось его спасти! Конечно, если бы мы знали, насколько серьезно было то, что в моче кровь, мы бы и в Америке любой ценой нашли путь немедленно обследовать деда. Но мы были все обалдевшие, пришибленные, с заторможенными реакциями. Мы с трудом функционировали в новом мире. Пойти к врачу у нас заняло около двух месяцев. Оказалось, этого срока достаточно, чтобы потерять человека.
Вас не удивляет, как холодно, как рассудительно я говорю о смерти одного из самых дорогих мне людей?
Дед умрет… а я спокойно об этом рассуждаю?
Что со мной? Как удивительно я спокойна. Может быть, я не верю? У меня просто в голове не укладывается, что мой любимый старик, мой седой дедушка, пропахший моим детством и сигаретным дымом, умрет.
Почти во всех письмах, разговорах, всегда, когда упоминали об эмиграции, предупреждали, что первое время будет, конечно, тяжело. Понимали мы все и сами, что это не шутка, взять и переселиться на другой континент. Тоска по дому, по родным, переживания, слезы – все это ожидалось и воспринималось спокойно. Но ничего этого не произошло. А произошло совсем, совсем неожиданное.
Слез не было. Тоски не было. Не было вообще никаких эмоций. Словно в нью-йоркском аэропорту во время регистрации виз кто-то невидимый проделал над всеми нами хирургическую операцию: вырезал тот важнейший, неизвестный еще людям орган, благодаря которому люди что-то чувствуют, шприцом вытянул из нас все слезы и прижег навсегда их источник.
«Органами чувств» называют те органы, которые обеспечивают человеку возможность видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус. Оказывается, люди поспешили, назвав их «органами чувств».
Вот, к примеру, я узнала, что деду жить осталось недолго. Я не оглохла, я слышала, о чем говорили домашние тайком от самого деда, я понимала значение слов. Но то, что я слышала, в меня не проникало. Должна была быть реакция, я помнила это из своей прошлой жизни, а реакции не было.
Вот еще пример попроще: пошел дождь. В старой жизни каждое движение природы, каждый запах вызывали целую вереницу разных эмоций. Эти эмоции, эти реакции, как я теперь начинала понимать, и составляли жизнь.
Человек, живущий у себя на родине, в естественной обстановке, даже не может себе представить, каким богатством звуков, шорохов, запахов, ассоциаций… наполнен один, самый простой, самый неприметный день его жизни. Оценить это он сможет, лишь попав в эмиграцию, потеряв это все, а затем, пережив заново забытые ощущения во сне…
Опавший лист, вид простого дерева, запах хлеба, вкус молока, вид подоконника, запах кресла, ощущение школьной парты, мела в руке… Миллионы, миллионы разных ощущений, реакций, эмоций за день.
Зрение мое продолжало функционировать: я видела. Поврежден был другой орган, посредством которого я воспринимала все, что я видела. Повреждено было нечто жизненно важное, без чего ни зрение, ни слух, ни обоняние, ни осязание – сами по себе не имели значения. Этот неизвестный пока науке орган был основной мощной машиной, ответственной за усвоение информации, которую зрительные или слуховые рецепторы лишь как посредники ему передавали.