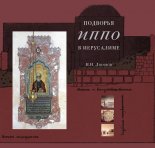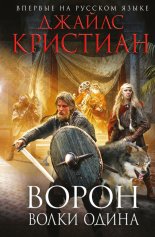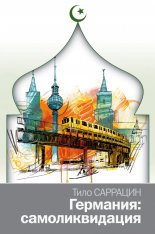Воровская трилогия Зугумов Заур

От автора
Я всегда знал, что стезя писателя терниста, да и не думал никогда, что у меня хватит знаний и таланта, а главное – терпения и выдержки, для того чтобы написать книгу. И не просто книгу, а автобиографическую повесть, то есть историю моей жизни. Требовался сильный толчок, который подвигнул бы меня на этот нелегкий труд. И случай не заставил себя ждать, точнее, не случай, а целый ряд всякого рода случайностей. Я понял, что со времен гласности обращаться к уголовной тематике и блатному фольклору – в литературе, поэзии, на эстраде и в кино – стало очень модным и даже доходным делом. В конечном счете все это и некоторые другие факторы, вместе взятые, определили мои дальнейшие действия. Преступный мир и все, что с ним связано, всегда было мрачной стороной нашей жизни, закрытой плотной завесой таинственности. Многие люди в свое время пытались поднять эту завесу, но они, как правило, расплачивались за свои попытки кто свободой, а кто и жизнью. Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГа около двадцати лет, из них больше половины – в камерной системе. Все режимы, начиная с ДВК (детская воспитательная колония), куда меня направили, а точнее, водворили в двенадцатилетнем возрасте, и кончая особым режимом и камерой смертников, где я провел около полугода, несколько лагерных раскруток, в том числе побег из таежного лагеря Коми АССР, – все эти испытания я прошел. Но всего, конечно, во вступлении не напишешь, да это и ни к чему, я думаю. Хочу лишь особо подчеркнуть, что нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах я не шел даже на мало-мальский компромисс, если это было против моих убеждений. Поэтому, думаю, моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить. Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Если события, о которых в ней идет речь, вызовут у вас сочувствие или сопереживание, значит, я достиг своей цели. «Бродяга» – это вексель, выданный мне в юности, но который я сумел оплатить лишь в преклонном возрасте.
Махачкала, 2001
С уважением к читателю Заур Зугумов
Книга первая
Бродяга
Пролог
Отчего всякая смертная казнь оскорбляет нас больше, чем убийство? Это объясняется холодностью судьи, мучительным приготовлением, сознанием, что здесь человек употребляется как средство, чтобы устрашить других. Ибо вина не наказывается, даже если бы вообще существовала вина: она лежит на воспитателях, родителях, на окружающей среде, на нас самих, а не на преступнике, – я имею в виду побудительную причину.
Ницше
«Прощайте, братки!..» – услышал я как-то среди ночи отрывистый, отчаянный крик. Еще даже не проснувшись совсем, я узнал голос своего соседа по камере, который сидел со мной через стенку, – голос Лехи Сухова. Сомнений быть не могло: его уводили в ночь и, видно, закрыли рот руками, когда он хотел на прощание проститься с нами, – значит, его увели на расстрел. Подскочив к двери, я присел на корточки и, приложив ухо к двери, стал прислушиваться, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, но было тихо, как в могиле. В какой-то момент мне даже показалось, что все это мне послышалось и я схожу с ума, но дрожь, которая то и дело пробегала по телу, говорила об обратном – к моему глубокому сожалению. Бог мой, как бы мне хотелось ни о чем не думать, ничего не ждать, ни на что не надеяться, не воспринимать мир вообще, жить в своем иллюзорном мире, но увы… Как я завидовал в тот момент своему подельнику, который уже на начальном этапе нашего следствия сошел с ума от пыток, хотя, как читатель, думаю, уже понял, завидовать было нечему. Все же, с моей точки зрения, он уже отмучился. Я почему-то вспомнил, как он улыбался и строил смешные рожи тем, кто сидел в зале, когда судья бакинского суда объявлял нам приговор. Зугумов Заур Магомедович – к высшей мере наказания, расстрелу, Даудов Абдулла Магомедович – к расстрелу, и когда дошла очередь до нашего спятившего подельника, он даже не повернулся в сторону судьи, продолжая улыбаться и корчить всем рожи. И вот сейчас, сидя уже почти полгода в камере смертников, ожидая утверждения или отмены приговора, я завидовал ему, который сошел с ума и сидел где-то далеко от нас, – не потому, что он был менее виновен, а потому, что не воспринимал мир как таковой. Что касается другого нашего подельника, по кличке Лимпус, то он сидел недалеко от меня, нас разделяла всего одна камера, но при определенных обстоятельствах это расстояние становится огромным. Именно в эту ночь расстреляли, как я узнал позже, двоих каторжан из нашего корпуса, а это было немаловажным событием, если учесть, что камер смертников было восемь – и все одиночки. Никогда не забуду, как, сидя на корточках у дверей своей пятой камеры смертников и приложив ухо к двери, я ловил каждый звук извне и вспоминал рассказ одного порчака из хозобслуги. Тогда я еще находился под следствием и сидел в корпусе КПЗ горотдела Баку. Мы просидели там по два месяца при максимально допустимых по закону тринадцати сутках, и только потом нас развезли по тюрьмам. Я попал в центральную тюрьму Баку, других же подельников поместили в тюрьме Шуваляны в пригороде. С самого начала, еще в карантине, я сидел, как мне сказали надзиратели, в камере, откуда в свое время бежал Сталин. Я был и в той камере один и шутил по этому поводу сам с собой, спрашивая себя, к добру ли это. И еще я ломал голову над тем, как умудрился человек, кто бы он ни был, убежать из этого каземата, не будучи невидимкой. Начало тюремного житья здесь было уже знаменательным. На следующий день я попал по распределению во второй корпус, а еще через день к тюрьме подъехал Тофик Босяк, один из бакинских воров в законе, и доверил мне смотреть за положением в двух корпусах – первом и втором. Всего в центральной тюрьме было, как и в Бутырках, шесть корпусов. С левой стороны второго корпуса можно было спокойно разговаривать со свободой, – правда, приходилось кричать, но это было кстати, ибо контингент, услышавший от вора имя положенца, никогда не позволит себе никаких сомнений в его компетенции. Сообщение слышали и менты, но и это было на руку ворам, ибо и менты таким образом становились ручными. Бакинская центральная того времени была тюрьмой, о которой мог мечтать любой заключенный ГУЛАГа. Почти в любое время суток, имея деньги, арестант мог себе позволить множество запрещенных законом вещей: пойти в камеру к другу в гости после поверки, иметь курево, чай, наркотики, продукты питания… Все это можно было заказать со свободы, – при желании даже женщин, были бы деньги, за них здесь почти все продавалось и покупалось. Но за такими делами нужен воровской глаз, чтобы все было честно и благородно, по-воровски. Вот я и осуществлял эту непростую миссию. У меня была возможность почти в любое время выходить из камеры и ходить по двум корпусам туда, где требовалось мое присутствие. Естественно, при этом я вел себя прилично, положение обязывало меня не употреблять наркотики, спиртное, не быть предвзятым и пристрастным ни в чем и ни к кому, даже по отношению к родному брату. Однажды во дворе тюрьмы рабочие хозблока показали мне одного типа, который, сидя на бревнышке и привалившись спиной к стене прогулочного дворика, закрыв глаза, наслаждался ранним весенним солнцем так, будто только недавно вышел из темницы. Его поза сразу бросалась в глаза искушенному глазу арестанта. Он был горбат, видно с рождения, с копной густых темных с проседью волос, неряшливый на вид и с отталкивающей внешностью попрошайки-порчака. Мысль о разговоре с подобным типом вызывала брезгливость. Я пересилил в конце концов антипатию, ибо мне нужны были сведения, которыми обладал только этот человек, если позволительно называть человеком такое существо. Я уже давно не тешил себя надеждой вывернуться по ходу следствия из цепких лап смерти. Уже тогда я ясно понимал, что подобное «непредвзятое» следствие неминуемо приведет меня к расстрелу. Центральная бакинская – тюрьма исполнительная, то есть приговор суда к высшей мере наказания приводится в исполнение именно в ней. И вот этот самый горбун и был «шнырем камеры грез» – так называли его все арестанты, которые знали, чем он зарабатывал себе в тюрьме на кусок хлеба. То есть он был шнырем именно тех камер, где расстреливали и готовили к расстрелу, что в принципе одно и то же. Но разговорить эту мрачную личность было совсем не просто. Он ничем не интересовался – при разговоре с ним создавалось такое впечатление, что он вообще живет где-то в потустороннем мире, и даже когда он начал отвечать на мои вопросы, он словно рассказывал о какой-то далекой планете. Несомненно, он был не в своем уме, но как бы до определенных пределов и делал свою работу по инерции, как робот. Собрав в уме воедино отрывистые эпизоды его рассказа, я составил себе следующее представление о том, где и как творит правосудие госпожа Фемида. Вот как это происходило: среди ночи, как правило ближе к утру, в камеру, предназначенную для подобного рода процедур, заводят арестанта в наручниках и ножных кандалах. За столом, покрытым зеленым казенным сукном, сидят прокурор, начальник тюрьмы и врач. Конвой, который приводит приговоренного, остается за дверью, наверное на всякий случай, а в этой самой комнате приговоренный тут же попадает под опеку самого исполнителя. С той минуты, как осужденного ввели, сам палач уже не отходит от него ни на шаг, до самой кончины приговоренного. При появлении осужденного присутствующие встают – и прокурор зачитывает приговор Верховного Совета СССР. Почему именно Верховного Совета СССР? Потому что при вынесении в любой из пятнадцати республик СССР приговора к высшей мере наказания именно Верховный Совет всей страны должен был дать окончательное заключение, виновен человек или нет. После того как приговор зачитан, исполнитель заводит несчастного в находящуюся рядом камеру, словно для каких-то подготовительных действий, и внезапно стреляет ему в затылок. Затем исполнитель пробивает железным прутом отверстие в височной части головы несчастного и в таком виде фотографирует труп. Затем врач документально констатирует смерть и все четверо расписываются – удостоверяют исполнение приговора. Труп тайно вывозится за пределы тюрьмы. Куда – никто не знает, но родителям покойного труп никогда не выдается. Ну а следы «акта социальной защиты» этот самый шнырь должен был убрать. Когда он мне все это рассказывал, я внимательно наблюдал за ним, но эмоций было ноль. Обыденный рассказ о каком-то не особо важном происшествии. «Да, – подумал я тогда, – иногда человек хуже животного, потому что, имея способность размышлять и сострадать, он все же не делает ни того, ни другого, превращаясь в бесчувственное и безмозглое нечто».
И вот сейчас, сидя у дверей своей камеры, я мысленно представил себе, как все то, о чем рассказывал мне горбун, происходит с Суховым. Я никогда не видел Сухова, только слышал его голос, да и то очень редко, когда у нас была редкая возможность перекинуться парой-тройкой слов, хотя мы и сидели через стенку, в соседних камерах. Знал я, что и у него, как и у меня, было еще два подельника и, так же как и у меня, одному из них было 15 лет. Родом они все были из Краснодара, а сидели за то, что убивали водителей такси и частников и угоняли их машины. У них, если мне не изменяет память, так же как и у нас, было по делу девять трупов. Вот так, в думах и воспоминаниях, забыв обо всем, я просидел у дверей своей камеры смертников до самого подъема. Что же представляла собой камера смертников центральной тюрьмы города Баку? Это было серое и мрачное, почти квадратное помещение, где-то четыре на четыре метра. При входе справа на цепях висели узкие нары, при подъеме их пристегивали к стене огромным замком, а при отбое опускали на маленький табурет, вмурованный в пол. В левом углу от входа параша, крышка которой прикреплена к ручке цепью толщиной с детский кулак. Между этими двумя непременными атрибутами любой тюремной камеры страны на высоте в два человеческих роста находилось окно, если его можно так назвать. Как мне раньше казалось, окна существуют для того, чтобы в комнату проникал свет, в этой же камере мои понятия на этот счет резко поменялись, ибо свет из окна не поступал. Огромное количество решеток полностью преграждало свету доступ в камеру Никогда нельзя было понять, глядя по привычке на окно, какое сейчас время суток: день или ночь? И только строгое расписание быта корпуса смертников позволяло ориентироваться во времени. Камеру же освещала маленькая лампочка, которую я, так же как и дневной свет, не видел никогда и которая, даже из симпатии к арестанту, ни разу не перегорала за то время, что я находился в этой камере. Она располагалась где-то высоко над дверью, утоплена в глубокой нише и тоже зарешечена. Таким образом, в камере был постоянный полумрак, дававший понять ее обитателю: ты еще не в могиле, но уже и не на этом свете. Камера являлась своего рода промежуточной станцией на пути в мир иной. Сейчас я, конечно, могу себе позволить иронию по отношению к быту камеры, где я тогда находился, тогда же, конечно, мне было не до иронии. С самого подъема, как только поднимались нары, начиналось хождение – четыре шага к стене и столько же обратно до двери. И так каждый день. Мне кажется, что за те полгода, находясь в строгом уединении и вышагивая взад и вперед, я прошагал расстояние от Земли до Луны. Единственный раз в сутки камера открывалась, когда выводили на прогулку. Это мероприятие было всегда после отбоя. Открывалась кормушка, я просовывал в нее обе руки, на них клацали наручники, и только тогда открывалась дверь. На прогулку меня всегда сопровождали трое: один офицер и двое солдат внутренней службы, которые давали многолетнюю подписку о неразглашении места службы. Со стороны могло показаться странным, как четыре человека, шагая по коридору, не издают даже малейшего шума? Объяснение заключалось в том, что пол в коридоре был покрыт толстым, толщиной в две ладони, слоем резины, а сверху еще постелена дорожка из плотного материала. За исключением времени принятия пищи и еще некоторых моментов в коридоре стояла гробовая тишина. Связь с внешним миром производилась только через одного человека – о нем чуть позже. Целый день часовой был обязан маршировать по коридору, и он же нас кормил, когда привозили баланду. Что нужно приговоренному к расстрелу человеку? На мой взгляд – исходя из моего печального опыта, – две вещи: курево и место для движения. Помимо положенной по закону для подобного рода осужденных осьмушки махорки, которой в аккурат хватало на четыре скрутки, из корпусов приносили общак. Но делал это всегда один и тот же человек, и, как то ни странно, этим человеком был сам исполнитель смертных приговоров. Звали его Саволян. Я на всю жизнь запомнил это имя. Для приговоренных он был буквально всем. Человек этот был настолько независимым, что не подчинялся даже начальнику тюрьмы. Как мне удалось узнать много позже, люди подобного рода занятий всегда подчинялись напрямую Москве и никто, помимо московского начальства, не являлся для них авторитетом. Это была особая категория людей – палачи. Меня очень интересовали критерии, по которым их отбирали, и эта заинтересованность, я думаю, понятна. Я и подобные мне находились в абсолютной зависимости от них. Сам Саволян был ниже среднего роста, но хорошо сложен и мускулист. Глубокие морщины вокруг глаз и складки, которые пролегали около носа и рта, выдавали его возраст. На вид ему было далеко за пятьдесят. Хмурый взгляд, дрожащие руки, молчаливость вполне соответствовали его профессии. Все обитатели смертного корпуса знали, что кормушка на дню открывается четыре раза – три раза для принятия пищи и один раз для защелкивания наручников перед прогулкой. Дверь же открывалась один раз и только ночью, – днем она не открывалась никогда. Самыми тягостными минутами были минуты ожидания прогулки после отбоя. И когда дольше обычного приходилось ждать конвой, мысли в голове проносились как шальные, обгоняя друг друга, ибо время вывода на прогулку совпадало со временем вывода на расстрел. При мне, пока я находился в этом корпусе, расстреляли четверых. Сухов и цыганенок, его подельник, к счастью, были последними. Мне кажется, что смерть человек чувствует каким-то спящим до времени шестым чувством… Каких только не приходило мыслей каждый день в тот период времени с отбоя и до начала прогулки! Бывало, приходилось часами сидеть у дверей камеры и прислушиваться к малейшему шороху, а иногда часами шагать по камере, призывая эту самую смерть как манну небесную. Я вспоминаю, как с самого моего водворения в эту камеру я целыми днями напролет просиживал на корточках возле двери. Перед этим, сразу после суда, получился у нас с мусорами небольшой хипиш и мне сломали ребро. Так вот, сидя у дверей камеры смертников, я даже не чувствовал боли телесной. Ребро так и срослось, крест-накрест. Много позже, когда мне делали операцию в Туркмении, в городе Чарджоу, врач-хирург после операции спрашивал меня, в каком же Богом забытом месте я находился в тот момент, когда получил подобную травму. Однако страх был сильнее боли. Мне кажется, что казни страшнее этого ожидания трудно придумать, потому что человек наказывает себя сам, постоянно психологически настраиваясь на неминуемый скорый конец. В моем случае апогеем ожидания этого самого конца были те доли секунды, когда я в наручниках выходил из камеры и внимательно смотрел на руки конвоя – нет ли наготове еще одной пары браслетов на ноги. Видя отсутствие кандалов, я облегченно вздыхал и успокаивался ровно на сутки. Так продолжалось 5 месяцев и 26 дней, пока на 27-й день, ближе к вечеру, я не услышал шум открываемой двери, такой непривычный в это время, зловещий и загадочный. Я замер на месте. Точно помню, что вся моя жизнь каким-то образом промелькнула передо мной как на экране, с быстротой мысли. Я каждый день представлял этот момент и ждал его, а когда он пришел, был не готов ко встрече с ним. Так в жизни бывает очень часто. В этот момент я как бы раздвоился. Один Заур говорил: «Все, это конец». Другой не говорил ничего, он, затаив дыхание и надежду, молчал. Да, затаив таинственную, ни на чем не основанную надежду. Именно тогда я понял и ощутил, что последней умирает действительно надежда человека.
В решительные минуты жизни сама природа подсказывает человеку его действия. Его поведением управляет сочетание привычки и мышления, доведенного до высшей степени быстроты и умения приспособляться к данным обстоятельствам.
Почти вдоль всей некогда могучей страны пролегал наш путь по этапу, на северо-восток к китайско-монгольской границе. Читинская область, город Нерчинск – таков был наш конечный пункт. Краснодар, Ростов, Пенза, Казань, Свердловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита. Вот неполный перечень городов, в тюрьмах которых мы побывали, и в каждой не меньше полумесяца, пока добрались до места назначения. В то время люди шли по этапу многие месяцы, и в этом не было ничего удивительного. Как бы ни была хорошо отлажена система ГУЛАГа, все же и она имела свои погрешности, и в частности это касалось транспортировки заключенных, а последнее, естественно, было не в их пользу. Ибо в любое время года этап, да еще и дальний, – это всегда каторга, ну а если летом, то, пожалуй, и вдвойне. Думаю, вам нетрудно себе представить вагон-«столыпин». Кстати, название свое он получил благодаря переселениям крестьян, которые проводил царский министр Столыпин. Так вот, это простой товарный вагон, то же купе, только вместо стены и двери – сплошная решетка. В самом купе – три ряда почти сплошных нар, заполняется купе всегда до отказа, то есть сидеть можно, но лечь некуда, и так приходится ехать месяцами, с некоторыми перерывами в пересыльных тюрьмах, пока не доберешься до места назначения. Даже человеку, не сопровождаемому конвоем, не под силу вынести такой путь. Что же приходится терпеть людям заключенным, человеку непосвященному остается только догадываться. Не успеешь выпрыгнуть из вагона, звучит команда: сесть, положить вещи впереди себя, руки за голову. Так и сидишь, пока все не выйдут из вагона, затем начинают считать по головам, как скот. После чего звучат наставления: шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх считается за побег – конвой шутить не любит, и уже для профилактики командуют раз пять сесть, встать и шагом марш. Где-то невдалеке ждут «воронки» (машины, специально приспособленные и оборудованные для конвоирования), но до них уже почти бежишь, так как конвой немного спускает с поводков собак, и если отстанешь, то зубов этих тварей не избежать. Передних заставляют идти ускоренным шагом, а последним, то есть больным и старикам, приходится бежать. Можно только догадываться, чему учили на службе этих 18-20-летних юнцов, если никто из нас не видел от них ни сочувствия, ни жалости, о большем и говорить не приходится. Самым ненавистным считался конвой, где преобладали лица азиатских национальностей, так же как и вологодский конвой. Это были натуральные изверги. Считалось, повезло, если конвой с Кавказа или из Сибири, эти вели себя по возможности по-людски, да и всегда с ними можно было о чем-то договориться.
И вот, погрузившись в «воронки», следуем в тюрьму, ну а здесь начинается процедура приема. Заводят в помещение, где вдоль стен намертво приколочены лавки, а в одной из стен окошко. Приказывают раздеться донага, а вещи бросить в это самое окошко. Затем заставляют согнуться буквой «Г», раздвинуть ягодицы – и в буквальном смысле заглядывают в задний проход, не спрятано ли там что-то. Если все в порядке, то проходишь в другое помещение, где в куче лежат вещи всех тех, кто прошел шмон. Пока найдешь свои, звучит команда «выходи». Теперь уже ведут в баню, ну а после бани – в камеру. Конечно, камера транзита резко отличается от общих камер, то есть тех, где сидят либо до суда, либо после. Там, где приходится сидеть некоторое время, мы стараемся обустроиться по возможности с уютом, там же, где проездом, как в поговорке: после меня хоть потоп. Я даже встречал в транзитных камерах в туалете опарышей, это такие белые черви, я на них после в Коми, на Печоре, рыбу ловил. В общем, здесь так же, как и везде в тюрьме. Если есть каторжане, значит, будут чистота и относительный порядок, насколько их можно создать в транзите. Но что бы мы ни делали, а вот от вшей и клопов никуда не деться: они всегда достанут, аж порой бывает невмоготу. А все потому, что в транзитных камерах матрацы и подушки лежат годами, отполированные до блеска грязью, даже материала не видно, особенно на подушках. О простынях, наволочках, также как и об одеялах, не может быть и речи. Иногда можно услышать возмущение какого-нибудь паренька-первохода, так на него смотрят так, будто он потребовал апартаменты с ванной и отдельным туалетом. До такой ужасающей степени утвердились эти традиции как по этапу, так и во всей системе. Вот и приходится сидеть полмесяца, месяц, а иногда и больше – в зависимости от того, как повезет с этапом. Когда же забирают на этап, то процедура почти такая же, только шмон проходит непосредственно в «Столыпине», по ходу этапа. Но как бы ни забивали купе «столыпинских вагонов» до отказа, всегда найдутся люди, которые подскажут, как правильно и как лучше разместиться, помогут всем, чем смогут, – и делом, и советом. Человек больной или старый не останется без внимания, и вещи кто-нибудь поможет донести, и, если надо, потеснятся, чтобы прилег. Общее горе и нужда хоть и озлобляют, но все же доброта и человеколюбие почти всегда берут верх. Так уж устроен арестант, как бы ни было плохо самому, но, видя, что кому-то еще хуже, он забывает о своем горе и старается помочь.
Много лет назад я читал статью о Пауэрсе, военном летчике США, которого сбили в 1959 году где-то над Уралом, когда его самолет-разведчик пересек нашу границу. Так вот, сидел этот Пауэрс во Владимире, в крытой, и все время находился в санчасти, – видно, так распорядились сверху, чтобы в грязь лицом не ударить, лучшего-то места в тюрьме нет. После суда его отправили на родину, в США. По приезде домой он дал интервью: «Русские три года держали меня в туалете». Видимо, то, что для нас хорошо, для них из ряда вон плохо, у них и психология другая, да и отношение к людям, в частности к заключенным, абсолютно другое.
Часть I
Я малолетка
Как только благоразумие говорит: «Не делай этого, это будет дурно истолковано», я всегда поступаю вопреки ему.
Ницше
Глава 1
На улице
Если исходить из того, что наша жизнь – театр, а мы в ней актеры, то я прошу снисхождения у читателя, так как, не имея никакого опыта, не могу претендовать на высокий литературный стиль. А посему прошу читателя строго не подходить к манере моего письма и надеюсь, что мне позволительно будет говорить о себе с полным беспристрастием, как если бы речь шла о постороннем мне человеке.
Итак, начинаю свое повествование. Я родился вскоре после войны. Мать моя была врачом и работала в больнице, у нее был ненормированный рабочий день, приходила домой она поздно. Отец сидел в тюрьме, увидел же я его впервые, когда мне было четырнадцать лет, так что можно сказать, воспитывался я на улице. Хотя у меня была бабушка, под ее надзор я попадал лишь после того, как темнота окутывала мрачные и грязные улицы Махачкалы. Так что первые жизненные университеты я начал проходить на улице. Это был совершенно обособленный мир, и о нем стоит рассказать подробней. Одна из первых уличных заповедей гласила: ты не имеешь права ни при каких обстоятельствах продать не только друга, но и врага. Вторая, не менее важная, – обязательно и при любых обстоятельствах за обиду, нанесенную тебе, ты должен дать сдачи – короче говоря, отомстить. Эти заповеди на улице святы, и мы рьяно придерживались этих правил, даже будучи детьми. Дети постарше, у которых родители сидели в тюрьме, держались обособленно, и младшие их побаивались.
Как правило, это были юные кандидаты в тюрьмы и лагеря. Время было очень тяжелое, и даже мы, дети, это понимали. Не раз мы, пацаны, видели, как трое мужчин, выпив портвейна, ругают свое начальство и нашу систему, а на следующий день одного из них забирали, и очень долго или никогда он уже не возвращался. Нередко за украденный мешок картошки или какой-нибудь крупы давали по десять лет. Для тех, у кого душа была подлая, низкая и завистливая, лучшего времени трудно было придумать.
Анонимные доносы и наушничество, корысть и лизоблюдство процветали в обществе и открыто приветствовались властями. Пороки того времени в некотором смысле нашли свое продолжение и в дальнейшем. Но об этом уже столько написано и сказано, что я, видимо, ничего нового не прибавлю. Хочу лишь заметить, что любые катаклизмы, происходящие в обществе, не могут не коснуться подрастающего поколения. На долю нашего поколения выпало много испытаний, большинство не могло им противиться, а тот, кто мог, сидел в тюрьме.
Как ни банально это будет звучать, но первое, что я украл, был хлеб! Сейчас мало кто может это понять и представить нас, пацанов, живущих по законам улицы, постоянно полуголодных. В десятилетнем возрасте я уже познал жизнь взрослых. Помню, когда хлеб давали по карточкам, всю ночь бабушка стояла в очереди, утром шла на работу, а днем продолжал стоять я. В эти долгие часы, стоя на холодном ветру, я мечтал вдоволь наесться хлеба. По ночам мне снился хлеб, и не только мне, но и многим моим сверстникам. И как ни парадоксально, но через двадцать с чем-то лет он опять мне снился, но уже в камерах и лагерях строгого и особого режима, ибо совдеповская администрация ГУЛАГа (Главное управление лагерей) ломала психику заключенных голодом, холодом и всевозможными лишениями. Но об этом я расскажу позже.
На месте нынешнего пединститута была пограншкола, в 50-х годах ее уже не было и все пригодные для жилья здания были отданы под интернат. Я был в семье единственным ребенком, но друзья мои имели по двое-трое братишек и сестренок, так что почти у всех кто-то находился в интернате. Если мы, живя в семье, всегда хотели есть, то что говорить об интернатских детях. Но мы не оставляли их в беде и не давали в обиду старшим интернатским ребятам и учителям, ибо и те и другие их били, а мы по мере возможности били и тех и других. Всем тем, что нам удавалось урвать, мы по-братски делились со своими друзьями, принося добычу в интернат. На углу улиц 26 Бакинских Комиссаров и Комсомольской был хлебный магазин. Он обслуживал очень большой район, поэтому хлеб туда доставляли три раза в день: два раза днем и один раз – в полночь. Мы бросали жребий, и один из нас, кому выпадала решка, должен был идти красть, а все остальные стояли на шухере. Часто, конечно, нас ловили и били, но к побоям мы давно привыкли, обидно было то, что при этом и добычу отнимали. В то время самое что ни на есть лакомство для нас была коврижка – это что-то вроде тульского пряника, но намного вкуснее, так нам тогда казалось. По форме своей она была чуть больше чурека и стоила по тем временам больших денег: сто сорок рублей за килограмм (до 1961 года). То и ценно, как говорится, что недоступно, и мы всячески старались утащить это недоступное для нас лакомство при разгрузке машины, хотя основной нашей целью был хлеб. После наших набегов на хлебные лабазы, независимо от того, удачные они были или нет, мы шли на обход базара. Базар был одним из излюбленных наших мест. В то время в городе был только один базар, тот, что возле моста, впрочем, моста тогда еще не было.
Обойти базар было для нас все равно что для верующего совершить божественный ритуал. Здесь мы до отвала наедались фруктами, мягко выражаясь, беря у каждого продавца понемножку, при этом не заплатив ни копейки.
Опять же нас ловили и били, но нам было все нипочем. Мы так располагали тело при побоях, чтобы удары попадали реже и было не так больно. В воскресенье на базаре была толкучка. Это было всегда самое знаменательное и желанное событие за неделю. Вся махачкалинская шпана была налицо. Собирались за железной дорогой, возле бондарного завода, и честно делили территорию. Очень редко кто-нибудь нарушал установленный порядок. Если это случалось с кем-то, его били до тех пор, пока он не признавал нашу правоту и не молил о пощаде. Нарушение установленного порядка было чревато очень серьезными последствиями. После целого дня «трудов» мы вновь собирались отдельными группами и делили добычу поровну. Если же кто-то вдруг ухитрялся утаить что-то, его здорово избивали и больше никогда не допускали в свою компанию. Их называли крысами, и от этого прозвища невозможно было избавиться. Законы улицы суровы, но справедливы, и независимо от возраста все должны были их соблюдать, правда, малышам многое прощалось. Все тутовые деревья в городе мы знали наперечет. Где черная шелковица, где белая, где гоняют, где нет, куда и как можно залезть. Заправленная в трусы майка была черной от тутовника, больше некуда было складывать ягоды, сидя на дереве, и от матери мне здорово доставалось, ведь следы от тутовника практически не отстирываются.
Самой большой отрадой для нас было, пожалуй, море. Целыми днями мы пропадали на «детском пляже». Это было место, где могли купаться и отдыхать все без исключения, в том числе и люди из преступного мира. Порой с утра и до самого вечера мы пропадали на пляже. Никогда не забуду, как, проголодавшиеся после купанья, мы заходили в портовую столовую. Кусочек хлеба с гарниром стоил восемь копеек, и надо было видеть, как мы аккуратно, краешком хлеба выбирали с тарелок остатки пищи. Тарелка оставалась чистой, как будто ее помыли. Осенью, когда на пляже становилось холодно, мы перемещались на биржу. Она находилась на месте кинотеатра «Комсомолец» и прилегающей к нему территории, включая летний кинотеатр, – и это была вотчина малолеток.
Мы играли в «лангу» и «альчики» зимой в фойе кинотеатра, а летом во дворе. Взрослые же прогуливались по бульвару. Все проблемы преступного мира обсуждались и решались напротив хлебного магазина. Здесь же продавали анашу и морфий. Кстати, тогда за анашу не было уголовной ответственности. Ее свободно носили в карманах, но при этом наркоманов было очень мало, и их, мягко выражаясь, не приветствовал никто. Анашистов же не считали наркоманами, их называли кайфовыми людьми. Я думаю, что различие, по большому счету, состоит в том, что от анаши не бывает наркотической зависимости, так называемого кумара, как говорят в преступном мире. Нам же, пацанам, все эти наркотики и прочее были ни к чему. У нас был свой мир – «лянга» и «альчики». Надо было видеть, с каким азартом и проворством мы кидали «альчики». Почти каждый час кто-то с кем-то дрался, затем обсуждали, кто прав, кто виноват, и опять шли играть. Что касается «лянги», это был маленький кусочек свинца, величиной с двухкопеечную монету и такой же формы. В нем проделывали две дырочки, как на пуговицах, и в них просовывали проволоку, а с другой стороны клали пучок конского волоса или вырезали кусочек овечьей шкуры диаметром пять-семь сантиметров. Затем волосы затягивали проволокой и распрямляли – и получалась «лянга». По часу, а то и больше, подбивая самодел то одной, то другой ногой, мы умудрялись выписывать всякого рода пируэты, но упасть «лянге» не давали, это считалось проигрышем. Так коротали мы свой досуг. Но как только начинало смеркаться, мы шли занимать места в кустах возле какого-нибудь кафе или ресторана и ждали, когда выбросят распитую бутылку. Ресторанов и кафе было мало, а нас много, поэтому нам постоянно приходилось драться за бутылки, потому что назавтра мы могли сдать эти бутылки, наесться досыта, да еще и накормить своих корешей в интернате, если по каким-либо причинам нам не удавалась вылазка на хлебные лабазы. Так что дело было стоящее, и за него приходилось драться. Разбитые носы, синяки и царапины в счет не шли, все это было пустяком, на который никто не обращал внимания. Что характерно, в драке тоже были свои незыблемые правила. Например, лежачего не били, дрались либо до первой крови, либо пока кого-то не собьют с ног. Очень редко кто-то переступал границы дозволенного. Это была Улица, со своими законами, своей моралью и своим кодексом чести. Мы были очень дружны. Я не помню, чтобы кто-то из моих друзей когда-то бросил меня или предал, и это при том, что самому старшему из нас было 12 лет. Хочу заметить, что воровали и дрались мы не ради наживы и бахвальства, не ради забавы и развлечений, а чтобы просто наесться досыта.
Отец мой был работяга, по сути своей, честный и добрый человек. Всю жизнь он проработал водителем. Судили его за то, что вез заказной груз, который оказался ворованным. Знал он об этом или нет, но своих работодателей он, естественно, не выдал, и дали ему за это 15 лет. Родился я, когда он уже сидел, и увидел его впервые в 1961 году, его освободили по зачетам. Но на свободе он меня не застал, я сидел в ДВК, в городе Шахты Ростовской области, там и познакомился со своим отцом. Деда своего я не застал, он умер, когда я еще не родился. Был он красный партизан, советскую власть в Дагестане устанавливал. Мать отца, как ни парадоксально, была княжна. Дед украл ее, правда с ее согласия. Во все времена любовь не знала ни границ, ни преград из-за различий в социальном происхождении. Мать моя, как я уже говорил, была врачом, причем врачом от Бога. У нее были золотые руки в буквальном смысле этого слова. Скольких детей она вернула с того света, скольких людей подняла на ноги с помощью массажа, тех, которые вообще годами не ходили. Да что об этом говорить! Она умудрялась переворачивать плод в утробе матери – тоже с помощью массажа. Надо было видеть, как среди ночи, забыв обо всем на свете, кроме своих инструментов, она бежала в одной комбинации к больному ребенку. Предметы и препараты первой необходимости для оказания помощи больному у нее были всегда в идеальном порядке и наготове, что же касается инструментов, то ими она занималась с особой тщательностью. До сих пор, хотя уже прошло 15 лет, как мамы не стало, многие люди вспоминают ее с любовью и уважением, так же как и она когда-то относилась к ним. Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня сжимается сердце. К сожалению, многие из нас не ценят наших матерей при жизни так, как они того заслуживают, а когда их уже нет, то с болью в душе осознают утрату. Пусть же благодарная память о них всегда будет примером нашим детям и внукам. Я очень любил свою мать и очень боялся, но, как показала жизнь, видимо, мало боялся. В детстве у меня была заветная мечта – стать хирургом, и, даже будучи в заключении, в малолетке, я все равно не терял надежды и мечтал об этом. Когда я освободился из малолетки после трех лет заключения, мне было всего семнадцать с половиной лет и я вполне мог осуществить свой план. Но жизнь распорядилась по-другому. Мать работала в больнице на двух ставках с утра до ночи, а то и до следующего утра, чтобы как-то прокормить нас и купить что-нибудь из одежды. Я всегда старался прийти домой раньше матери, но если не успевал, то взбучки было не избежать. Иногда я притворялся, что мне очень больно, когда она била меня. Тогда она прекращала порку, бросала ремень, садилась на стул, закрывала лицо руками и плакала. Вот здесь уже и мне было не по себе, так было ее жаль, что иногда слезы наворачивались у меня на глаза, и я плакал вместе с нею. Я обнимал ее и целовал, говорил ласковые слова, которые приходили в голову, и клялся, что никогда в жизни не буду ни воровать, ни драться. А на следующий день я продолжал делать то, что и раньше, как будто ничего не было, начисто все позабыв. Я не встречал в жизни женщину, которая бы так любила своего сына, как любила меня моя мать. Как нетрудно догадаться, большую часть времени я проводил с бабушкой, она же меня и воспитывала. Жизнь моя была полна всякого рода бед и печалей, мне здорово досталось, но при этом у меня есть и целый ряд прекрасных воспоминаний. Одно из них – это воспоминание о моей бабушке. Это была необыкновенная женщина. Все, или почти все, что есть во мне хорошего, все мои положительные черты – это от моей бабушки. В жизни каждого человека, будь у него хоть идеальные родители, есть еще кто-то из близких, кто ему особенно дорог. Это может быть старшая сестра, дедушка или тетя, а для меня была моя бабушка. Будучи дворянкой по происхождению, она окончила Смольный институт в Санкт-Петербурге, свободно изъяснялась на трех языках, прекрасно играла на рояле, была глубоко интеллигентной и образованной женщиной. Выйдя замуж за сына адмирала, графа Фетисова, она не успела даже познать семейную жизнь, как началась революция. Вся семья бабушки, ее родители и младший брат в спешке покинули Россию и поселились во Франции. Бабушка же не могла уехать, ибо она была женой морского офицера, а российский флот еще не был красным. Какой-то пьяный солдат из-за угла выпустил всю обойму в ее мужа прямо у нее на глазах. Очнулась она в больнице на Васильевском острове. Бабушка была на четвертом месяце беременности, и в таком положении оказалась одна, без средств к существованию. В один миг она лишилась любимого человека, родных и близких. Этот день она так хорошо запомнила, что я, слушая ее, настолько ясно все себе представлял, будто сам был невольным свидетелем происходящего. Я часами напролет мог слушать рассказы бабушки, все мне было интересно, особенно подробности жизни в дореволюционное время. Бабушка давала мне уроки французского языка, этикета и всего того, что должен знать юный отпрыск дворянского рода. Она всегда верила в то, что когда-нибудь я стану врачом с мировым именем и меня будут приглашать для консультаций в европейские страны. И тогда-то все узнают, что я не какой-то коновал из красной России, а настоящий ученый муж из старого дворянского рода. Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает, и, к сожалению, этому не суждено было сбыться, как и многим другим честолюбивым мечтам моей бабушки. Я не боялся, когда меня ловили за кражу и били, не боялся драться со взрослыми ребятами, даже когда мать меня лупила, я, как правило, переносил порку стоически и старался не плакать. Но стоило бабушке воскликнуть: «Неужели ты это сделал?» – или: «Ты посмел так поступить!» – и мне становилось стыдно. Ее слова очень много для меня значили, после общения с ней я начинал смотреть на мир ее глазами, а в душе возникали добрые чувства. И что удивительно – с утра до вечера я воровал, дрался и вытворял массу всевозможных глупостей, а вечером как послушный, тихий ребенок с замиранием сердца слушал рассказы и наставления бабушки. Естественно, такой перепад моего поведения не мог не сказаться на моем характере, и впоследствии все это я неплохо использовал на воровской стезе. Те немногие бродяги, кто остался в живых и с кем мне приходилось отбывать срок в тюрьмах или лагерях, наверное, читая эти строки, поневоле улыбнутся, многое вспомнив, а вспомнить есть что, уж это точно.
Глава 2
Детская колония
В то далекое время в Махачкале была одна детская комната милиции и находилась она на улице Маркова, неподалеку от женской консультации, если идти со стороны вокзала. Инспектор была очень симпатичная девушка – Столбарь Светлана Александровна, до сих пор помню ее, потому что по-детски впервые был влюблен в нее и впервые разочарован. Однажды я увидел ее в форме и был потрясен, мне не верилось, что предмет моего обожания может носить форму, но это было еще полбеды. Под ручку с ней шел офицер милиции, у обоих на погонах было по маленькой звездочке. Как оказалось, это был ее муж. Естественно, теперь о любви не могло быть и речи, так глубоко в нас, еще детях, сидело отвращение ко всему милицейскому. У каждого из нас кто-то из родных сидел в тюрьме, и почти все видели, как их забирала милиция, и в детской памяти это запечатлелось надолго. Так вот, с девяти часов утра до четырех вечера мы должны были находиться в этой детской комнате милиции. В противном случае нас вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних и отправляли в ДВК, так называемую бессрочку. По закону судить нас могли только с 14 лет, вот и была у них альтернатива. Ибо в бессрочку водворяли с 12 лет и могли держать до 18 лет, и не нужны были ни следствие, ни суд, все решала комиссия. Колония была вроде спецшколы, еще и охрана была без оружия. Как вы могли бы догадаться, я не мог смириться с такой несправедливостью и в детской комнате, естественно, не появился. Ну а после этого меня в очередной раз поймали с поличным за кражу и отправили на комиссию, а оттуда в ДВК, а это значило потерять свободу Я никогда не забуду, как убеждали мою мать не препятствовать моему водворению в колонию. Обещали, что через полгода максимум она сможет забрать меня оттуда совсем другим человеком. Но эти несколько месяцев вылились в несколько лет. И наверное, меня держали бы еще дольше, если бы не приехал отец и не забрал меня. Но это было позже. А пока нас в количестве девяти человек привезли в Каспийск, туда, где находилась ДВК, там, по-моему, она находится и по сей день, только чуть преобразовавшись. По большому счету, я особенно и не удивился. Почти все мои друзья по уличным проделкам были здесь. Нас, так же как и на улице, били, когда ловили с поличным, только здесь били воспитатели и за всякую ерунду, например не выучил урок, не так ответил, поломал что-нибудь, всего и не упомнишь. Но было одно серьезное отличие – забор вокруг колонии; и мне, привыкшему к свободе, трудно было свыкнуться с мыслью, что придется провести здесь несколько месяцев. Каким я был наивным. Мог ли я себе представить тогда, что не несколько месяцев, а пару десятков лет придется мне томиться в гулаговских застенках. Итак, пару-тройку раз подравшись для приличия, мы стали готовиться к побегу. Во время праздников тех, кто хорошо себя вел, выводили с воспитателем на свободу, но друзья мои и я, естественно, в их число не входили. Оставалось одно – преодолеть забор.
Первый свой побег я помню смутно, но зато хорошо помню, что он нам удался, – правда, в течение недели почти всех переловили. К нам присоединились еще трое пацанов, так что нас было 12 человек. Мы еще в колонии решили, что будем сразу после побега любыми путями добираться до Махачкалы. У меня, правда, было какое-то странное предчувствие, но объяснить себе его я не мог. Лишь много лет спустя, тоже в побеге, но уже в Коми, в таежной глуши, я почему-то вдруг вспомнил, что тогда, при первом побеге, я испытал это же чувство. Уже в двенадцатилетнем возрасте я ощущал себя изгоем общества, и мне почему-то казалось, что не один раз мне придется бежать из зоны, и я, к сожалению, не ошибся.
Один раз в день в Каспийск приходило несколько вагонов с кукушкой (такой маленький паровозик, ездивший по узкоколейке), но об этом нечего было даже и думать, нас бы сразу сцапали. Мы решили разделиться на группы и разошлись в разные стороны. Со мной было еще двое: Витек (Гнутый) и Арсен (Немой). Из нас всех только я хоть как-то мог ориентироваться в этих местах. До этого я несколько раз был в Каспийске и один раз в аэропорту.
Витек был из Гродно, белорус. Он рассказал нам историю своей семьи. С войны вернулись отец Витьки и брат его матери. Начали потихоньку поднимать хозяйство. Мать его была беременна. И вот однажды она спустилась в подвал за чем-то, мужчины работали в огороде, а бабушка готовила еду. И в этот момент прогремел оглушительный взрыв, больше его мать ничего не помнила. Очнулась она в больнице, где ей рассказали, что мужчины случайно в огороде наткнулись на неразорвавшуюся авиабомбу. Все близкие ее погибли, а ее засыпало землей в погребе, это ее и спасло. Лишь чудом удалось ее извлечь оттуда живую, а через несколько месяцев родился Витек с дефектом позвоночника, отсюда и кличка Гнутый. Еще во время войны его тетя эвакуировалась на Кавказ и жила в Махачкале, сюда и позвала она свою убитую горем сестру, больше из родных у них никого не было. До первого класса Витек почти не выходил на улицу, и мы его не знали, а когда начали общаться, он всем сразу пришелся по душе и был безоговорочно принят в нашу компанию.
Арсен был родом из Сталинграда, по национальности татарин. Вся семья их погибла во время войны, а его вместе с глухонемой сестренкой привезла в Махачкалу бабушка, которая жила здесь всю жизнь. Он был старше нас, выше ростом, всегда молчаливый. Когда их видели вместе с сестрой, то те, кто не знал Арсена, думали, что они оба глухонемые. Но в драках или разборках он был всегда на высоте. Так же как и Витек, он пользовался нашим уважением, да и вообще мы были друзьями. Потихоньку пробравшись к морю, мы дошли берегом до Туралей, пока не стемнело. Там залезли в старый сарай на берегу моря и заснули, а утром вновь тронулись в путь и к вечеру были уже на вокзале в первой Махачкале. Мы сидели за насыпью и следили за тем, как формируются вагоны и какой состав отойдет первым. В то время не было ни тепловозов, ни электровозов, были паровозы, которые топились углем. Зимой мы залезали на паровоз ближе к топке, там было теплее, а летом забирались в какой-нибудь вагон, или под него, или на крышу вагона. Первая серьезная остановка была станция Хасавюрт. Как только подходил товарняк, туча беспризорников выпрыгивала из него и бросалась к базару. Бедные торгаши, как они орали, когда опустошали их лотки. Затем прибывала милиция и свистела. Кого-то ловили, кто-то удирал. И те, кому посчастливилось убежать, вновь сидели в засаде и ждали, когда подойдет очередной товарняк. Следующей остановкой был Гудермес, и повторялось все сначала. Для тех, кто смог миновать милицейский заслон в Гудермесе, дорога в Россию была открыта. Из Каспийской ДВК я сделал семь побегов, но только однажды добрался до Гудермеса. Никак я не мог перейти этот Рубикон. Не буду описывать, как нас ловили и водворяли обратно, как мы бежали снова и снова, как издевались над нами, как сажали в карцер, били и истязали.
И вот, продержав год и два месяца в Каспийской ДВК, нас отправили в селение Куртат в Северной Осетии. Я, конечно, тогда не мог предположить, что через двадцать лет буду сидеть в трех километрах от этого места – в поселке Дачном. Там я иногда лазил на крышу барака, откуда видна была ДВК, и вспоминал свое далекое детство. Продержали нас в Куртате недолго, несколько месяцев, пару раз мы пускались в побег, пытаясь добраться до Орджоникидзе, но на полпути нас ловили. До города оставалось километров тридцать, а спрятаться было негде. В общем, помыкались с нами – и отправили в Ростовскую область, в город Шахты. Здесь было жить немного легче, но жажда свободы не оставляла нас. Однако при очередном побеге только я один добрался до Ростова. Голодный, измученный, грязный, я заснул прямо на газоне. Смутно помню, как милиционеры на руках принесли меня в больницу, у меня был жар, я весь горел. А через восемь дней, когда температура спала, меня отправили в детский приемник. Как сейчас помню, он находился на улице Восточная, 49, потому что наш махачкалинский детский приемник находился на улице Пионерская, 49, и это на всю жизнь врезалось в мою память.
Целый месяц я придумывал разные адреса и фамилии в расчете выиграть время и убежать, но тщетно. Я понял, что одному мне не осуществить мой план, а вокруг никого не было, с кем можно было бы бежать. По крайней мере, я ни с кем не общался и доверять, естественно, никому не мог. А значит, и не было таковых, так как мы узнавали своих сразу. Не знаю почему, но интуиция не подводила меня никогда. В общем, пришлось сказать начальству правду, кто я и как попал к ним. На следующий день, после обеда, за мной прибыла машина. Как и положено в этом ведомстве, меня сдали с рук на руки и повезли – куда, нетрудно догадаться, опять перевоспитывать.
Сопровождающий был уже в годах, такой добродушный и разговорчивый мусорок. Не успели тронуться, как он тут же мне поведал, что по приезде в лагерь меня ждет сюрприз. Мне можно было этого и не говорить, ибо я все это хорошо знал. После очередного побега удары кулаков и дубинок надзирателей сыпались на меня как из рога изобилия. Но на этот раз я ошибся. Меня ждал действительно сюрприз, да еще какой! Оказывается, несколько дней назад сюда приехал мой отец, и за это время он уже успел поругаться с администрацией. Ему было сказано, что он воспитал не человека, а волчонка и что я уже две недели в побеге, меня ищут, а как найдут, доставят сюда. Отец понял и этот взгляд, и многозначительный намек. Зная структуру «воспитательных» заведений, ему нетрудно было представить, что меня ожидает. Пустившись на всякого рода ухищрения, где угрозой, а где и добром, отец смягчил удар, который должен был обрушиться на меня после поимки. Было еще одно обстоятельство, которое связывало руки как Хозяину, так и всей администрации подобных заведений. Я был в том возрасте, когда по закону меня не могли отдать под суд, так как мне не исполнилось еще 14 лет, и по требованию родителей меня обязаны были им вернуть.
Конечно, менты не знали, что отец сам освободился только две недели назад, ну, естественно, и предположить не могли, что мы друг друга еще никогда не видели, иначе, думаю, с ним был бы другой разговор. В то время, если тебя хоть пару раз вызвали к следователю, на тебя уже начинали косо смотреть. Ну а если ты отсидел, да еще 15 лет, об этом и говорить не приходится. Я часто представлял нашу встречу с отцом, но никак не думал, что она будет такой. Как только меня привезли в лагерь, тут же закрыли в карцер, чему я не преминул удивиться, ибо сначала обычно подвергали экзекуции, а лишь потом, чуть живого, бросали в карцер. Естественно, меня это обстоятельство приятно удивило, я почувствовал, что меня ждет что-то хорошее, но тем не менее, пока не прозвучал отбой, я был насторожен. Тот, кто подвергался подобного рода «процедурам», знает, что есть разница между тем, когда тебя начинают бить, а ты этого не ожидаешь или когда ты к этой экзекуции подготовился. Я, можно сказать, освоил эту науку в совершенстве. Утром за мной пришла уродливая женщина, что-то вроде обезьяны, ничего более омерзительного в образе женщины я не встречал, меня аж передернуло при виде этой дегенератки. Видно, она слишком хорошо знала о своем уродстве и поэтому с лихвой мстила пацанве. Как правило, особенно отъявленные негодяи имеют и соответственную внешность. Она так сильно схватила меня за шею, что я подумал – позвонок сейчас хрустнет, и так тащила меня до самого штаба. Затем втолкнула в кабинет и, не сказав ни слова, ушла. Прямо предо мной за столом, покрытым зеленым сукном, сидел Хозяин. Ничего примечательного в нем не было. Обычный мент, каких я уже повидал с десяток, правда, так близко Хозяина я видел впервые. «Ну что, набегался?» – было первое, что он спросил. Я, как обычно, стоял молча. Затем после трескучей и длинной тирады он сказал, что я всем надоел и, слава богу, приехал мой отец и забирает меня. Только тут я увидел, что в правом углу сидит мой отец, ошибиться было невозможно, я его тут же узнал: дома было несколько фотографий, а в свое время я их достаточно хорошо изучил. Я видел, что там кто-то сидит, когда слушал Хозяина, но думал, что это кто-то из надзирателей, и после разглагольствования и нравоучений этого «Макаренко» меня, как обычно, будут бить. Я посмотрел на отца и, когда тот встал, не выдержал и бросился в его объятия. Молча, как подобает мужчинам, мы стояли несколько секунд обнявшись, из оцепенения нас вывел голос Хозяина. «Благодари Бога, – сказал он мне наставительным тоном, – что отец приехал за тобой, иначе через месяц тебя за что-нибудь да осудили бы». 1 июня мне исполнялось 14 лет. Как потом рассказал мне отец, в сущности, Хозяин оказался неплохим человеком, пошел на многие уступки отцу, чтобы он забрал меня, минуя некоторые формальности. Хотя уже тогда я был твердо убежден в правоте уличной поговорки: «Хороший мент – это мертвый мент», так как еще в детстве столько натерпелся от них, как будто я был закоренелый преступник. А по сути, я еще никаких серьезных правонарушений не сделал. Если же за то, что ребенок ворует, чтобы наесться, общество считает его преступником, то, без сомнения, я был им. Однажды один очень неглупый человек, анализируя мое уголовное прошлое, разложил перед собой кучу томов моего дела и сказал: «Эх, Заур, как же ты не понял до сих пор, что они сызмальства начали мучить тебя только потому, что предчувствовали, сколько ты принесешь им еще хлопот в жизни. Так что ты не должен быть на них в обиде, вы, по большому счету, квиты. Смотри, оказывается, какие провидцы у нас тогда в органах работали, а я и не знал». Насчет того что мы квиты, я, конечно, не согласен. После общения с этим следователем меня и моего друга суд приговорил к расстрелу. У немцев существовало изречение, оно было написано на воротах концлагеря Бухенвальд: «Каждому свое». Это изречение вполне подходит и в моем случае. Впервые я обрел свободу на законных основаниях. Но самое главное – я обрел отца, которого отродясь не видел. И вот тут я невольно подумал о странностях судьбы и о том, как неожиданно может измениться твоя жизнь. Как описать те чувства, которые нахлынули на меня при встрече с отцом? Возможно, кто-то и смог бы написать об этом, но у меня вряд ли получится.
Отец приехал на машине. Раньше приехать он никак не мог, он был на свободе всего полтора месяца. Ему дали 101-й километр – это означало, что в Махачкале он не мог ни жить, ни прописаться, мало того, ближе 101-го километра он не имел права появляться, и с этим нельзя было не считаться, так как эти правила очень строго соблюдались. Тогда он нашел фронтовика – командира своего отца, тот работал сторожем у хачика, и, как рассказывал отец, это ему помогало открывать ногой двери почти любых кабинетов. Вот он и помог отцу, помня о своем друге и однополчанине, и даже устроил на работу – возить какого-то хакима, куда с судимостью вообще не брали. Вот на этой машине отец и приехал за мной. Перед отъездом мы купили кое-что из еды и курева моим корешам. Отец все передал, меня же к ним не подпустили. Отец пообещал ребятам, что по приезде домой посодействует, чтобы их забрали отсюда. На том, простившись, мы уехали, а на следующий день уже были дома.
Через месяц после освобождения мне исполнилось 14 лет. Отец все время внушал мне, что с детством пора проститься, что я уже подсуден и в любое время могу оказаться на скамье подсудимых. Я, естественно, всегда внимательно слушал его, особенно когда его нравоучения дополнялись всякого рода рассказами о жизни заключенных на Севере, где он провел немало лет, но поступал все равно по-своему.
К сожалению, в юные годы мы часто забываем, что на свете есть люди не глупее нас и всегда найдутся любители поохотиться за другими людьми: сыщики и тюремщики все время начеку. Оглянуться не успеешь, и тебя уже схватили. И от этого не уйти тем, кто ворует, это удел каждого вора.
Глава 3
Тюрьма
Итак, близился к концу 1961 год, со своими реформами и преобразованиями как в Уголовном кодексе, так и в преступном мире в целом. Десятилетиями позже люди ностальгически будут вспоминать это удивительное время и хрущевскую браваду с его знаменитым заявлением, что в 1970 году выйдет из ворот лагеря последний заключенный. И ведь были простодушные люди, которые верили в это. Но мы, юные узники Махачкалинского равелина, не знали об этом его изречении, а если бы и знали, все равно бы не поверили, ибо уже начали понимать, что такое тюрьма, и уже столкнулись в ней с подлостью и предательством, хотя и были еще почти детьми. Чтобы читателю было ясно, о каких реформах идет речь, я постараюсь вкратце описать их. До 1961 года разницы в режимах не существовало. Сидели все вместе – зеки и первой, и десятой судимости. Лишь только воры и самые отъявленные нарушители находились на спецах и в крытых. Спец – это лагерь, внутри которого находились бараки, где содержались заключенные, но под замком, этакая тюрьма в тюрьме. Уже позже, после 1961 года, спец переименовали в особый режим. Особых режимов было два вида: открытый и закрытый. Открытый особый режим давали со свободы. На закрытом же сидели те, кто получил срок уже в лагере, как говорили, раскрутился. Со свободы закрытый особый режим тоже давали, но очень редко, обычно за особо тяжкие преступления. Отличались они лишь тем, что на закрытом не выводили на работу. Также существовал тюремный режим (крытая). За особо тяжкие преступления его давали также и со свободы, но крайне редко. В основном в крытую отправляли на срок до трех лет (из того срока, что оставался, за нарушения режима) лагерным судом. Но опять-таки в основном это были либо воры, либо люди, придерживающиеся воровских идей. То же самое относилось и к малолетним заключенным, то есть к тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Тут также сидели все вместе. Замечу, что у некоторых было по две, редко и по три судимости, а им еще не исполнилось, повторю, и 18 лет. Здесь, так же как и у взрослых, самых отъявленных нарушителей отдельным лагерным судом, с обязательным участием прокурора и судьи, отправляли на спец. Крытой у малолеток не было. Но, по мнению всех зеков и по моему личному мнению, уж лучше было сидеть по нескольку раз на взрослых спецах и крытых, чем один раз на малолетнем спецу. В то время это знали все, в том числе и воры, и того, кто проходил этот ад с достоинством, ждало большое воровское будущее. В Советском Союзе было два спеца малолеток: в Нерчинске, в двухстах километрах от Читы и почти столько же километров от китайской границы, и в городе Георгиевске Ставропольского края. К сожалению, оба эти земных ада мне пришлось познать с лихвой и пройти через них, но об этом чуть позже. А пока мы пробыли, как и положено, трое суток в КПЗ (камера предварительного заключения), в подвале МВД, который строили пленные немцы и откуда, насколько я знал, не было ни одного побега. Затем нас привезли в тюрьму. Прошлое скрылось вдали, будущее было неведомым, осталось одно настоящее – тюрьма! Как много сокрыто в одном этом слове. И как бы его ни трактовали, как бы ни переименовывали – в острог, крепость, цитадель или следственный изолятор, – людям, содержащимся здесь, это абсолютно безразлично. Тюрьма всегда остается тюрьмой. По прошествии сорока лет трудно вспомнить, какое впечатление произвела тогда на меня тюрьма. Думаю, особых эмоций и волнений я не пережил. Как я уже писал ранее, мы росли на улице, а там, кроме как о тюрьме да о воровских законах, почти ни о чем не говорили. Да и два года, проведенные в трех лагерях, хоть и в детской колонии, все же оставили заметный след в моем юном сознании, да и научили немалому. Для своих 14 лет я уже много выстрадал. Постоянные лагерные разборки, драки, неудачные побеги и следующие за ними карцер и избиения надзирателями уже потихоньку начали закалять мой характер. Мы хотели походить на тех людей, которые страдали за Идею, но на попятную не шли. Конечно, мы тогда и представления не имели, что собой представляет идейный человек. Но все же одно знали точно: раз стал на этот путь, то иди, как подобает мужчине, и терпи, но ни в коем случае не ломайся. Так нас учили на улице взрослые, они были нашими кумирами, и почти всегда это были воры.
Человек верит тому, во что хочет верить. Одним словом, я уже знал, кто я такой, знал, как входят в тюрьму и в камеру. Знал или почти знал, хоть и по рассказам, ее законы, а это, смею заметить, было уже немало. Я был здесь почти свой, только меня пока никто не знал. Нужно было себя как-то проявить, я хоть и не знал как, но догадывался. Я был еще слишком молод, недостаточно умел владеть собой, пока еще не мог высказать то, что я чувствовал. У меня было только короткое, но довольно жестокое прошлое, мрачное настоящее и неведомое будущее. Но я твердо знал, насколько может предположить юнец в 14 лет, что путь мой будет тернист и я все сделаю, чтобы пройти его достойно. Я старался не думать о будущем и решил целиком посвятить себя настоящему. Был я, конечно, по-детски беспечен и наивен, но в то же время старался быть стойким перед всякого рода испытаниями.
Итак, впервые я переступил порог махачкалинской тюрьмы, да и вообще тюрьмы, в возрасте 14 лет 6 месяцев и один день. Но прежде чем продолжать свое повествование, мне бы хотелось поинтересоваться у людей, знают ли они, что такое тюрьма? Другой вопрос: нужно ли им это? Уверен, ответ будет звучать положительно, а посему продолжу. Уверен также и в том, что даже те, кто сидит в тюрьме, до конца ее не знают. Исключение составляют единицы, а это опять-таки либо воры, либо Х-люди, но я их пока не называю.
Тюрьма – это свой мир, со своими законами, со своим кодексом чести, это жестокая школа, пройти которую, по большому счету, может не каждый, ибо сидеть можно по-разному. И я думаю, что стоит немного рассказать об этом мрачном институте. Изначально тюрьма – это воровской дом, и законы здесь воровские, это аксиома в преступном мире. И коль попал в ее стены, неважно за что, это никого не интересует, будь любезен – соблюдай ее законы. Никто тебя не заставляет жить по ним или их придерживаться, но блюсти их обязан каждый. В любой тюрьме должен быть человек, который отвечает за порядок, за общее положение, за жизнь всех зеков в ее стенах. Его называют положенцем, а если тюрьма большая, то могут быть положенцы разных корпусов, независимо от того, есть в тюрьме вор или нет. Кто такой вор, я разъясню позже, а пока расскажу, кто такой положенец.
Воры на сходке решают, кому из контингента бродяг, находящихся в данный момент на централе, можно доверить тюрьму, а после принятия решения посылают прогон с именем или кличкой, если таковая имеется, того, кому доверяется тюрьма. Если в тюрьме нет воров, то они подъезжают со свободы. И все, что бы они ни сказали, будет в тюрьме беспрекословно принято.
Слово воровское не обсуждается, оно выполняется. Затем тот, кому оказана честь смотреть за тюрьмой, пишет прогон от имени вора или воров, которые приехали в тюрьму. Прогон проходит по всем камерам, кроме обиженных и легавых, и в каждой камере с ним знакомят контингент, зеки подписываются, что ознакомились с посланием, и посылают дальше. Обойдя тюрьму, прогон возвращается назад. Если вор в тюрьме, прогон посылают дорогой. Если вор на воле, то с верным гонцом прогон отправляется на свободу. Воры с ним знакомятся и уничтожают, уничтожить прогон может только вор. Бывает так, что ни в тюрьме, ни поблизости воров нет. Все равно кто-то из «достойных» должен взять на себя этот груз и поставить в курс дела бродяг, чтобы на централе при первой встрече с вором дать отчет в своих действиях. При любом раскладе тюрьма без воровского присмотра не останется. В тюрьме положенец имеет почти такие же права, что и вор, с одним исключением – он не вор. Любой арестант в тюрьме имеет право обратиться как к вору, если он есть, так и к положенцу, либо за советом, либо с просьбой, либо с жалобой, и святая обязанность и того и другого не только ответить арестанту, но и приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить его просьбу или жалобу. Все, что мною выше написано, служит арестантам залогом справедливости и участия в их судьбе, то есть как бы соблюдения воровского закона. Так было, так есть и так должно быть в тюрьме. И не следует заблуждаться на этот счет. В последнее время те, кто следовал по этапам, встречал на пересылках, а иногда и непосредственно в тюрьмах всякую нечисть. Пользуясь незнанием зеками воровского кодекса и тюремных законов, эти самозванцы выдают себя за воров или положенцев, называют себя бродягами и творят полный произвол и беспредел. Конечно, это до поры до времени. Рано или поздно им придется за все ответить, и редко кто из них останется в живых. Они прямые кандидаты на тот свет, им не стоит обольщаться, что их действия окажутся безнаказанными. И что порой иногда меня бесит, так это то, что некоторые зеки, считающие себя бродягами, могли бы что-то предпринять, видя, что творят эти подонки, но они не противодействуют подлецам. Одни по малодушию надеются, что пронесет, другие сомневаются в отношении самой Идеи, но виду не подают, этакие лисы с пушистыми хвостами, сидят и выжидают. Хочу дать совет. Прежде чем принять то или иное решение, человек, именующий себя бродягой, должен знать: где бы ни произошел инцидент – в тюрьме, в лагере, на свободе, – влекущий за собой насилие, произвол или беспредел, позорящие и идущие вразрез с воровскими устоями, рано или поздно лукавого человека ждет наказание. И совсем не обязательно, чтобы он был непосредственным виновником событий. Главное, что он мог предотвратить зло, но не приложил никаких для этого усилий.
Общение в тюрьме между камерами, корпусами, да и вообще между тюрьмами происходит посредством маляв (записок), очень тонко скрученных в виде половинки сигареты. Она обернута целлофаном и запаяна со всех сторон. Всех арестантов оповещают прогоном. В тех случаях, когда хотят известить их о передвижении воров, о голодовке или о ее снятии, о запрете на что-либо, да и в других случаях, касающихся общего контингента. К примеру, в 90-х годах почти весь конвой, который сопровождал арестантов из всех московских тюрем: на суд, или следствие, или еще куда-то – продавал таблетки радидорм иреладорм – короче, снотворное. После их употребления люди буквально теряли голову и бог знает что вытворяли. Долго это продолжаться не могло. Летом 1996 года я находился в Матросской Тишине и был на положении в тубанаре (отдельный туберкулезный корпус). Так вот, от воров пришла малява, в которой говорилось: оповестить контингент централа прогоном – таблетки запретить, не покупать их и не употреблять. Я сам писал тогда один из таких прогонов. В скором времени результат не замедлил сказаться, и, естественно, в лучшую сторону Насколько я знаю, до сих пор в тюрьмах употребление этих препаратов находится под запретом, а вот о продаже этих лекарств не знаю.
Прогон пишет вор или положенец, его составляют скрупулезно и продуманно, так как он должен быть простым и понятным для всех, а это, уверяю, сделать не так-то просто. Слишком хорошо надо знать воровскую жизнь, и в частности тюремную, чтобы грамотно написать прогон. Обычно администрация, либо кум (оперуполномоченный), либо Хозяин (начальник) постоянно общаются или с ворами, или с положенцами. Они-то лучше, чем кто-либо, знают, кто в тюрьме настоящий хозяин, и во избежание всякого рода эксцессов идут на вынужденные уступки. Человеку непосвященному трудно понять, окажись он случайным свидетелем разговора кума или Хозяина с вором или положенцем, о чем идет речь. И идет натуральный торг (в хорошем смысле этого слова), каждый отстаивает свое, с неохотой идя на уступки и при всем этом соблюдая правила игры той стороны, к которой он относится. Что отстаивает администрация, нетрудно догадаться. Воры же и бродяги отстаивают общие блага для всех арестантов. И горе тому, кто покусится на общее, – его неминуемо ждет смерть. Хоть тюремные законы на работников милиции и им подобных, севших за что-либо, не распространяются, но тем не менее я наблюдал в некоторых тюрьмах, как они из своих камер посылали взгревы на общак. А почему? При поступлении в тюрьму они сидели вначале отдельно и приходили в себя, им, конечно, не хватало еды, курева и чая. И им не отказывали в этом, а по возможности посылали что они просили. Мы всегда старались помочь тому, кто в этом нуждается, а в данном случае расчет был прост. Времени для размышлений в тюрьме хватает, вот и они начинали потихоньку понимать, что воровские правила всегда справедливы и честны.
В тюрьме никогда не откажут в куреве – это неписаное правило, так что любой может всегда смело обратиться с такой просьбой, зная заранее, что отказа не будет, за исключением тех редких случаев, когда его нет. Чаем могут не всегда поделиться, это по ситуации, но в куреве не откажут никогда. Я имею в виду, естественно, личные запасы, что же касается общаков, то об этом будет отдельный рассказ.
Глава 4
Законы тюрьмы
В начале 1997 года я сидел в Бутырках, в камере 164а, которая находилась в корпусе под названием «аппендицит», и я смотрел за положением в этом корпусе. В то время в Бутырках находилось постоянно 10–12 воров: Дато Ташкентский, Коля Якутенок, Дато Какулия Тбилисский, Богдан Махачкалинский, Точа Мамаладзе – Боквер, Авто Сухумский, Гриша Серебряный (он в Бутырках и умер), Степа Мурманский, Гия Црипа, Славик Паки – Гудаутский, Туга Тбилисский (кстати, к нему в тюрьме и «подошли», ведь он был подельником Дато Какулии), Тимур Кутаисский – Мане. Бутырки – это целый мир, второй такой тюрьмы нет, это уж точно. Первый раз я попал сюда еще в октябре 1974 года, сидел я тогда на малом спецу. Через стенку, помню, сидел Монгол (ныне уже покойный), который к Япончику заходил. Кстати, Япончик тоже в то время сидел в Бутырках, только вором он еще не был. Так вот, на этот раз я заехал сюда в марте 1996-го, то есть спустя 22 года, и просидел до апреля 1998 года. Один раз меня вывозили в Матросскую Тишину, на тубанар, из-за «процесса», связанного с моей болезнью – туберкулезом, но через пять месяцев я вновь был здесь. Однажды я невольно подслушал спор между моими сокамерниками, они были еще молодыми, самому старшему из них было 30–35 лет.
На меня не обращали внимания, уже давно все привыкли видеть во мне представителя старых воровских традиций. Я всегда был рад, когда велись дискуссии тюремного толка, ведь они способствовали развитию в людях чувства справедливости, благо вели спор люди одного со мной круга. Так вот, вопрос стоял непростой: какую тюрьму можно назвать хорошей, если ее вообще можно так назвать? Соображений по этому поводу, конечно, было много, но к общему мнению мои сокамерники так и не пришли. Я сидел, устремив свой взгляд в никуда, вспоминая пройденные мною по тюрьмам этапы своей жизни. Уверен, что лет этак 15–20 назад такой вопрос никого бы из арестантов в тупик не поставил, но сейчас было другое время. Конечно, я рад тому, что сейчас люди не знают, что такое голод, и дай-то Бог, чтобы никогда не узнали. Мои сокамерники не спросили меня, что я об этом думаю, но я все равно счел нужным высказать свое мнение. Я сказал им, что хороша тюрьма тогда, когда в ней хлеба вдоволь. Тогда и с режимом все ладом, и движение, и положение на должном воровском уровне. Ни для кого не секрет, что спиртное, наркотики – в общем, то, что запрещено, в тюрьму доставляет кто-то из ее работников, но цена всегда одна и та же и никогда не бывает никаких торгов. А почему? И та, и другая сторона знают, что цены на любой запрещенный продукт устанавливаются ворами и никто не вправе заплатить больше, как бы ему ни хотелось получить желаемое, так как у одних большие возможности, у других они ограниченны, у одних много денег, у других – копейки. Справедливость должна быть во всем и для всех.
Когда я бывал на свободе, частенько в чьей-то беседе слышал такое выражение: он был в тюрьме или на зоне паханом. Конечно, это мог сказать только человек, не побывавший в неволе. Но я, как правило, вообще не вмешивался в разговор, потому что объяснять им это ни к чему, да, думаю, и не надо, могут понять неправильно. Нет и никогда не было ни в тюрьме, ни в лагере и вообще в преступном мире такого выражения. Изначально были и есть в преступном мире три категории, или масти: вор, мужик и фраер. Все остальное – фантазии, да и только. Мне приходилось вначале 70-х бывать на Севере, на Дальнем Востоке, в Сибири, в лагерях и на пересылках я встречал разную «шерсть лохматую»: и с ломом за поясом, и «раковых шеек», и «красных шапочек». Всегда и везде это была нечисть. Вполне возможно было, что слово «пахан» позаимствовано из уголовного прошлого, ведь одно время администрация тюрем практиковала подсаживание в камеры к малолеткам воспитателей.
Но на роль воспитателя брали обычно обиженных, из взрослых камер общего режима. Ничем хорошим, естественно, это не заканчивалось, так как малолетки еще ревностнее, чем некоторые взрослые, отстаивали чистоту Идеи, хотя толком понять законы они, конечно, были не в силах. Узнать же, что собой представляет тот или иной арестант, всегда было проще простого, ибо связь между тюрьмами не прекращается ни днем ни ночью. А узнав, кто такой воспитатель, его, мягко говоря, отправляли из камеры «в юбке». Крайне редко воспитатели приживались, но это были, как правило, люди интеллигентные, да и в годах. Естественно, о них ничего плохого услышать не могли, а почтенный возраст и хорошее воспитание почти всегда внушали уважение, к ним и малолетки относились доброжелательно.
Камера – это тюрьма в миниатюре, и в ней, так же как иво всей тюрьме, есть человек, который смотрит за порядком и за все отвечает: либо перед положенцем, либо перед вором. В тюрьме все взаимосвязано и ничто не остается без внимания. Хочу также заметить, что порядочному человеку тюрьмы не следует бояться. Что касается людей из преступного мира, то они уже сделали свой выбор и знают сами, к какой касте этого мира принадлежат, и никто другой, я уверен, не станет их перевоспитывать. Я же хочу дать совет людям, впервые попавшим в тюрьму. После карантина вы попадаете в камеру. Если в камере много каторжан, то есть людей, уважающих законы тюрьмы, то вам заварят чифир, это традиция в тюрьме, затем покажут свободное место. Не будьте скованны, раскрепоститесь и помните – вы попали в воровской дом. Здесь не терпят лжи, высокомерия, бахвальства, лицемерия и прочего. Будьте же самими собой и в общих чертах расскажите о причинах вашего пребывания здесь. При этом сразу поинтересуйтесь правилами поведения в камере, то есть тюремными правилами «хорошего тона». Этим вы расположите к себе сокамерников, так как скромность и простота, свойственная бродягам, приветствуется в тюрьме. Не стесняйтесь спросить о том, чего вы не знаете или в чем-то сомневаетесь. Никогда никому не рассказывайте то, из-за чего впоследствии можете пострадать. А если видите, что кто-то слишком любопытен, опасайтесь его, но виду не подавайте. Очень трудно в тюрьме доказать суке, что он сука, а вот самому пострадать можно, и даже очень серьезно. Если у вас возник какой-либо конфликт с кем-то из сокамерников и вам либо предложили, либо самому взбрело в голову покинуть камеру, не делайте этого ни в коем случае. Человек, покинувший камеру, считается, мягко говоря, непорядочным, на него смотрят косо, с недоверием, и он уже никогда не сможет пользоваться уважением ни в лагере, ни в тюрьме. Что бы ни случилось, запомните: в тюрьме все можно разрешить мирно, путем диалога, без всякого рукоприкладства. А для этого обращайтесь всегда к людям, которым доверено смотреть за порядком, либо непосредственно к вору. Никогда не пускайте в ход кулаки, каким бы правым вы себя ни чувствовали, из-за рукоприкладства люди отвернутся от вас. Драка не только в тюрьме, но и во всем преступном мире не поощряется, а драчуны всегда строго наказываются, а иногда и очень жестоко. Думаю, что в общих чертах я смог рассказать читателю, что такое тюрьма. Что же касается деталей и подробностей тюремной жизни, то с ними вы можете познакомиться в дальнейшем, на страницах моей книги.
Я написал о тюрьме в самых общих чертах, но не коснулся одного из главных составляющих могучего механизма подавления человека – малолетки.
Без малолетки не может быть полного представления о тюрьме. Это совершенно обособленный мир, со своими законами. С общими законами тюрьмы они расходятся и лишь в каких-то деталях соприкасаются.
Перед новичком при входе в камеру стелили полотенце. Если вновь прибывший поднимал его, значит, сам он уже, пока не освободится, подняться не сможет, так как он не знает законов преступного мира. Всем было ясно: он не рос на улице, не воровал, не беспризорничал и сюда попал по чистой случайности. Если бы он жил, как мы, на улице, то, естественно, знал бы, как зайти в камеру. Вот такая простая логика определяла наше сознание. И как я писал ранее, мы жили на улице обособленно, потому что общество почему-то считало нас изгоями. Вероятно, из-за наших близких, которые сидели в тюрьме. Вот мы и мстили как могли этому обществу за пренебрежение к нам, ведь детям из благополучных семей даже играть с нами было запрещено. Если же новичок вытирал об это полотенце ноги, то его принимали как своего, тем не менее задавали некоторые вопросы, чтобы убедиться в этом наверняка. Иногда попадались новички, которых мы знали раньше. Город в то время был маленький, и те, кто рос на улице, почти все друг друга знали. Да и место сбора у всех нас было одно – биржа. Что же касается правил поведения в малолетке, то здесь подросткам трудно было отказать в изобретательности. Нельзя было курить «Приму», потому что пачка была красной. Вообще все красное выбрасывалось в парашу. Тот, кто хотел справить нужду, должен был об этом громко оповестить – все продукты тут же убирались. Если же недоглядели и что-то не спрятали, то все летело в парашу, а того, по чьей вине это произошло, наказывали. Спускаясь с нар, ты не должен был дотронуться голой подошвой пола, без носка, за это тоже наказывали. В общем, правила были очень строгими и, конечно, абсурдными, но их выполняли все без исключения. В то время с питанием было тяжковато, тюремная баланда, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Да и с куревом было тяжело. В основном курили табак и махорку. Сигареты можно было купить лишь в ларьке, один раз в месяц, на 10 рублей, если, конечно, на лицевом счету у тебя были деньги. Передачу разрешали один раз в месяц – пять килограммов, сигареты заставляли рвать. Тем не менее, получив передачу, мы тут же делили все пополам и отправляли половину на спец, ибо знали, как там тяжело. Мы понимали чужую боль и горе, хоть и сами были еще детьми, да и находились почти в равных условиях. Улица с детства учила нас взаимовыручке, мы учились понимать чужое горе и всегда по мере возможности старались его смягчить. Вот пишу эти строки и вдруг вспомнил один инцидент, который произошел на Владимирском централе. Это было в апреле 1998 года, мы шли этапом из Бутырок в туберкулезную зону в город Киржач Владимирской области.
Владимирская тюрьма промежуточная. Но есть и вторая – крытая, она рядом, отсюда идет распределение. Нас временно посадили в транзит, как и положено. Надо отдать дань справедливости администрации тюрьмы, я уже не помню, чтобы так кормили чахоточных, тем более в транзитной камере. Так вот, этажом выше сидели малолетки. Как только нам дали обед, они в кабур в потолке начали лить воду, пока мы им не послали ножки от курицы, которую давали нам на обед, привязав их за нитку, которую они спускали сверху (кабур – это дырка либо сделанная в стене, либо в потолке, чтобы делиться табаком, чаем, передавать всякого рода корреспонденцию – в общем, промежуточный этап сложной тюремной дороги). Если по каким-либо причинам малолетки не получали желаемого, они сверху заливали туберкулезников водой. Со мной этапом шли люди, которые тоже немало испытали и много насмотрелись за свою арестантскую жизнь, но такого ни я, ни они никогда не видели. Слушать нас они отказывались, мало того, еще и оскорбляли, а сказать администрации мы, конечно, не могли. Пришлось применить смекалку, чтобы прекратить это безобразие, но в душе остался отвратительный осадок. Я не социолог и не берусь определить, почему в плане морали, нравственности и доброты дети послевоенного периода резко отличались от нынешнего поколения. Но мне кажется, главная причина в воспитании, а не в самой жизни, даже если она очень тяжелая. А воспитание детей почему-то принято у нас ставить на второй план. Сразу после войны жизнь была намного хуже во всех отношениях: ведь почти везде жили впроголодь, почти в каждой семье было свое горе, почти половина безотцовщина. Как трудно было матерям одним тянуть семью, вот потому и детей воспитывали так, чтобы они с раннего детства понимали тяготы жизни взрослых. Любая мелочь тогда имела значение и никакие серьезные проступки родители своим детям не прощали. Глядя на то, как сейчас живет и что творит молодежь, я сравниваю их с нами, и сравнение это далеко не в пользу нынешних юнцов. Наркомания, пьянство, разврат, какая-то непонятная тяга к оружию! Что это? Необходимые атрибуты жизни нынешней молодежи? Нет! Это в первую очередь отсутствие должного воспитания, отсюда и все их ужасные поступки, за которыми неизменно следует тюрьма. Если мы в свое время росли на улице и у нас не было в достатке ни еды, ни одежды, не говоря уже об игрушках, и поэтому нас считали кандидатами в тюрьмы, то нынешнее поколение, ни в чем не нуждаясь и даже имея излишки, само лезет в тюрьму Я специально привел пример с нынешними малолетками и описал некоторые стороны тюремной жизни, чтобы молодежь знала, что их ждет в тюрьме, если они будут иметь несчастье там оказаться. Тюрьма – это абсолютно другой мир, отличающийся от всего того, что они видели ранее. Здесь выживают немногие, по большому счету, остаются жить единицы, если можно назвать жизнь в клетке жизнью, даже если клетка золотая. Пусть горькие истории, которые читатель прочтет на страницах этой книги, послужат уроком для многих молодых людей и их родителей.
А теперь мне бы хотелось вернуться назад, в свое отрочество. Естественно, как уже читатель мог догадаться, принят я был в камере как и положено. Некоторых я знал по свободе, а главное – они знали меня. Думаю, не стоит описывать, что мы тогда вытворяли. Ни карцер, ни «рубашки», ни побои нас не останавливали. Уже тогда я стал понимать, какая большая сила – коллектив. Возможно, ни один из нас не сделал бы то, что мы вытворяли вместе, правда, и страдали вместе. Так почти незаметно пролетело три месяца, и я впервые предстал перед судом. Дали мне тогда три года, а через месяц я уже шел по этапу, тоже впервые в своей жизни, и это я забыть не могу. Все, что я тогда познавал, было впервые, а было мне тогда неполных 15 лет. Но я считал себя уже взрослым и не пугался предстоящих испытаний, знал, что они будут, был готов к ним.
Глава 5
Воспитание малолеток
Дождь, туман, слякоть – такой непогодой встретила нас одна из ТКН (трудовая колония несовершеннолетних) Краснодарского края, раскинувшаяся в живописном уголке, вдоль реки Белой, у подножия огромного лесистого холма. По приезде нас посадили в карантин и, не дав даже отдохнуть, целый день по очереди вызывали в администрацию. Лишь к вечеру оставили в покое. Уставшие, мы тут же заснули, даже не разобрав толком постельные принадлежности.
Целую неделю мы находились в карантине, и за это время, наверное, не осталось ни одного сотрудника колонии, к кому бы нас не приводили, начиная от начальника и кончая старшиной по хозчасти. Процедура эта была мне почти знакома, поэтому особенно удивляться не приходилось. Все кабинеты находились рядом с вахтой, так же как и карантинное отделение, поэтому лагерь мы не видели, а вот когда нас повели в баню, то пришлось идти через всю зону. И вот здесь-то было чему удивляться. Я нигде не видел ничего подобного, даже в кино. Всюду царила идеальная чистота и порядок, нигде не видно ни клочка бумаги, ни окурка. Шеренга из 50–60 человек, маршируя, выбивала мощную дробь, на лицах подростков было такое выражение, что, казалось, еще немного – и они пойдут в атаку и их никто не остановит. Мы по-своему были поражены, ведь здесь нам придется отбывать срок. Впрочем, слово «мы» требует оговорки, так как, кроме меня и Совы, никто особо ни на что не обращал внимания: либо остальным малолеткам все было безразлично, либо у них была своя позиция на этот счет. Что же касается Совы, то это был, есть и, дай Бог, чтобы еще долго был, мой друг Саша Савкин. Познакомились мы в дороге и даже успели подраться в армавирской тюрьме. Выехав из Махачкалы, мы заезжали по дороге в армавирскую и краснодарскую тюрьмы, в результате в дороге были почти месяц. По тем временам собрался большой этап – 47 человек. И за это время Санек был единственный человек, с кем я сдружился, и, как показало время, всю жизнь был верен нашей дружбе. Никогда и нигде он не предал и не бросил меня, так же как и еще двое наших друзей, но об этом чуть позже, а пока…
После некоторых наблюдений мы стали убеждаться в том, что нас ждут не только большие испытания, но и кое-что похуже. Но мы были готовы ко всему и потому находились постоянно настороже, даже спали по очереди, и, как показало время, наши опасения были не напрасны.
Но прежде чем продолжить свое повествование, мне бы хотелось коротко описать лагерь для малолетних заключенных. В то время в Советском Союзе все лагеря для малолеток были одинаковыми. Режим содержания, правила внутреннего распорядка, численность и состав актива делали их удивительно похожими. В лагере было четыре-пять отрядов, каждый делился на три отделения, по 50–60 человек в каждом. Отделения, в свою очередь, делились на звенья по 8-10 мальцов. Главой всего актива был бугор (председатель), затем шел секретарь, его помощник, ну и далее по иерархической сучьей лестнице – в общем, треть отделения был актив. То же самое было в масштабе отряда и всего лагеря в целом. Тех, кто не был в активе, называли рядовыми и рабами – в зависимости от того, какой статус им определит актив после прописки. Но в активе они не состояли не потому, что у них не было способностей для тех действий, которые были нужны начальникам колонии. Тех немногих, кому претил образ жизни активиста, с самого прихода этапа в зону подвергали такому психологическому и физическому воздействию, что выдержать все эти издевательства и пытки мог далеко не каждый. Выдержать – это значило и в актив не вступить, и не допустить, чтобы тебя опустили.
В колонии была еще одна категория – это блатные, но их было немного. Они никому не подчинялись, никого не слушали, довольно часто дрались, и актив их боялся, поэтому они постоянно сидели в ДИЗО (дисциплинарный изолятор). Но ни блатные и никто вообще не могли бы помешать активистам вести свою пропаганду. Видно, нужно было, чтобы в колонии были и пастухи, и овцы, и волки. В общем, лагерь являлся вотчиной актива, а точнее, бугров, так как всем заправляли именно они. Администрация была просто сторонним наблюдателем всего того бесчинства и беспредела, который творили эти «юные стражи режима содержания». Процедура приема вновь прибывших, или, говоря лагерным языком, прописка, была следующей: после недельного пребывания в карантине пацана вызывали на так называемый совет, во главе которого восседал бугор зоны и все бугры отрядов и отделений. Заседал сей совет либо в кабинете начальника отряда, либо в кабинете воспитателя, либо вообще в сушилке – в общем, в большом помещении, чтобы было где поместиться этой своре шакалов. И вот заводят вновь прибывшего, при этом сесть негде, поневоле приходится стоять, минуты две-три царит зловещая тишина. Это входит в процедуру прописки. При всем при том кто стоит перед ними, они приблизительно знают, так как наблюдали за новичками в карантине. При этом, естественно, сами наблюдатели оставались незамеченными, это даже как бы вменялось им в обязанность. Ну а в случае надобности администрация предоставляла буграм любое личное дело осужденного.
Так вот, после длительного молчания раздается вопрос: «Вор или баклан?» При этом кто-то как бы невзначай подсказывает, что есть альтернатива. То есть если ты назовешь себя воспитанником, то беспрепятственно пойдешь в зону и тебя никто не тронет. Если же скажешь «вор» или «баклан», то бьют до тех пор, пока не переменишь свое мнение и не скажешь «воспитанник». Пацаны, еще не искушенные, если сидели за воровство, обычно говорили – вор, за хулиганство – баклан. Ну а если кто-то не хотел называться воспитанником, то его после этой процедуры отправляли не в зону, а в санчасть. Можете себе представить, как 10–12 разъяренных молодых тиранов топчут тебя ногами, бьют поленьями, ломают о тебя табуретки и… не могут добиться ни одного слова. Откуда у этих юнцов такая жестокость, бесчеловечность, лютая жажда чужой крови? Где и когда эти активисты могли увидеть столько несправедливости, чтобы их сердца так ожесточились? Они были простыми марионетками хорошо отлаженной системы порабощения ГУЛАГа, которая, начиная с четырнадцатилетних пацанов и кончая особо опасными рецидивистами, давила, топтала, душила человека. Мало того, официально вся эта «красная» свора считалась «лицами, ставшими на путь исправления». Ниже я постараюсь рассказать читателю, приоткрыв завесу многолетнего запрета, что вытворяли эти так называемые исправленные.
Территория лагеря напоминала большой плац. Вскоре после подъема и до отбоя на нем маршировали малолетки, и не просто маршировали, а еще и с песнями. Подметки от сапог или ботинок в буквальном смысле отлетали, пацаны падали в изнеможении от трех-четырехчасовой пытки без отдыха, но это никого не интересовало. Для тех, кто командовал, те, кто маршировал, были рабами. Одному запрещалось не только ходить, но и стоять, это считалось строгим нарушением режима, везде только строем – в составе либо отделения, либо звена. Если где-то на территории, отведенной определенному отделению, находили окурок, его всем отделением шли хоронить. Думаю, такой идиотизм мог прийти в голову только дегенерату. Приносили носилки, в них насыпали землю, а посередине клали найденный окурок. Затем траурное шествие, оглашаемое разного рода дурными возгласами всего отделения, сопровождало четверых, несших носилки-гроб к месту захоронения, где несколько человек рыли яму-могилу. Если кто-то из рабов смел огрызнуться на бугра, то его, бедолагу, загоняли в общественный туалет и, избив ногами (поднимать руку в туалете на раба они считали ниже своего достоинства), заставляли чистить сортир до блеска, проверяя затем работу белой тряпкой. Если же недовольство проявляло несколько человек, то все отделение загоняли в спальню, под нары. В помещении было два ряда двухъярусных шконок, через каждые две шконки был проход, так вот в каждый из этих проходов становился активист, либо с сапогом в руке, либо с поленом или, просто отжимаясь от верхних нар, прыгал вниз, а под нарами, как метеоры, проползали все пацаны отделения, стараясь, чтобы ни один из предметов в них не попал. Весь этот кордебалет бедолаги должны были сопровождать песней, а отдохнуть они могли в том случае, если песня нравилась бугру. Сам же он ходил вдоль спальни, между двумя рядами шконок, и отдавал команды своим активистам, чтобы те как следует наказали ослушавшихся. После таких процедур тела у мальцов были синие от побоев, но опять-таки это никого не волновало, а жаловаться было некому Эти процедуры, видимо, входили в программу перевоспитания подростков, иначе, думаю, на них бы обратили внимание. Сами же пацаны сделать ничего не могли, ибо против них была целая система. Они глотали гвозди, крючки от шконок, ломали себе руки, ноги, вешались (были случаи и с летальным исходом), но все было без толку. В джунглях во время засухи ни один зверь не тронет слабого – таков закон джунглей. Эти же подонки умудрялись попирать даже законы природы. Уставшие и измученные после нескольких часов муштры либо ползанья под нарами, пацаны приходили в столовую, и им казалось, что уж здесь-то можно будет перевести дух и поесть спокойно, но это только казалось. Представьте себе огромную столовую: шесть, а то и больше рядов столов, по 12–15 метров в длину, рассчитанных на 300–400 человек. Подходят отделения по одному и так же, не сбивая шага, справа по одному входят в столовую, и каждый продолжает маршировать возле своего стула. После того как все отделение уже в столовой, звучит команда бугра сесть. Казалось бы, обед или ужин должен сопровождаться оживленными разговорами, но над столами стоит мертвая тишина. Даже попросить соль, подвинуть хлеб или еще что-то можно жестом. Малейший шорох, и бугор, сидящий во главе стола, командует провинившемуся: сесть, встать – и так по двадцать-тридцать раз кряду. Сам же он при этом спокойно ест со своими приспешниками, а закончив, командует: всем встать, выходить, строиться. И надо было видеть, как эти бедолаги, рассовывая в спешке по карманам хлеб, пулей выскакивали на улицу, голодные и измученные.
У некоторых бугров в отделениях были свои гаремы. Некоторые, не привыкшие к трудностям, голоду и лишениям, доведенные до отчаяния, вступали в половую связь с буграми, чтобы на правах «жены» пользоваться соответственными привилегиями. И здесь была хорошо продуманная, изощренная методика: из числа рабов бугры выбирали 14-15-летних симпатичных пацанов и доводили их до состояния, близкого к помешательству или самоубийству, а затем предлагали альтернативу И как ни печально, многие соглашались, возможно даже до конца и не осознавая, что ставят крест на всей оставшейся жизни. Думаю, излишне писать о том, что администрация закрывала глаза на бесчинства, беспредел, разврат и всякого рода изощренные методы, которые применял актив по отношению к основному контингенту осужденных. По закону, в колонии малолеток эти «исправленные» могли находиться до 24 лет. И все они почти были такого возраста. Назад для них дороги не было, свой Рубикон они перешли, когда делали выбор. Возможно, что и они в достаточной мере понимали, что ничего хорошего от жизни им уже не дождаться. По истечении 18 лет малолеток отправляли во взрослую колонию, и если случайно проштрафившийся бугор попадал туда, то в лагерь вслед за ним приезжала и «она», пополнив уже взрослый лагерный гарем, и это было только начало. По освобождении особо отъявленных негодяев администрация сопровождала домой, ибо их уже ждали возле зоны и мало кому удавалось уйти от наказания, если не вмешивались власти. Если же они добирались до своих мест, то им приходилось жить тише воды ниже травы, они знали, что их ждет при новой судимости. Почти все они на свободе становились внештатными работниками милиции.
Но тем, кто думает, что так было прежде, а сейчас все по-другому, советую не обольщаться. Я достаточно хорошо информирован не только о том, что делается на особом и крытом режимах, но и знаю, каково сейчас на малолетке. А там сейчас еще хуже, чем было, ибо ко всем прочим бедам прибавился голод. Поэтому я и хочу предостеречь молодое поколение от неверных и опрометчивых поступков, которые могут привести в тюрьму. И уверяю вас, молодежь, не стоит переоценивать свои силы и недооценивать каверзы, которые может уготовить вам жизнь.
Часть II
Все еще малолетка
Хайям
- Хоть мудрец не скупец и не копит добра,
- Плохо в мире и мудрому без серебра.
- Под забором фиалка от нищенства никнет,
- А богатая роза красна и щедра!
Глава 1
Жажда мести
Очнулись мы с Совой на вторые сутки в вольной больнице. Врач предупредил, что у меня строгий постельный режим, лежать я могу только на спине и не разговаривать. У меня был перебит нос, тяжелое сотрясение мозга, два ребра и ключица сломаны. Санек лежал рядом, я видел его боковым зрением, но повернуть голову не мог. Мы и на больничных койках были рядом, и это не могло не радовать, если вообще уместно это слово при данных обстоятельствах. У него тоже было тяжелое сотрясение мозга. Помимо ребра ему умудрились переломать все пальцы на левой руке (этой рукой он ударил бугра зоны), в семи местах была сломана челюсть. 42 дня мы пролежали в этой больнице. Сразу после того как мы очнулись, пришел Хозяин, а с ним и следователь. Около часа следователь нам что-то говорил, хотя знал, что разговаривать мы не можем. Хозяин в чем-то оправдывался, ругая всех и вся, всего и не припомнишь, прошло много времени. Последнее, что я услышал, – это слова следователя, обращенные к Хозяину: «На этот раз они перестарались и придется возбуждать уголовное дело». Что ответил Хозяин, я уже не слышал, от напряжения голова гудела. Позже мы узнали, что и прежде здесь бывали такие случаи. Часто при прописке либо при других обстоятельствах бугры так усердствовали, что людей помещали в больницу. А при поступлении пострадавшего в травмопункт больница обязана сообщать в милицию. Обычно в таких случаях приезжает следователь и видит: лежит пострадавший, а рядом сидит конвой, который обязан сопровождать малолеток всюду, кроме как в морг, и кто-то из дежурных офицеров. Следователь беседует с офицером, и в конце концов все сводится к тому, что либо больной – членовредитель, либо травмы получены в обоюдной драке. В любом случае все сглаживается, ведь ворон ворону глаз не выклюет. Но на этот раз, видно, следователь испугался взять на себя ответственность. Во-первых, нас было двое, случай неординарный – он это сразу понял, у них нюх на это собачий, да и травмы были очень серьезные. И тогда, перестраховавшись, следователь сообщил родителям по месту жительства, чтобы они прибыли к нам в больницу, поскольку мы были несовершеннолетними.
Об этом нам сказала нянечка, которая ухаживала за нами, она случайно подслушала разговор легавых. Через неделю приехала моя мама с отцом, к Саньку никто не мог приехать, у него в деревне под Ленинградом остались бабушка и две сестренки мал мала меньше, родители его погибли. В общем, мать моя ухаживала за нами обоими, а как же могло быть иначе, даже Саньку она уделяла внимания больше, я понимал все и был ей за это благодарен. Кто его знает, что приключилось бы с нами, если бы не мать, да к тому же она ведь была врачом, да не просто врачом, а военврачом, а это большая разница, не в обиду будет сказано медикам, не побывавшим на войне.
Каким-то образом отец узнал все, что с нами произошло.
Долго он оставаться не мог из-за работы, перед отъездом сказал нам: «Ни следователю, ни черту, ни дьяволу никаких показаний не давайте. Сможете, отомстите сами, либо в лагере, либо на свободе. Пожаловаться вы не можете, иначе сами себе и друг другу будете противны. И хотя отец мой был работягой, то есть по лагерной жизни мужиком, но законы воровские он знал не понаслышке. Я ему во всем доверял, также и друг мой следовал советам моего отца и никогда не пожалел об этом. После сорокадвухдневного пребывания в вольной больнице нас поместили в лагерную санчасть. Мама моя сделала для нас все, что могла, поплакала немного и, простившись с нами у ворот лагеря, поехала домой. Чувствовали мы себя, конечно, еще неважно, но терпимо. Сильный удар может на время оглушить, но всем известно, что после этого кровь начинает веселей бежать по жилам. Прошло еще немного времени, и все шрамы и синяки зажили, но как память о первом крещении с сучней у меня на всю жизнь остался переломанный нос. Администрация и актив сумели оценить наше достойное поведение со следственными органами, если такое выражение здесь уместно. Никто нас не трогал, мы делали все, что считали нужным, но в рамках допустимого, то есть особо не перегибали. Правда, пару раз по десять суток нам пришлось отсидеть в изоляторе, но здесь, скорей, было больше нашей вины, а вина заключалась в том, что мы заступились за тех, кто, по сути, того не заслуживал. Они оказались бесчестными подонками и впоследствии из-за своей трусости стали свидетелями у нас на суде. Но разве знаешь, где найдешь, где потеряешь, да еще в этом возрасте. А пока мы зализывали раны и ждали удобного момента взять реванш. Но при всем нашем желании отомстить обидчикам мы бы не смогли, и потому мы выбрали бугра зоны – Чижа. У нас была еще одна причина отомстить Чижу – именно он сломал Саньку пальцы. Пальцы у Санька почти не сжимались. И каждый раз, когда он хотел сжать кулак левой руки, вспоминал эту падаль благим матом. Но хотеть – одно, а сделать – это другое. Мы горели жаждой мести, но у нас не было опыта, ведь мы были пацанами. Из поля зрения нас не выпускали, но и не препятствовали никаким нашим выходкам, даже, наоборот, как бы провоцировали на активные действия. Но мы были постоянно настороже. Как мы узнали позже, на суде, они хотели нас спровоцировать на какую-нибудь выходку. Но они уж никак не ожидали, что она будет такой безумной, правда, с точки зрения этих ничтожеств, она была безумной, а не с точки зрения нормальных людей. Письма с жалобами на администрацию, которые малолетки по наивности опускали в почтовый ящик, естественно, до адресата не доходили, их просто не отправляли. Поэтому, когда родители приезжали на свидание к своим сыновьям, а свидание было положено два часа и всего один раз в четыре месяца, то вместо обычных приветствий и разговоров пацаны старались успеть рассказать об ужасном беспределе, происходящем в лагере, и в качестве примера приводили наш с Сашей случай. Затем, видно, кто-то из родителей добился приема у больших начальников в Москве, потому что из столицы должна была прибыть комиссия, ее ждали, и весь лагерь готовился к встрече с ней, кроме нас, наверное. Администрация прекрасно понимала, что мы тут абсолютно ни при чем, но им все же нужно было что-то предпринять, вот они и решили одним выстрелом убить двух зайцев. И очернить нас, как ярых нарушителей режима, и в то же время избавиться от нас. Потому нас не трогали, а, наоборот, ждали от нас решительных действий – и таковые не заставили себя долго ждать. Всегда неприятно вспоминать неудавшийся побег, а тем более неудавшееся покушение. Но что было, то было. Итак, мы приняли решение – убить этого гада. Никто, конечно, не знал о наших планах, но, возможно, о чем-то догадывались, потому и старались не выпускать нас из поля зрения. И все же они проглядели.
Любовник больше думает о том, как бы пробраться к возлюбленной, чем муж о том, как уберечь жену. Узник больше думает о побеге, чем тюремщик о запорах. Следовательно, по логике вещей, любовник и узник должны преуспеть.
Во-первых, нам нужно было достать оружие, и мы нашли его. Два хорошо отточенных стилета мы вынесли, а вернее, нам их вывезли. Но чего нам это стоило, читатель может только догадываться. Об этом и кое о чем еще все же стоит рассказать поподробнее. В жилой зоне всё и все были на виду, а тем более мы с Совой. Как я уже говорил, нас никто не трогал. Мы ходили где хотели, что хотели делали и всегда и везде были вдвоем – и, конечно, были засвечены в жилзоне. Другое дело промзона, там можно было затеряться, да и было где. В первую очередь мы достали, вернее, заказали два стилета, и нам их сделали. И что удивительно, сделал их один активист.
Еще когда нас привезли из больницы, к нам в санчасть стал наведываться один москвич. О том, что он в активе, он нам сразу сказал, да мы и сами об этом догадывались. Говорил, что ему стыдно за то, что носит повязку и состоит в этом «обществе», что сам был такой, как мы, но всегда один, да еще и из Москвы. По-человечески понять его было можно, да и, что касается москвичей, мы знали и видели сами, что их почему-то нигде не любят и при первой же возможности стараются опустить. Но он был в активе, и этим все сказано. Правда, вели мы себя с ним всегда корректно, глупо было пренебрегать пониманием и сочувствием этого человека, кстати, он был тезкой моему Саньку. Так вот, на промзоне единственный цех, где можно было быстро и без хлопот сделать хороший тесак, был цех, где работал этот самый Саша. Несколько дней мы кружили возле этого цеха, заходили к нему, как бы на правах старых знакомых, в гости. Но он был далеко не дурак, да и возрастом постарше нас, и понял сразу, что кружим мы возле него неспроста. Прямо, без обиняков он спросил, чем может быть нам полезен. Сама постановка вопроса нам понравилась, да и терять нам было особенно нечего, и мы так же прямо, без обиняков ему сказали. Перед лицом опасности человек ищет друзей повсюду и никем не пренебрегает. «Я сделаю все, что от меня зависит, и все, что в моих силах», – был его ответ. И он сделал два стилета, которыми не то что человека, а кабана можно было порешить запросто. Вот тогда я поверил, что он действительно очень одинок и ненавидит своих так называемых собратьев. В его лице можно было прочесть какую-то затаенную удовлетворенность. Мы его от души поблагодарили, так как платить нам было нечем, и сказали, чтобы держался от нас подальше, поскольку это может для него плохо кончиться. В свои планы мы его, естественно, не посвящали, да он и не интересовался. Но понял нас как надо, пожелал удачи, а она нам очень была нужна. Теперь оставался один из главных этапов нашего предприятия – пронести оружие в зону. И здесь нам пришлось немало поломать голову, но помог, как всегда, случай. О том, чтобы вынести оружие самим, нечего было и думать. Даже если можно бы было на кого-то положиться, мы бы не решились, так как все проходили обыск – как на разводе, так и на съеме – и можно было подставить малолетку, а такие поступки неприемлемы не только в лагере, но на воле. Но выход нашелся, и, как это обычно бывает, неожиданно. Со свободы транспорт заезжал только в промзону, за исключением хлебовозки, но точного расписания прибытия ее не было. Хлебовозка – это подвода с кучером-бесконвойником, который возил продукты из лагерного склада в столовую. Кучер был из Подмосковья. Санек решил узнать, откуда точно, чтобы на правах земляка войти к нему в доверие, запудрить ему мозги и тем самым дать мне возможность юркнуть под телегу и спрятать ножи. Разыграли мы все как по нотам, благо опыта нам было не занимать, вот только одно обстоятельство все же чуть не сорвало наше дело. Когда я, спрятав стилеты, отцепился от телеги, Санек еще оставался на ней, рядом с этим олухом, и что-то без остановки рассказывал, глядя ему в глаза. Обернуться, естественно, он не мог. Я уже стал отходить от телеги, как вдруг откуда ни возьмись ДПНК (дежурный помощник начальника колонии). О, это была бестия! Звали его Виктор Владимирович, по кличке Валет. Даже сами работники так его называли, – видно, из-за того, что совал свой нос куда не надо. Это был молодой, очень энергичный, довольно неглупый офицер, этакий капитан-служака. Естественно, такой тандем, как кучер-бесконвойник и ярый нарушитель Сова, его очень заинтересовал, и он взглядом стал искать меня, будучи уверенным, что я где-то рядом. Когда он увидел меня недалеко от подводы, то что-то заподозрил. Заметили капитана и на подводе. Санек спрыгнул, но телегу Валет все же остановил, а тут и я подошел. Бедный кучер, чего он только не пережил за эти 10–15 минут – Валет материл его, на его голову сыпались угрозы из-за того, что он связался с нами. Если бы Валет знал тогда, как был близок к истине! Но, к нашему счастью, чувством ясновидения он не был наделен, а потому приказал кучеру ехать дальше и ждать его в жилзоне. Мы же, натужно улыбаясь, ждали, что нам скажет сей страж порядка. Один Бог знает, чего нам стоила эта улыбка, от нервного напряжения вздулись на висках вены и стучало в голове. Странное дело, он не сказал нам ни слова, но посмотрел на каждого сверлящим взглядом. И видно, не найдя ничего подозрительного, махнул рукой и пошел по своим делам. С трудом переведя дух, мы направились в сторону вахты и стали ждать съем. Когда Валет сказал кучеру: «Жди меня в жилзоне», нам сразу стало ясно, что он что-то заподозрил и решил на всякий случай обыскать телегу. Все дело было в том, что приди он хоть на полчаса раньше съема, и все бы пропало, хоть я и спрятал, как мне показалось, ножи надежно. Но при тщательном обыске найти их не составило бы труда, мы это прекрасно понимали, а потому смотрели на вахту с нескрываемым волнением и нетерпением. Но съем не объявляли, не было и Валета, и это нас как-то успокаивало, так как без ДПНК съем делать не будут. В этот день, впрочем как и в эту же ночь, нам везло. ДПНК пришел как раз тогда, когда объявили съем, даже немного опоздал, а это означало, что отлучиться он уже не сможет. Мы проходили в зону так, будто у обоих были вывернуты шеи влево, это чтобы он на нас не обратил внимания, а пройдя шмон (обыск), тут же бросились в сторону столовой. Телега стояла там же, где и всегда, уже пустая, и рядом никого не было. Забрать из-под нее стилеты было делом нескольких секунд, я сунул их за пазуху, и мы направились в отряд. Мы были у всех на виду, поэтому не могли поделить оружие, просто негде это было сделать. Все же, зайдя в туалет, я умудрился сунуть один нож Саньку, и никто этого не заметил, да в тот момент замечать-то было некому, все спешили на построение в столовую. В общем, мы были при оружии и решили при благоприятном раскладе порешить гада этой же ночью. Говорят, ждать и догонять – самые неприятные ощущения в жизни, насчет догонять – не знаю, а вот насчет ждать – точно сказано. Я прочувствовал это ночью до наступления следующего утра. Мы еле дождались отбоя, но каких нервов нам это стоило! И опять долгие часы ожидания – но уже в спальне, под одеялом, во всем обмундировании, сжимая до боли в руках рукоятки стилетов. Время тянулось невыносимо медленно. Но всему на свете бывает конец, если, конечно, доживешь до него.
Был июль, рассветало рано, где-то в пятом часу. Мы решили прямо перед рассветом быть наготове. Время было выбрано не случайно: по воровскому опыту, хоть и малому еще, мы знали, что красть хорошо под утро, когда у людей самый сладкий и крепкий сон, а значит, и убивать в это время тоже сподручней. Вот такая простая логика предопределила наши дальнейшие действия.
Глава 2
Покушение на Чижа
Как только забрезжил рассвет, мы осторожно спустились под нары и, зажав в руках оружие, поползли в сторону окна, где лежал этот мерзавец. Проход между его шконкой и окном оказался большой, было где развернуться, и мы решили: я буду бить в сердце, а Санек – в живот. В любом случае мы решили не оставлять ему шансов выжить. Мы ползли бесшумно, лишь пот, стекавший со лба, заливал глаза, и это мешало скользить по полу, натертому мастикой и отполированному телами бедолаг, за которых мы также должны были отомстить. Наконец появился долгожданный проход. Мы выскочили из-под нар одновременно, одновременно занесли ножи, но при замахе я опрокинул бидон с молоком, который этому жлобу приносили каждый вечер. Сон у этой твари, видно, был колымский, потому что стоило мне на долю секунды замешкаться, как он схватил меня за руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы схватить мясо. Но зато Санек не замешкался, он дважды всадил нож в брюхо этому кабану. Надо было слышать и видеть, как этот гад, всегда надменный по отношению к пацанам, визжал как свинья и звал на помощь. Я же вырвал свою руку и почувствовал, как стилет что-то задел, – оказалось, что я порезал рыло этому кабану, оставив воровскую отметину до конца его дней. К счастью, и жить ему оставалось не очень долго.
Мы хотели выпрыгнуть в окно, но в него уже влезал дежурный наряд, а по проходу, как целая свора псов, бежал актив. В общем, были мы в западне, и через некоторое время нам пришлось сдаться. Много лет прошло с тех пор, а я иногда вспоминаю события этой ночи и не могу себе простить, как я мог тогда так опростоволоситься. Но все же возраст, в котором мы тогда пребывали, и наша неопытность смягчают угрызения моей совести. Хотя, вдумавшись, упрекнуть мне себя, по большому счету, не в чем.
Почти месяц мы просидели в карцере поодиночке, но зато через стенку, и это сглаживало наше унылое одиночество. Нас никуда не вызывали, но зато посещали на дню по пять-семь раз даже те из работников, которых мы и в глаза не видели. И странное дело, все без исключения обращались к нам с уважением, разговаривали как со взрослыми, и этого нельзя было не почувствовать. Даже надзиратели изолятора открывали нам с Саньком кормушки (форточка в двери для подачи пищи), чтобы мы могли спокойно разговаривать, когда не было начальства. Много, конечно, мы передумали за это время и много чего открыли для себя нового.
Всего несколько месяцев назад мы прибыли в этот лагерь. Никого не зная, мы никому не сделали ничего плохого, даже не успели еще нарушить режим, да и лагерь-то толком еще не повидали. А нам в буквальном смысле переломали кости, надолго уложили на больничную койку лишь только за то, что мы не хотели отказаться от своего мнения, при этом никому ничего своего не навязывали. А что сейчас? Мы не то что нарушили режим, а совершили самое что ни на есть дерзкое и тяжкое преступление, да еще по отношению к работнику колонии. Ведь нам сказали, что нападение и телесные повреждения этой падали будут рассматриваться в суде как покушение на работника колонии. Что же теперь? После всего, что произошло, те, кто пренебрегал нами, относятся к нам с явным уважением, мало того, стараются сделать что-то хорошее, хоть и немного, но все же. В тех условиях и при тех обстоятельствах, в которых мы находились, любое участие было ощутимо. Те, кто истязал нас как стая шакалов, теперь боялись нас, хотя мы находились под надежными запорами.
Кстати, забегая вперед, скажу об интересной встрече. После суда, перед тем как нас отправили этапом, к нам в гости в изолятор пожаловал наш потерпевший Чижик. Надзиратель не хотел даже открывать кормушку, боялся. Но после долгих уговоров и обещаний с обеих сторон все же открыл. Мы хотели взглянуть напоследок на эту недорезанную тварь. И что же. Первое, что он сказал нам, так это изъявил благодарность в наш адрес. С вашей легкой руки, сообщил он, я инвалид второй группы, меня представили на УДО (условно-досрочное освобождение), и в то время, когда вы будете гнить на пересылках, я буду ехать в мягком вагоне домой. Пожелав нам счастливого пути, Чижик демонстративно покинул нашу обитель, саркастически улыбаясь. Можете себе представить, какой поток брани мы вылили вслед этому гаду, но его уже и след простыл. Как показало время, угадал он будущее только наполовину. Мы действительно гнили на пересылках, и не только на пересылках. А он уже лежал с двадцатью семью ножевыми ранами на берегу реки Сунжи. Позже мы узнали, что этой сволочи дали срок восемь лет – за изнасилование. На тот момент, когда мы подрезали его, он отсидел четыре. И вот в связи с ранениями на сучьей стезе его и освободили по УДО. Но как поется в песне: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал».
Я сказал, что нас никуда не вызывали, – это правда, но один раз все же вызвали, и не обоих, а меня одного. Я ожидал всего, но только не того, что увидел. В кабинете Хозяина сидела моя мать. Но я ее не сразу узнал – она была в военной форме, при медалях и орденах, которую надевала лишь на День Победы. Как только меня завели в кабинет, Хозяин тут же вышел, оставив нас наедине. Несколько минут она только и делала, что обнимала и целовала меня, в ее объятиях я забыл обо всем на свете. Мать моя была действительно удивительным человеком, я всегда восхищался и гордился ею. Наконец она взяла себя в руки, и по ее лицу я понял, что она сейчас скажет что-то важное.
Закон обязывал, чтобы родители присутствовали на суде. И как тогда, когда мы попали в больницу, опять послали запрос родителям, и вот уже несколько дней, как она находилась здесь. Мама мне рассказывала впоследствии, она еще по дороге подготовила для нас защитную речь, так как она знала, из-за чего мы пошли на преступление. Да и отец ей подсказал кое-что, сам же он приехать не захотел, я догадываюсь почему, хотя мы с ним никогда об этом не вспоминали. Важно, считала мама, что потерпевший остался жив, и это было единственное, в чем наши желания не совпадали. И вот Чижик был жив, она даже ходила к нему в больницу. Всех подробностей я не знаю, да и не помню, главное было то, что, узнав все, что с нами случилось, она потребовала изменения статей, а это в корне меняло обвинение. Как я уже писал, моя мама была весьма образованный человек. Всю войну провела на передовой на 1-м Украинском фронте – военврач, капитан запаса. Многих крупных военачальников она латала после ранений, да и немало спасла жизней простым бойцам. Я не только это знал из ее рассказов о войне, но и сам видел спасенных ею фронтовиков в нашем доме, даже в какой-то мере дивился их фронтовой дружбе. И конечно, то, что мать моя военврач, сыграло решающую роль в вынесении приговора. Да честно говоря, фронтовиков тогда чтили, они были в почете, их даже побаивались. В общем, два удара, нанесенные Саньком этой твари, мы поделили пополам, и суд вынес приговор: определить нам спецусиленный режим и на оставшийся срок отправить в соответственную колонию. Судьба уготовила нам Нерчинск. Возможно, тогда я не понял в достаточной мере того, что услышал. После вынесения приговора один из конвойных сказал моей матери: «Не знаю, может ли приговор быть еще суровей». Он знал, что говорил. Впоследствии я не раз вспоминал его слова, но тогда я даже и виду не подал, чтобы не расстраивать мать. После суда нас продержали еще 17 дней, но, правда, уже на общих основаниях, даже разрешили свидание с мамой. И вот, дав мне массу ценных советов и наставлений, она пошла к выходу, я видел и чувствовал, каких сил ей стоило держать себя в руках, ведь она хоть и приблизительно, но догадывалась, какие трудности меня ожидают. Как я был благодарен ей за ее мужество, как я гордился, что у меня такая мать.
Глава 3
Спецвоспитание
Выехав в начале октября 1962 года, мы почти восемь месяцев добирались до места назначения. В нерчинский лагерь мы прибыли где-то в середине июня 1963 года. За эти восемь месяцев, проделав такой путь, побывав в стольких тюрьмах, мы встретили немало интересных и хороших людей, ну и, естественно, усвоили полезное и нужное, необходимое для жизни в этих условиях. Встречали мы по дороге и воров, но, к сожалению, общались с ними мало. Но и то время, что мы провели вместе, дало нам очень много, так как после общения с ворами мы начали что-то понимать, в чем-то разбираться. Хочу также заметить, что за весь этот долгий путь мы не встретили ни одного малолетки, кто бы шел на спец. Забегая вперед, скажу, что в лагерь мы так вдвоем и приехали. Не надо забывать, что это было время ломок, подписок и сучьей войны, и двое пятнадцатилетних пацанов, пострадавших за общее дело, внушали уважение. Тем более вели мы себя скромно, как и подобает младшим. По всему этапу, растянувшемуся на восемь месяцев, будь то тюрьма или «Столыпин», нас везде встречали с теплотой и пониманием. Мы даже не всегда видели тех, кто с нами делился, возможно, последним, при этом сопровод был такой: «Пацанам, что идут на спец». Как было не гордиться таким вниманием и уважением. Хотя уже больше года, как появились различные режимы и в лагерях и некоторых тюрьмах стали сортировать по ним, в транзите пока сидели все вместе – и малолетки, и OOP (особо опасные рецидивисты), и это не могло не способствовать повышению уровня знаний, необходимых в столь суровых условиях. Когда же мы расстались с ворами, как я уже писал выше, мы стали совсем по-другому смотреть на мир. Мы уже точно знали, чего мы хотим и за что надо бороться. Правда, было еще много неясного, возникало много вопросов, но ответы на них мы получили значительно позже.
А пока нас встречал у вахты дежурный наряд во главе с ДПНК майором по кличке Циклоп, гигантом двухметрового роста. Как мы позже узнали, нужно было обязательно выдержать его взгляд, а это, замечу, было совсем не просто. Когда он, прищурив глаза, вперил в нас взор, то можно было подумать, что действительно на нас смотрит циклоп. Ощущение было не из приятных, но мы глаз не потупили. А это Циклопу могло не понравиться. Мы думали, что нашла коса на камень и дальше все будет по их «козьему» сценарию, но, к счастью, на этот раз мы ошиблись. Оказалось, что Циклоп был единственный мент в зоне, который относился к людям по-человечески и ни на кого не поднимал руки. Естественно, это касалось тех, кто заслуживал его уважение, говоря проще, он уважал мужчин, которых видел в пацанах. Сверив данные в деле, которое он держал в руках, с нашими ответами, он, удовлетворившись ими, приказал следовать за ним. Было темно, когда мы с вахты вошли в зону, поэтому, проходя по территории, мы не могли ничего разглядеть, да и разглядывать было нечего – несколько бараков и пристроек к ним. Почти непроглядная тьма и мертвая тишина оставляли неприятное ощущение, ну и навевали соответственные думы. Но мы забыли, что прибыли на спец, где все и вся находится под замком. Подтверждение тому мы получили, когда Циклоп открыл дверь, ведущую в барак. Там стоял такой шум, что с непривычки нам пришлось переспрашивать дежурного контролера, о чем он говорил, так как ничего не было слышно. Барак, куда мы вошли, представлял собой длинный ряд камер по обе стороны широкого коридора. Почти все камеры были открыты, а по проходу гуляли или сидели ребята. Когда мы вошли, то внимание, естественно, сразу было обращено к нам и потихоньку шум стих. Подойти к нам они не могли, потому что от двери до них было метров десять, но мы все же успели перекинуться парой-тройкой слов, пока нас не повели в камеру, которая была рядом с дежуркой. Это была обычная камера, предназначенная для карантина. Мы тут же начали искать в камере кабур на стене слева, так как справа находилась дежурка. Но кабура не было, да его и не могло быть там, где мы искали, потому что справа был проход. Конечно, это было сделано специально, чтобы мы не могли переговариваться с колонистами, до того как нас представят лагерной комиссии. Поняв, что искать нам нечего, мы прямо повалились на нары и заснули без задних ног.
Утром нас разбудил шум, это баландер стучал миской по кормушке, и, видно, долго уже стучал, потому что изо рта, такого же грязного, как и его экипировка, исходил какой-то непонятный рык. Санек поднялся первым, но не из-за шума, а от брани этого халдея в наш адрес, и запустил со всей силы в него ботинком. Баландер резко захлопнул кормушку, успев выкрикнуть: «Ну и подыхайте с голоду!» Да, такой прием заставил нас призадуматься. Приведя себя в порядок, мы стали ждать. Прошла поверка, и сразу после нее пришли за нами. На этот раз в свете дня лагерь был виден как на ладони. Территория походила скорей на секретный объект, чем на пристанище по меньшей мере 400–500 малолеток, да еще и ярых нарушителей. Даже контролер, который сопровождал нас до штаба, всю дорогу молчал. Но удивить нас уже давно было нечем, а потому мы вошли в штаб без всякого волнения и страха. Только возле дверей одного из кабинетов этот молчун сказал: «Вас ожидает комиссия». Зашли мы с Саньком одновременно, как оказалось, это был кабинет Хозяина. Обычно при таких процедурах на комиссию вызывают по одному, но здесь этапы были не частое явление, да к тому же нас было всего двое. Огромный кабинет с двумя громадными окнами являлся некоторого рода неожиданностью, никак нельзя было ожидать в столь невзрачном и хмуром здании такого просторного помещения. Вдоль стен стояли дореволюционные стулья, на них важно восседала комиссия, да с таким видом, будто с нашим появлением решается некая глобальная проблема. Прямо напротив нас стоял очень массивный стол, скорее всего, из мореного дуба и, видно, из интерьера кабинетов первых комиссаров, которые здесь устанавливали советскую власть, такую же прочную, как этот стол. За столом сидел капитан, почти весь седой, со множеством планок на груди, с виду статный мужчина лет сорока. Прямо над его головой висел портрет Дзержинского, непременный атрибут подобного рода кабинетов, а вдоль стен были развешаны какие-то портреты борцов за прекрасную жизнь. Вот первое, что бросалось в глаза, и, как видит читатель, ничего примечательного в этой обстановке не было, обычный кабинет Хозяина. Но Хозяин-то был не совсем обычный, это был форменный садист по фамилии Маресьев. Не правда ли, такую фамилию трудно забыть, а такого деспота забыть просто невозможно. Планки от орденов и медалей на его груди говорили о том, что он не был трусом, скорее наоборот: он прошел всю войну, или почти всю, побывал даже в плену и умудрился бежать оттуда. Вот эти обстоятельства, скорей всего, и определили его дальнейшую жизнь. Если бы государство оценило его заслуги и подвиги, то он бы нашел достойное место в когорте своих бывших однополчан. Но, к сожалению, людей, побывавших в плену, наше правительство, мягко говоря, не жаловало, какими бы храбрецами они ни были. Но пренебречь людьми, у которых на груди от наград почти не было свободного места, власть не могла, вот его и определили в этот Богом забытый край, и это не могло не сказаться на его психике. Здесь, на своем новом поприще, он со временем поменялся местами со своими бывшими мучителями в плену. Буквально для всех пацанов у него были свои прозвища, и даже своим подчиненным он давал клички. Таких, как мы, он называл партизанами, свой штаб – гестапо, а подчиненных – гестаповцами. Иногда можно было слышать, как он кричал с пеной у рта: «Сейчас ты пойдешь в гестапо, а там у нас и камни заговорят, понял!» Затем следовали пара-тройка хороших тумаков, и несчастного с закрученными руками, волоком тащили в штаб, ну а там хорошо знали, как нужно поступать с нарушителями спокойствия. Судя по тому, что любимым выражением этого подонка были слова «я люблю покой и тишину», создавалось впечатление, что он вроде готовился преставиться, но, как ни молили об этом Бога юные арестанты Нерчинского острога, Всевышний не спешил с этим, – видно, такого добра у него было хоть отбавляй. Вот что представлял собой человек, который сидел прямо перед нами. Но то, о чем я написал выше, мы узнали много позже. А сейчас вели себя на всякий случай скромно и спокойно. Хозяин поднял голову и движением удава, почуявшего добычу, повернул ее к нам, уставившись на нас блестящими рысьими глазками. Сесть нам предложено не было, да и некуда было, а потому мы смотрели на него сверху вниз. «Кем будете жить в зоне?» – без вступления, видно, в расчете на наше замешательство, связанное срезкой переменой обстановки, прошипел он. Я поневоле вспомнил, как подобного рода вопросы нам как-то задавал тот, по чьей милости мы здесь оказались. Но перед этим легавым Чиж был сопляком, да к тому же заключенным, однако все же они были чем-то похожи. Все это промелькнуло в моей голове мгновенно, и, выбрав тон рыночного торговца, я ответил вопросом на вопрос: «А что вы можете предложить?» Никак нельзя было ожидать, что у столь бравого с виду офицера окажется такой небольшой набор слов, так как, кроме отборного мата, почти ничего в его речи толком нельзя было разобрать. Надо было видеть, как он орал, брызжа слюной и выкрикивая угрозы. Комиссия помимо Хозяина состояла еще из нескольких офицеров и двух до неприличия вульгарных особ женского пола, но все они сидели затаив дыхание, с упоением слушая своего шефа. Мы тоже терпеливо слушали и не перебивали его, и, когда он выдохся или решил перевести дух, Санек вклинился в эту паузу и изрек спокойно и не спеша: «Гражданин начальник, велите отвести нас в камеру, иначе у нас уши завянут от погани, которая вышла у вас изо рта. Научитесь разговаривать с порядочными людьми, а мы потом еще посмотрим, стоит ли вообще с вами разговаривать». В воздухе повисла пауза, все ждали, что же будет дальше, незаметно бросая взгляды в сторону Хозяина. Придя в себя от шока после ночного заявления Совы, капитан взял себя в руки и сказал вкрадчивым голосом: «Ну что ж, это будет, пожалуй, интересней, чем обычно». Его тон не предвещал ничего хорошего. И я подумал, что уж лучше бы он ругался и брызгал слюной. И был прав, потому что в следующий момент, вызвав истукана, он скомандовал ему: «В обычный пока карцер этих щенков, а там посмотрим, кто есть кто». Вот так и состоялось наше знакомство с этим лагерем и его Хозяином. О том, как просидели мы эти десять суток, я рассказывать не буду. Только я все время пытался вспомнить, что читал про карцер по истории Древнего Рима. Я откопал в глубинах своей памяти, что тогда карцером называли помещение в цирке, где находились гладиаторы, возничие с лошадьми и другие участники зрелищ. Ну не собирался же он нас, как гладиаторов, вывести на бой, да и были мы тогда от горшка два вершка – какие из нас гладиаторы? В общем, пока я все это обдумывал, нас привели опять в туже камеру, где мы провели первую ночь. Затем целый день водили то в баню, то в спецчасть, то еще куда-то – уже не помню, но к вечеру мы опять были в том же кабинете. Только теперь Хозяин сидел один, правда, за дверью стоял все тот же дубак. Теперь он решил применить другую тактику разговора. Как только мы вошли в кабинет, нам тут же было предложено сесть, затем, как бы извиняясь, сказал: «Как же так, почему же вы сразу не сказали, что вы блатные!» Его слова нас несколько обескуражили, так как мы знали, что блатные – это воры, мы же еще были молоды, даже слишком молоды, чтобы нас считали ворами, но мы молча продолжали слушать. «Я только сегодня посмотрел дела, иначе бы я вас выпустил раньше, – продолжал он, – ну да ладно, вы уж на меня не серчайте». Мы молча продолжали слушать, прекрасно понимая, что все это неспроста. «Блатные у нас живут как блатные, вот подпишите эти бумаги». – «А что это?» – спросил Санек. «Это ваш мандат, у нас у всех блатных мандаты». Санек взял один из листов, поднес его к лицу и через минуту, смяв, швырнул прямо врыло Хозяину. На листе значилось наше вступление в актив, только не было наших подписей. Конечно, оторваться нам дали хорошенько, кости опять ломило, но это, видно, перешло уже в хроническое «недомогание». После экзекуции нас снова привели к этому деспоту. «Слышишь, зверек, – обратился он ко мне, – я больше чем уверен, что ты не освободишься, если же это вдруг произойдет, то освободишься ты курносым». Саньку же сказал: «Ну а ты будешь как Буратино. Но молите Бога освободиться хоть такими, ведь ждет вас много сюрпризов». Затем, обращаясь к надзирателям, которые поддерживали нас, потому что стоять мы не могли, он сказал: «К бунтовщикам их. Все то же. И приготовьте красный уголок».
Глава 4
«Красный уголок»
В который раз мы пересекали по диагонали зону, от штаба до барака, только на этот раз нас почти несли, но не в тот барак, где мы были, а в соседний. Попав в него, мы сразу почувствовали разницу: внезапно повеяло сыростью, света почти не было, где-то посреди барака горела одна лампочка, по коридору ходил шнырь. Камеры, а их было всего пять, были закрыты. Открыв одну из них, нас закинули внутрь и ушли. Мы поняли, что мы у своих, и это успокоило. В камере находилось три человека, даже по их виду можно было понять, что это наши «братья по жизни». Все трое были выше нас ростом почти на голову, и это сильней подчеркивало их худобу. Честно сказать, кроме как в фильмах о концентрационных лагерях, я нигде больше не видел таких худых, буквально кожа да кости. Без сострадания и жалости нельзя было на них смотреть, мы даже забыли о том, что сами еле держимся на ногах. Нас встретили, как и подобает, по-братски, уложили на шканари (кровати) и стали заботливо ухаживать за нами, видя, что нам здорово досталось. Рады нам пацаны были безмерно. После того как мы познакомились, нам рассказали, что находятся они здесь уже почти шесть месяцев, на пониженной пайке. Забегая вперед, скажу, что для малолеток нет такого наказания и никогда не было пониженных паек, эта бестия капитан придумал. Каждый месяц один из них идет в «красный уголок», ибо больше раза в месяц никто бы там не выдержал. Против закона здесь вроде бы не шли, так как один раз в месяц разрешалось водворять малолеток в ШИЗО, эта экзекуция нам еще предстояла. Курева им не давали – в общем, издевались как хотели, зная свою безнаказанность. Попали бедолаги в такое положение благодаря самому низкому человеческому пороку – предательству. Видя, какой беспредел творит в лагере Хозяин, они решили поднять бунт, но их предали те, кто был рядом и, как это обычно бывает, больше всех выступал. Вот такую невеселую историю поведали нам наши новые друзья. Звали их Валера (Харитоша), Женя (Ордин) и Сережа (Цыпа). Я не стану описывать их внешность, как это обычно делают в книгах, – во-первых, я не помню, а во-вторых, в моем повествовании читатель еще не раз встретится с ними – в Коми АССР, на Дальнем Востоке, в Бутырках и Матросской Тишине, но это уже будут не те приморенные и забитые «краевым беспределом» молодые босяки, а взрослые, умудренные опытом нелегкой жизни бродяги. Правда, забегая вперед, скажу, что один из пацанов не выдержал и помер – и не стало его именно тогда, когда мы почти добились своего. Что удивительно, все трое были москвичами, это нас приятно удивило, ведь единственный человек, который помог нам справиться с Чижом, был москвич, правда, активист, но по принуждению. Женя и Валера были бауманские, а Сережа – люберецкий. Кстати, у Жени отец был при своих (вор в законе), Санька (Кот) его звали.
В общем, проговорили мы почти до утра. Поведали нам ребята во всех деталях о «красном уголке» и обо всем остальном, что нужно знать в первую очередь нам, юным бродягам. Через пару дней, когда мы почти пришли в себя, меня повели в «красный уголок» на очередные десять суток. «Уголок» являлся личным изобретением этого изверга, и он им гордился. Такая камера была одна, и после каждой отсидки в ней подростка заносили сначала к Хозяину, чтобы узнать, не переменил ли он своих убеждений, и, получив отрицательный ответ, относили в камеру. Выйти своими ногами оттуда не удавалось никому. Прежде чем я вошел в камеру, ключник мне сказал: «Имей ввиду, ни на оправку (туалет), ни на поверку – никуда вообще дверь открываться не будет, кроме как через десять суток. Так что не стучи и не ори, никто не придет, даже если тебя сожрут крысы». Совет был дельный, но я не подал вида, что знаю, что меня ожидает, и учтиво поблагодарил его за совет. Видно было, что надзиратель удивился, но не сказал ничего, просто молча закрыл за мной дверь. Помещение метров шесть-семь в длину и три в ширину было абсолютно пустое. Стены глухие, без окон, пол похож на сопки Приамурья, весь в буграх, какой-то странной конфигурации. Двери по всему периметру пробиты гвоздями, не было ни параши, ни окна, ни даже нар, которые в обычных карцерах пристегиваются. В общем, не было ничего, все было необычно, но я был готов. А потому, когда погас свет, нисколько этому не удивился. Став в правый угол, я стал прислушиваться. Откуда-то от двери послышалось шипение, будто штук пять кобр выползают на охоту, но это были не змеи, это была вода. Мне приходилось перебегать с кочки на кочку, ибо вода то прибывала, то убывала. Не помню, сколько прошло времени, но, когда открыли кормушку и сунули пайку вместе с кружкой воды, я еле стоял на ногах, а времени было еще немного, еще не было отбоя. Мне же показалось, что прошла вечность, но главное было впереди.
Как только прозвенел отбой, вода начала спадать. Я забрался в правый угол – мне показалось там суше, и, как бы для того чтобы я в этом убедился, вдруг зажегся свет. С утра это был пятый раз. Не часто, подумал я, но все же успел еще разок окинуть глазом свою обитель. Свет опять погас. Вот так с пайкой в руке я и закемарил, положить ее было некуда, да мне и не пришлось ее съесть. Сколько дремал, я не знаю. Проснулся, вернее будет сказать, очнулся от какого-то неприятного щекотания, это крысы потихоньку съедали мою пайку, я вскочил как ужаленный, но тут же взял себя в руки. И все-таки любой согласится, что такое соседство не из приятных. Я стал ходить по камере, чтобы как-то отвлечься, но в таком «красном уголке» особенно и не походишь. Нет-нет да и попадается под ногу одна из крыс, писк стоит после этого такой, что душу выворачивает. Я держал в руке остаток пайки и думал, когда будет совсем невмоготу от этих тварей, накрошу им в углу и хоть несколько минут покемарю. Но это я так думал. Прошло еще некоторое время – и я уже начал скучать по воде, так как твари стали доставать, как вдруг пошла вода, но не по полу, а полилась с потолка. И к этому я был готов, но все же неизвестно, что лучше – когда крысы у тебя, спящего, пальцы грызут, или когда с потолка вода на тебя льется, или когда ты, как сайгак, скачешь по бугоркам в этой цементной коробке. Одно было ясно: нужно не упасть, иначе все, ты не жилец. Читателю, я думаю, будет легче представить, чем мне написать, как я провел эти десять суток, но упасть не упал.
Когда меня принесли к Хозяину, он с ехидной ухмылкой спросил, не переменил ли я свои взгляды. Я был так поражен его бесчеловечностью и с такой яростью посмотрел на него, столько гнева и злости было в глазах, что мое молчание было красноречивее любых слов. Через несколько часов после того, как меня принесли в камеру, пришли за Саньком. Я успел ему рассказать, что его ждет, ничего не приукрашивая, а, наоборот, чуток сгущая краски, чтобы ему хоть немного там было легче. Где-то дня три-четыре отхаживали меня пацаны, прежде чем я пришел в себя. Все это время я не переставал думать: как там Санек? Слабей меня он, конечно, не был, но кто его знает, как карта ляжет. Все же, когда я поднялся, мы в камере стали думать, как прекратить этот беспредел. Может быть, вопрос и не стоял бы так остро, если бы не Серега. Он прямо таял на глазах, его съедала чахотка, а ведь следующая очередь была его. Хуже всего было то, что пацаны еще без нас почти все перепробовали: и резались, и голодали, и бунтовали, пытаясь такими способами прекратить беспредел, но все было тщетно. Здесь нужно было придумать что-нибудь неординарное. Я не помню, кому из нас пришла идея поджечь этот барак, но принята она была с энтузиазмом, нужно было только подготовиться и дождаться Санька. И когда все было обмозговано, мы с нетерпением стали ждать нашего кореша. Наконец Санек вернулся, вернее, его принесли. И как только за ним закрылась дверь камеры, мы стали приводить наш план в действие. Прежде всего мы дождались, пока смолкнут шаги вертухая в коридоре, и, как только все стихло, стали забивать костяшки домино в дверной проем. Таким образом мы расперли дверь, теперь ее надо было только ломать, иначе не открыть, но это было еще полдела. Углы, где потолок соединяется с двумя стенами, в том числе и с той, в которой дверь, мы, став друг на друга, подожгли. Теперь можно было перевести дух, но тем не менее надо было спешить, ведь мы знали, что барак старый, построенный еще в прошлом веке, а значит, сруб сухой и вспыхнет как порох, к тому же дело было летом. Пока мы перекладывали Санька на пол в противоположный конец камеры, пришли за Серегой. Открыв кормушку, надзиратель крикнул: «Цыплаков, на выход!» Никогда не забуду, как Серега подошел к кормушке и что-то сказал вертухаю, потому что тот аж с пеной у рта стал орать на него и ругаться. Но, видно, вертухай почувствовал запах и, даже забыв закрыть кормушку, с криком «горим!» ринулся из барака. Да, действительно, мы горели. Сгрудившись в противоположном углу стены, которую подожгли, мы, прижавшись друг к другу, как молодые спартанцы легендарного отряда, стали ждать. По прошествии стольких лет я и сейчас могу сказать точно, что мы не знали, чего ждали. Нас окрыляла мысль, что мы можем хоть как-то противостоять этому беспределу, что хоть несколько часов мы будем хозяевами самим себе. Все мы так устали от издевательств этих деспотов, что выбора у нас не было, но о том, что сами можем сгореть, как-то даже не думали. Чем ломали дверь, я не знаю, но дверь не поддавалась, она была массивная и прочная, да еще покрыта железом. Кормушка была открыта, и в нее кто-то уговаривал нас потушить огонь. Даже если бы мы и смогли потушить огонь, то делать бы это не стали, а потому даже не обращали внимания на просьбы. Вся камера наполнилась дымом, – видно, взялась крыша и огонь пожирал ее. Был слышен такой треск, будто стреляли одиночными выстрелами, а иногда и дуплетом. Зарево, очевидно, охватило округу, мы услышали сирену пожарных машин, ругань, крики – все смешалось в общий хаос. В камере уже почти нечем было дышать, кашель душил нас, особенно Серегу. Бедолага, казалось, сейчас выплюнет внутренности. Так продолжалось где-то около часа, как вдруг мы услышали треск, но не такой, как от огня, а какой-то скрипучий. Затем угол напротив нас начал трястись, бревна стали раздвигаться, и мы увидели маленький проход в углу. Через минуту бревна посыпались как спички, проход расширился, это трактор выворачивал угол барака. От потока воздуха огонь вспыхнул в камере, и мы чудом выскочили, таща Санька почти волоком. Снаружи было столько народу, так ярко светило солнце, что мы на какое-то мгновение растерялись. Но опомниться нам не дали – чуть ли не волоком нас потащили в сторону вахты и закрыли в одну из камер. Было столько шума, гама и суеты, связанных с поджогом барака, что у нас, естественно, не оставалось никаких шансов на снисхождение. Да мы и не надеялись на снисхождение, напротив, приготовленные заранее два супинатора и одна мойка были тут же извлечены, как только нас закрыли в этой камере. Мы, естественно, приготовились к самому худшему. Но за нами никто не приходил, а было уже время отбоя. После отбоя камеру открыли, появились какие-то незнакомые менты, которые ходили, не обращая на нас внимания, вроде чего-то ждали. А ждали они «воронок» и, как только он подъехал, нас чуть ли не закинули в него в течение нескольких секунд, – видно, опыта им было не занимать. Но по дороге менты вели себя нормально, даже дали нам закурить. От дыма табака мы опьянели, ведь курева нам не выдавали и неоткуда было его взять. Даже то, что мы с Саньком привезли, у нас отобрали, а капитан, издеваясь, сказал: «Конфисковано в пользу блатных». С первыми лучами солнца мы вылезли из «воронка» на тюремный дворик в Чите.
Глава 5
Смерть Сереги
Без шмона и вообще без всяких препятствий нас водворили в камеру, о которой можно было только мечтать. Белые стены, панцирные шконари, да еще все восемь – одноярусные, деревянный пол, как положено, и вообще ухоженная хата. Чувствовалось, что здесь недавно были люди, но, видно, их перевели второпях, так как мы повсюду находили тому подтверждение. Не прошло и часа с момента нашего водворения, как нам принесли постельные принадлежности, даже по одной простыне и наволочке, от чего мы давно отвыкли. Серега наш был весь белый как мел, на ногах не держался, его всего трясло, да еще и кашель душил неимоверный, а мы ничего не могли поделать. Положили его на шконку и подложили несколько подушек под голову, попросили ключника, чтобы он вызвал врача. Будет обход, и врач подойдет, услышали мы в ответ, им и удовлетворились. Хипиш мы всегда успеем поднять, решили мы. Санек был тоже болен, не лучше Сереги, мы положили их рядом, а сами решили бодрствовать: кто его знает, что у них на уме. Мы знали точно, нас просто так не оставят, а потому и не обольщались на этот счет. Наше оружие, то есть два супинатора и мойка, остались при нас, так что отпор мы могли дать в любой момент. При входе в камеру нас предупредили, чтобы мы не орали и не портили стены, так как другой камеры за стенкой все равно нет. Серега весь горел и бредил, но мы были бессильны ему помочь. Наконец появился дежурный и пообещал, что, как только врач придет, сразу пошлет его к нам. Что нам оставалось делать? Мы опять стали ждать. В суете и разговорах время пролетело незаметно, и вдруг открылась кормушка и появилась голова женщины в белой косынке. Лицо ее было уродливо, и хотя я с детства уважал медицинских работников, но эта женщина была отвратительна. Как позже выяснилось, ее внешность соответствовала ее поступкам. Выяснив, что к чему, она дала Сереге аспирин, а Саньку анальгин или что-то вроде этого и ушла. Если бы мы знали, что чахоточным аспирин вообще нельзя давать, так как он разжижает кровь, мы бы, наверно, проклятый аспирин эту тварь рода человеческого заставили бы через уши принимать. Но кому это было нужно? Кого могло волновать? Кто мог думать о здоровье человека, которого вот уже почти два года мучают. Температура у Сереги спала, а мы еле держались на ногах, так что после вечерней поверки мы втроем вырубились. Серега с Саньком не спали, а просто лежали, но были на стреме. Где-то под утро меня растормошил Санек и, не дав окончательно проснуться, потащил к Сереге, здесь-то я сразу пришел в себя. Он, бедняга, сидел на шконке, опущенная голова его то и дело вздрагивала от прерывистого, учащенного дыхания, а постель была залита кровью. Пока я ухаживал за ним, вскочили Женя с Харитоном и, увидев, что к чему, стали колотить в дверь что было сил. Я сидел справа от Сереги, поддерживал его за плечи и держал за подбородок, Санек хлопотал рядом. Он давно забыл про свои болячки, видя, что другу плохо, и старался хоть чем-то помочь. У нас даже не было соли, чтобы, размешав ее в воде, дать выпить Сереге и тем самым остановить кровь. У нас и кружки-то не было, и воды тоже – ничего у нас не было, кроме отчаяния, злости, обиды на этот жестокий и бесчеловечный мир и страха за нашего друга. Мы уже чувствовали, что теряем его. Серега попросил, чтобы что-нибудь подложили ему под голову, повыше. Мы скрутили матрац и пару подушек, он уже почти сидел в постели, но ему все равно было трудно дышать. Я стал на колени позади него и прижал его голову к своей груди, чтобы при кашле его тело не сотрясалось. Санек ухаживал за ним, сидя рядом, так как сам стоять долго не мог. При каждом приступе кашля голова у Сереги вздрагивала, и, как только он выплевывал мокроту с кровью, еще некоторое время конвульсии сотрясали его тело, потом он успокаивался. Через пятнадцать минут все начиналось сызнова. За это время Женя с Харитоном дозвались вертухая. Открыв кормушку и видя, что положение серьезное, он побежал звонить. Мы сидели вокруг Сереги, один Бог знает, что мы пережили за это время. Вдруг кашель с новой силой начал его одолевать, изо рта полетели брызги крови, он начал биться в конвульсиях, хрипеть, я уже не мог его удержать, мы с Женей старались как-то его успокоить. И вот, посмотрев на каждого из нас поочередно, будто что-то хотел сказать, он вытянулся как струна, дернулся несколько раз и сник. Сердце нашего друга перестало биться, мы были потрясены. Первым пришел в себя Харитон и закрыл Сереге глаза. Как описать то горе, то отчаяние, ту боль утраты, постигшую нас? Наше горе было безмерно, мы потеряли друга. Мы сидели вокруг умершего и, не стесняясь друг друга, плакали. Каждому из нас было в ту пору по 16 лет, но в этот день мы повзрослели лет на десять. Не меньше часа прошло с тех пор, как вертухай побежал звонить, и только сейчас мы услышали, как открывается дверь, увидели, как в камеру входит коновал двухметрового роста в белом халате, с двумя легавыми по бокам. И что больше всего нас поразило, вошли они не торопясь, как будто уже знали, что спешить некуда. Вся наша злость, обида, отчаяние – все вырвалось наружу. Обезумев от гнева, мы, как по команде, бросились на них. Для них это не было неожиданностью. А через пять минут мы уже лежали рядом со своим покойным другом с руками, связанными сзади полотенцем. Правда, при этом нас даже ни разу не ударили – не понадобилось, мы бы все равно с ними не справились. Врач постоял немного, посмотрел с грустью на Серегу и на нас и сказал с нотками сострадания: «Я сочувствую вашему горю, но другу вашему, к сожалению, уже не поможешь, полежите немного, придите в себя, а когда остынете, развяжите друг друга. Все, что произошло, забыто, поняли?» Затем врач пошел к двери, где двое вертухаев ждали его, и уже прямо перед выходом он добавил: «Я только пришел на дежурство, и, как только мне передали, что в камере тяжелобольной, я тут же пришел к вам. Но, к сожалению, уже поздно, сами видели, так что на мне вины за смерть вашего друга нет». И резко вышел из камеры. В течение пяти минут мы развязали друг друга, затем навели относительный порядок, положили матрац на пол, постелили простыню, положили Серегу, вытерли ему лицо слюнями, воды у нас не было, накрыли его простыней и сели вокруг. Ни одного слова не вырвалось у нас, с тех пор как легавые ушли из камеры, каждый молча прощался с другом. Через полчаса пришел все тот же врач вместе с какими-то большими начальниками, а сзади стояли несколько человек из хозобслуги. Мы сидели молча, даже головы не подняли. «Это что, те спецовые?» – спросил кто-то. «Да», – послышалось в ответ. «Ну и взгрел нас Маресьев добром, нечего сказать», – услышали мы все тот же голос. Еще немного постояв, они вышли, не сказав нам ни слова, остался только врач. Несколько минут он стоял молча, а затем сказал, чтобы мы прощались. Мы попросили было оставить Серегу на какое-то время, но врач объяснил, что на улице жара, труп начнет быстро разлагаться. С такими доводами нельзя было не согласиться. Каждый из нас поцеловал Серегу в лоб, и, взяв с четырех сторон матрац, мы вынесли покойного ногами вперед в коридор и положили на пол. Постояв еще пару секунд возле него, мы молча вернулись в камеру. Врач в это время о чем-то говорил с одним из шнырей, а затем, взяв у него пачку махорки и тарочку, передал их нам. Мы поблагодарили, но, прежде чем закрыть дверь, он сказал: «К концу дня я, возможно, вызову вас, я смотрю, вам тоже необходима моя помощь». И, закрыв камеру, ушел. Курева у нас не было вообще, и махорка была кстати.
Мы закрутили по скрутке, закурили и молча сидели, ни о чем не думая. Голову заволокло туманом и даже не хотелось шевелиться, мы так устали, что только сейчас это почувствовали. Как прошел день, сейчас трудно вспомнить, помню только, что врач нас не вызывал, и после отбоя мы, не раздеваясь, заснули, уставшие и измученные. На другой день после утренней поверки нас всех куда-то повели и закрыли в боксик. Минут через 15–20 опять всех вывели, и оказались мы в кабинете все того же врача. Он пригласил нас сесть, вдоль стены стояли стулья, на них мы и сели. И вот что он нам сказал: «Послушайте меня внимательно, пацаны, и хорошенько подумайте над моими словами. А потом окажу вам посильную медицинскую помощь, потому что каждый из вас в ней нуждается не меньше, чем любой больной, находящийся в больнице». Вчера вместе с ним в камеру к нам заходили Хозяин, кум и режим. Покойник в любой тюрьме – ЧП, так вот, оказывается, вчера же Хозяин ругался по телефону с Маресьевым. «Вас привезли в тюрьму, – продолжал врач, – чтобы возбудить уголовное дело и судить за поджог. Но смерть вашего друга резко все изменила, и теперь они рады от вас избавиться. Так что первым же этапом вас отправят – куда, я не знаю, но, думаю, подальше от этих мест. Все это я сказал вам потому, что знаю и вижу, как вы дружны, сколько вы выстрадали и сколько хватили горя. А потому поймите меня правильно и оцените мою откровенность». Что мы могли сказать в ответ? Конечно, поблагодарили его за все. Каждому из нас врач оказал медицинскую помощь, насколько это было возможно, и, попрощавшись, мы ушли, вернее, нас повели в камеру. Не прошло и недели, как нас забрали на этап. За эти десять дней, что мы пробыли в тюрьме, мы ни с кем, кроме этого врача-капитана, не общались, и все, как он нам сказал, так и произошло. Поезд мчался куда-то на запад уже несколько часов, когда нас наконец-то завели в купе «Столыпина». Мы покидали этот Богом и людьми проклятый край, и каждый из нас сознавал, что избавлением мы были обязаны нашему покойному другу Немало будет в жизни у нас подобного рода примеров, не одному бродяге, отдавшему жизнь за общее дело, придется закрыть глаза, но мы никогда не забываем тех, благодаря которым мы продолжаем жить.
Глава 6
Тетя Зоя
Как-то по прошествии времени мне попался журнал, уже не помню какой, одна из статей в нем меня весьма заинтересовала. Вот что было в ней написано: в 1909 году Фанни Каплан была приговорена к смертной казни, в том же году она ослепла, и смертная казнь ей была заменена вечной каторгой – отбывала наказание она в Нерчинске до 1912 года, в этом же году зрение вернулось к ней и она совершила удачный побег. И вот о чем я подумал.
Если полуслепая женщина умудрилась бежать с каторги, то, значит, условия содержания в то время позволяли совершить побег. Мы же, по прошествии пятидесяти лет, даже не помышляли об этом. Но не потому, что не хотели бежать, – напротив, мы готовы были на самые отчаянные поступки, и, как, наверное, читатель заметил, не было способа, который бы мы не попробовали, а просто потому, что это было невозможно. Вот что такое прогресс в России!
Уже трое суток мы шли по этапу, и никого к нам не подсаживали. Было теплое августовское утро, в коридоре «Столыпина» окна были открыты, и, лежа на верхних нарах, мы смотрели, как над озером медленно поднимается утренняя дымка. Поезд шел вдоль озера Байкал, впереди был Иркутск. С конвоем нам повезло, это были сибиряки. Еще вчера старшой обещал, что посмотрит «конверт» куда мы едем и почему к нам никого не сажают. Вот мы и пасли его, чтобы не пропустить. В «Столыпине» нет таких понятий, как подъем, отбой, день, ночь, – круглые сутки движение. Где-то остановка, кого-то сажают, кого-то выводят, из купе в купе пересаживают, шмон, хипиш – в общем, жизнь ни на минуту не останавливается. И поэтому нам было интересно, почему нас не шмонали, к нам никого не подсаживали и никуда не переводили. Такого никогда раньше не было. С того момента, как мы выскочили из горящего барака, и по сей день у нас ничего не было. Не было ни курева, ни спичек, а об остальном и говорить не приходится. «По ходу пьесы» мужики, которые ехали рядом в купе, поделились с нами куревом, харчей немного подогнали, да и солдаты чаем взгрели. В общем, условия были сносные, и мы потихоньку приходили в себя. А тут и старшой прибыл. «Ну и намутили вы, видно, воду, пацаны», – с улыбкой сказал он. «Едете вы до Свердловска, но без подсада, думаю, поняли». Затем позвал сержанта и сказал: «Никакого отказа огольцам ни в чем, понял!» и с той же приятной улыбкой он подмигнул нам и пошел вдоль прохода, напевая что-то вроде «Мурки». Мы были старшине очень благодарны. Тот, кто шел этапом, знает, как важно знать, куда тебя везут. Да и вообще, неопределенность всегда настораживает и угнетает. Что там было еще написано, нас не волновало, да мы в принципе догадывались, ибо формуляр «без подсада» означал, что к нам предписано никого не сажать и нас ни к кому не подсаживать. А такого рода формуляры выполнялись очень строго везде и всегда. Мы узнали больше, чем нам положено было знать, в обиде ни на соседей, ни на солдат не были, а потому находились в настроении, насколько это было возможно после того, что мы пережили. Мы готовились к иркутской пересылке, так как нам сказали, что первый этап нашего пути кончается именно там. Однажды мы с Саньком тут уже побывали, когда ехали в Нерчинск. А будучи молодыми и шустрыми от природы, мы вполне могли здесь ориентироваться. На этот же раз в Иркутске нас продержали всего несколько дней и снова потянули на этап. Мы уже, естественно, не удивлялись, что в камере сидели одни. Также и в «Столыпине» мы опять были одни, но на сей раз нам крупно не повезло, конвой был из Азии. Обычно конвой выводит арестантов с вещами по одному и шмонает. У нас вещей не было, мало того – мы были в одних летних рубашках. Но каждого из нас эти «стражи порядка» обыскивали полчаса, чуть ли не по миллиметру обшаривая все, вплоть до трусов. Такую же бдительность они проявляли, если нам что-то передавали арестанты, мало того – их при этом надо было чуть ли не умолять, чтобы те взяли для нас либо курево, либо чего-нибудь приклюнуть. Сами же мы молчали, мы были малолетки, а потому «держали масть». Поскольку, как я говорил, мы были в одних летних рубашках, арестанты пытались передать нам кое-какие вещи, но конвой не то что вещи, еду и то не всегда брал, так – по настроению. С куревом мы кое-как еще перебивались. Почти всегда звучало в наш адрес сакраментальное «не положено». Вот так мы ехали уже почти месяц. Было начало сентября, спать уже было холодно, в этих широтах в это время уже прохладно. Поэтому мы забирались на самый вверх и, повернувшись спина к спине, пытались хоть немного поспать. Но большую часть ночи бодрствовали: то приседали, то отжимались – в общем, как могли спасались от холода. И немудрено, что, прибыв в Свердловск, мы все четверо еле держались на ногах. Сказать, что мы были больны, – значит ничего не сказать. Сойти на перрон нам помог все тот же конвой, затем мы попросили арестантов, которые уже давно вышли из вагона, помочь нам. Дважды повторять им не пришлось. Четверо людей поздоровей вышли из оцепления, подошли и, взяв меня с Саньком на руки, понесли. Как для конвоя, так и для конвоируемых ничего удивительного в этом не было, за исключением того, что перед ними были почти дети, ведь мы с Саньком больше чем на 12 лет не выглядели. В одних летних рубашках с коротким рукавом, в хлопчатобумажных брюках и сандалиях (летнее лагерное обмундирование), мы дрожали, и нас всех била лихорадка. Мы были почти в бессознательном состоянии, и, как доехали до тюрьмы, я не помню, в «воронке» я бредил.
В самой же тюрьме нас на этот раз посадили со всеми вместе. Затем потихоньку всех стали рассортировывать, и в конце концов мы опять остались одни. Но сидеть не могли, лежали на лавках вдоль стен и бредили. Не помню, сколько времени мы были в таком состоянии, как вдруг открылась дверь и вошли женщины. Я почувствовал, что моя голова прижалась к чему-то мягкому и душистому, так, по крайней мере, мне показалось, это, кстати, была грудь одной из женщин, которая несла меня, больше я уже ничего не помнил. Вот что произошло, пока мы лежали на лавках в конвоирке. На наших делах было написано: «Содержать в строгой изоляции». Таких камер, чтобы поместить нас одних, то есть всего четверых, в свердловской пересылке нет. Там всегда все было забито. Камеры по 150–200 человек, в зависимости от потока – круглые сутки движение: увозят, привозят, сортируют. Кому есть дело до четверых пацанов мал мала меньше, малолеток, которым, правда, палец в рот не клади – отгрызут по локоть, да еще таких больных. Это и было главное, что определило нашу дальнейшую судьбу. Да, на наше счастье, больницы на пересылке не было, а мы были действительно больны, вот и решило начальство посадить нас к женщинам, хоть это и не было положено. Но, к чести начальства свердловской пересылки, они поступили как люди, и не вспомнить их с благодарностью – значит покривить душой.
Через неделю я пришел в себя, кореша мои уже давно оклемались, но, как только открывалась дверь, женщины заставляли их притворяться больными. Если менты спрашивали, как мы, то им показывали на меня, а я, мягко говоря, был не в лучшей форме. За все это время ни разу не пришел в себя, постоянно бредил. Увидев, что улучшение в нашем состоянии здоровья не наступило, менты удалялись доложить обстановку начальству. Забегая вперед, скажу, что бесследно немочь моя не прошла. Я заработал чахотку на всю оставшуюся жизнь, но об этом и о многом другом мы не знали и не могли знать. Кореша мои, как только пришли в себя, описали женщинам нашу одиссею, но уже одного того, что мы были на спеце, хватало, чтобы обратить на нас внимание. Женьку позвали к кабуру и попросили рассказать все сначала. Женщины сказали Жене, что за стенкой сидят урки, и если они узнают нашу историю, то уж постараются о нас побеспокоиться. Представьте, как были рады мои друзья, узнав, что через стенку сидят воры. Естественно, они все рассказали, и на следующий день воры решили: «Как только кореш ваш оклемается, перетащим вас к нам в хату, это уже обговорено, так что ждите и помалкивайте». Радости друзей моих не было конца, но ускорить мое выздоровление они были не в силах. Зато я был в надежных руках, оставалось только уповать на судьбу и ждать. Смею заметить, что я действительно был в надежных руках. Звали мою избавительницу тетя Зоя. В Благовещенске – а весь этап, который находился в камере, был из Благовещенска – она провела девять лет, а потому в таких болезнях, которой хворал я, что-то смыслила. Лагерь, где они сидели, был огорожен лишь колючей проволокой от мужского, и им часто приходилось выхаживать каторжан после карцеров, а у некоторых там томились мужья – время было такое. По масти была она багдадка, а это значило, что выше ее в иерархической лестнице бабьих мастей не было. То есть все слушались ее и подчинялись, даже жучки, – как бы ни было, они стояли на ступень ниже. Сейчас в тюрьмах этого нет, даже те, кто сидел позже, не знают об этом времени, потому что негде узнать. Но я считаю, что многим не мешало бы знать о традициях того времени. А тогда последним куском хлеба, осьмушкой табака, последней тряпкой готовы были поделиться каторжане и каторжанки, чтобы как-то облегчить участь друг друга. И законы братства, так же как и законы чести, были суровы и справедливы. Потому что время было суровое, если не сказать жестокое. Сидела тетя Зоя за вооруженный разбой. Их было пятеро в деле, двоих убили при побеге, троим же дали по 25 лет, так как на них была кровь легавого. В общем, оставалось ей еще 16 лет, но она и не надеялась, что освободится. Ее статья не шла ни под какие льготы, так как она сидела по указу 2/2.
Первое, о чем я подумал, когда очнулся, – я на том свете. Вокруг женщины (что абсолютно невероятно), вдали кое-где мужские силуэты (это кореша мои ходили). Ну, думаю, на «сборке» все к Всевышнему в очереди стоят, по одному, видно, выдергивают. Я огляделся. Тетя Зоя лежала на спине, вернее, почти лежала, а моя голова покоилась у нее на правой груди. Левую грудь я обнял правой рукой, и мне почему-то казалось, что это моя мать. Очнувшись через неделю после лихорадки, после всех кошмаров, что мы пережили и через которые прошли, я испытывал настоящее блаженство, поэтому и подумал, что уже прошел проверку и Всевышний определил меня в рай. Я даже мысленно благодарил Его. Но чей-то голос и смех: «Ой, Зоя, смотри, оголец-то оклемался, глянь, зенками как зырит» – спустили меня на землю. Осторожно поднявшись и придерживая меня правой рукой, она спросила: «Ну как ты себя чувствуешь?» – «Хорошо, – машинально ответил я, – спасибо». – «Ну-ка на, выпей вот это». Мне поднесли какую-то пахучую жидкость в кружке. «Пей залпом», – сказала одна из женщин, что я и сделал. Меня всего передернуло, я аж чуть не подпрыгнул, как говорится, в зобу дыханье сперло. Потихоньку становилось все легче, и наконец я пришел в себя. Затем меня заставили похлебать чуток бульона, и я уже был почти здоров. Завязав в платок кусок какой-то коры, тетя Зоя сунула мне ее в карман брюк: «Завтра вас воры к себе перетянут, там все правильно будет, ты еще слаб и нуждаешься в уходе. Так что, если у самого не будет времени, передашь мне, я сама питье приготовлю, а то у меня нет больше, последнее тебе отдала, на здоровье». Вот такая была эта женщина. Я узнал, что она почти не спала всю неделю, пока я болел, и поила, и кормила меня. Женщины нам были очень рады, почти все годились нам в матери, а некоторые – в бабушки. У тети Зои на свободе остался сын моего возраста и престарелая мать. Арестантка и не рассчитывала их когда-нибудь еще увидеть, может быть, поэтому она меня выхаживала. Одно могу уверенно сказать, это была удивительная женщина, она мне спасла жизнь, и я ей останусь благодарен до конца своих дней. Я лучше, чем кто-либо, понимал и любил ее как мать, ведь сердце ее было как бриллиант чистой воды. И хотя острые грани могут резать стекло, тем не менее своей глубокой чистотой сердце тети Зои могло понять и откликнуться на людское страдание. Возможно, читая эти строки, кто-то ухмыльнется, можно ли отождествлять «бриллиант чистой воды» с бандиткой и каторжанкой. Отвечу словами поэта: «Часто в нашем мире все наоборот – умному презренье, дураку почет».
Часть III
Воровские университеты
Грубый и тупой человек, чья мелкая душонка открыта для скучных и низменных требований повседневной жизни, испытывает лишь насмешливое презрение при виде благородного сердца, неодолимой силой страсти погруженного в бездну страданий.
Деккер
Глава 1
В камере воров
Несколько шпанюков, что помоложе, встретили нас прямо у дверей и проводили в круг. Камера была точно такой же, какую мы только что покинули (только женщин там было человек сто или того больше), а здесь было немногим больше сорока. Но все, кто находился в этой камере, были воры. По своим габаритам камера была очень большой, и при таком малом количестве людей это резко бросалось в глаза. Цементный пол весь потрескавшийся, а кое-где из-за отсутствия больших кусков покрытия напоминал стройплощадку; два ряда сплошных нар, которые были изрядно изъедены насекомыми, и оттого все они имели множества маленьких отверстий; в углу в стене были выбиты полочки для пайки, ложек и кружек; в противоположном углу стоял сорокалитровый оцинкованный молочный бидон, он был черным от грязи и времени – это была параша. Над верхними нарами находились два зарешеченных почти наглухо окна, в которые с трудом пробивался дневной свет. Вот и весь незамысловатый интерьер той пересылочной камеры, как и многие тысячи ей подобных. На нижних нарах сидело около десяти человек, они образовали подобие круга, возраст их колебался от 40 до 70 лет. В центре круга на белой и чистой тряпочке лежало несколько больших кусков сахара, из алюминиевых кружек исходил аромат цейлонского чая, две открытые банки консервов «Килька в томатном соусе» и кусок голландского сыра дополняли стол из «деликатесов», который составлял по тем временам шикарное арестантское угощение. Вот к этому столу и пригласили нас те, кто встретил у дверей камеры. Поздоровавшись со всеми в отдельности, как и положено, мы присели в круг. «Ну что, босячки, намаялись?» – спросил у нас один из пожилых воров. «Ничего, в жизни может быть еще и похлеще, дай-то Бог, чтобы вас минула эта участь. Ну да ладно, угощайтесь чем Бог послал, не стесняйтесь и ни на что внимания не обращайте, ну а там ипогутарим». Дважды нам предлагать было не нужно, и мы принялись за еду не спеша, но с аппетитом, свойственным нашему возрасту и месту пребывания. По ходу трапезы мы непроизвольно стали осматриваться вокруг, чтобы немного познакомиться с камерой и ее обитателями. И то, что, хорошенько приглядевшись, мы увидели, нас очень удивило. На верхних нарах людей не было, там лежали скудные арестантские пожитки, да еще изредка кто-нибудь из шпаны забирался поиграть в стиры, чтобы убить время. На нижних нарах, с одного их конца и до другого, почти прижавшись друг к другу, лежали люди, но что это было за зрелище? Воображение рисовало картину: будто все они попали в окружение и пробивались из него с боем, но при этом многих потеряли убитыми, ну а остальные были ранены. Как читатель узнает чуть позже, в этом сравнении я ненамного отстал от истины. Те арестанты, которые встретили нас у дверей, еще могли как-то передвигаться, но и они все были изувечены и ранены. У кого-то не было глаза, у других были переломанные носы, поврежденные черепа, поломанные руки и ноги. Как я говорил ранее, на улице было уже прохладно, но в камере стояла почти невыносимая духота вперемежку со зловонием, поэтому все почти были по пояс раздетыми, и зрелище это было весьма впечатляющее. Тела людей были покрыты свежими, видно, недавно нанесенными страшными ножевыми ранениями, но уже успевшими загноиться, перевязанными пропитанными насквозь кровью и гноем бинтами и тряпочками, от которых исходил зловонный запах. Так выглядели те, кто мог передвигаться, каково же было состояние тех, кто лежал и почти не мог самостоятельно встать и дойти до параши. Я не берусь описывать подробно, достаточно сказать, что они медленно угасали, как некогда ярко горящие свечи. Забегая вперед, скажу, что за время нашего пребывания в этой камере, то есть за четыре месяца, померло больше двадцати воров – и все от неизлечимых ран и заражения крови. Но об этом более подробно я напишу в следующей главе, а пока, как говорится, приклюнув, чем Бог послал, мы стали знакомиться с братвой. Ну первым вопросом, естественно, был: «Где это их так?» Хотя некоторые представления, основанные на слухах в «Столыпине» и транзитных камерах пересылок, у нас были, но они и близко не напоминали ту картину, которую мы увидели. «На войне, пацанва», – ответил нам старый, лет под семьдесят, урка, вся голова которого была перемотана бинтами, а одна рука, тонкая как плеть, покоилась на повязке из парусины, перекинутой через шею. Я не случайно вспомнил этот краткий разговор со старым уркой, так как, прежде чем продолжить свое повествование, считаю своим долгом рассказать читателю, что же за войну имел в виду старый уркаган. Но прежде мне бы хотелось объяснить, кто же это – вор в законе, а затем уже перейти к войне и другим событиям.
Тема воров в законе сейчас стала такой злободневной, что, мне кажется, только ленивый журналист, телекомментатор или писатель не касается этой проблематики. Но что они знают об этом, из каких источников черпают свои знания, чтобы потом дурить мозги людям! Я постараюсь быть объективным и рассказать как о самих ворах, так и о законах, которых они придерживались. Прежде всего, в преступном мире такое словосочетание, как «воры в законе», не употребляется вообще. Ну и тем более сами воры никогда так друг друга не называли ни в глаза, ни за глаза. Я думаю, что это словосочетание пришло в литературу и в разговорную речь не из преступного мира, это точно. Мало того, даже слово «вор» употреблялось в обиходной речи преступного мира крайне редко, так как слово это, как для самих воров, так и для тех, кто живет этой жизнью, но еще не вступил в семью, свято. В обращении между собой, когда речь идет о ворах, обычно употребляются слова «жулик», «свояк», «шпанюк», «блатняк», «урка». Если хотят подчеркнуть, что именно этот человек вор, говорят: «Он в полноте» или «Он при своих». Если же интересуются, с какого времени, то спрашивают: «Давно ли был подход?» или «Давно ли ворует?». Ни один арестант не посмеет присвоить себе воровское имя, если он не был признан массой воров на сходке. Того же, кто пытался засухариться, ждала неминуемая расплата и, как правило, в последующем смерть. Вор и воровская идея – понятия неразделимые, я попробую сейчас объяснить это направление в преступном мире, если можно так выразиться. Но прежде мне бы хотелось рассказать один случай, который произошел водной из крытых в Тобольске и который во многом объясняет некоторые нюансы сложных воровских законов. Крытая – это вообще вотчина воровская, и где, как не здесь, происходит все самое важное и значимое для воровского братства. Где, как не здесь, решаются все мало-мальски важные, а порой и глобальные проблемы преступного мира в целом, которые ставит жизнь в образе гулаговского надсмотрщика над теми, кто волею судьбы оказался за колючей проволокой. Но крытая – это еще и своего рода сито, и не всем дано через него пройти. Так вот, в камере, в проходе, сидят двое шпанюков на нарах и ведут непринужденный разговор. В ходе разговора один, видно вспомнив что-то из прошлого, говорит другому: «Вот когда я был фраером…» Сказал и тут же осекся. «Что ты сказал?» – спросил второй. «Я оговорился», – ответил рассказчик. «Так не оговариваются», – сказал ему урка и тут же тормознул его. Слово «тормознул» в преступном мире употребляется только среди урок и только в тех случаях, когда кто-либо из воров совершил не подобающий вору поступок или высказался вразрез с воровскими канонами, что и произошло в этом случае. При подобного рода обстоятельствах до тех пор, пока тот, кого тормознули, не соберет по этому случаю воров, чтобы на сходняке масса решила его дальнейшую судьбу, он не вор. В том случае, о котором я рассказывал, человек этот собрал воров – и что же? На сходняке воры единогласно решили, что человек этот попал в семью случайно, и «оставили его не вором». А это значит, что уже никогда ему не войти в семью, и называться вором он не сможет. Но не надо путать два разных понятия – «тормознули» и «оставили не вором», что сплошь и рядом делают по незнанию те, от которых, к сожалению, иногда многое зависит как в тюрьме, так и в лагере – я, конечно, имею в виду общее положение. Почему же урки порешили так, а не иначе? Да потому, что не мог жиган быть сначала фраером, а уж потом стать вором. В воровском мире, по большому счету, нет иерархической лестницы, ибо ворами не становятся, ими рождаются. Это одна из аксиом преступного мира. Думаю, никто особенно не удивится, если я скажу, что, будь то Россия царская или Россия революционная, время нэпа или перестроечный период, воры в среде преступного мира были и останутся самой привилегированной кастой. Другое дело – профессии: карманник, домушник, медвежатник, майданщик, форточник, ручечник и прочие – все они, по своей сути, были ворами, то есть настоящими ворами, а профессии говорили о том, на чем он специализировался. Вору не только самому претило, но, даже находясь в преступной среде, он не имел права убить, изнасиловать или что-либо отнять. Эта «каста избранных преступников» формировалась потихоньку, внося по ходу жизни свои коррективы, поправки и всякие новшества для чистоты и упрочения своих рядов. Основную же роль «воровского братства», которое повлияло на жизнь и деятельность преступного мира в целом, я думаю, следует отнести ко временам нэпа. В это время уже определились некоторые основные воровские каноны, которые и по сей день свято чтут в воровской среде. Некоторые из них были с годами пересмотрены, ведь жизнь не стояла на месте. Опишу часть из них.
Изначально вор не мог жениться, даже паспорт советский иметь ему было западло. Но с годами, согласуясь с принципом, что любая вера должна быть во благо людское, воры все же на тех же всесоюзных сходняках начали приходить к выводу о нецелесообразности некоторых первоначально установленных канонов и стали пересматривать их, так как они были уже неактуальны и не соответствовали духу того времени. Приведу один пример. До 1974 года вся камерная система ГУЛАГа была до отказа забита теми, кто отказывался пришить на робу бирку Это были в основном бродяги и воровские мужики, а по тем временам, можно сказать, они составляли половину всего контингента заключенных страны. О ворах я вообще молчу, так как это был само собой разумеющийся принцип, они сидели в крытых. По большому счету, бирки не были чем-то из ряда вон выходящим с воровской точки зрения. На маленьком кусочке материи писались фамилия, имя, отчество и отряд, в котором находился заключенный. То есть это были номера, как в концлагере. Думаю, что это была одна из причин, почему многие отказывались пришить злосчастный кусок материи. Еще одной препоной служило то, что лагерная нечисть пришивала себе разного рода нашивки и носила повязки. Они были красного цвета и обозначали принадлежность к какому-либо из лагерных красных комитетов. Бирка же была обычным куском серой материи и должна была обозначать лишь ваши личные данные. Но тем не менее ее не хотели пришивать, а администрации из ГУЛАГа, видно, был дан строгий приказ на этот счет – не идти на попятную. В то время даже все крытые страны в основном были забиты теми, кто отказывался пришить бирку. Когда ситуация стала катастрофической, так как тысячи порядочных людей буквально гнили в гулаговских застенках, а это был не тот случай, когда нужно класть на алтарь Идеи жизнь многих людей, в сангороде, на станции Весляна, в Коми АССР, собрался сходняк, на котором воры порешили: «Кто желает, может бирку надевать, и при этом поступок не будет вменяться ему в вину». Как известно, лагерный телетайп работает быстрее обычного, а потому в самый короткий срок эта проблема была решена по всей стране, точнее будет, наверное, сказать, по всем тюрьмам и лагерям страны. Я сам в то время сидел в Коми АССР, в Княж-погосте, общался со многими урками, которые были на этом сходняке, в частности с Песо, Колей Портным и многими другими. И хорошо помню ту пору и те проблемы, которые ставила жизнь в лагерных таежных условиях, да и не только таежных. Кстати, в управлении в то время были такие именитые воры, как Вася Бриллиант, он сидел на особом режиме на Иосире, в одиночке, вместе с другим, не менее именитым вором – Русланом Осетином. Там был также и Песо – о нем, когда он умер в 1985 году (а жил он в Москве), столичные газеты писали: «Умер крестный отец советской мафии, вор в законе Песо» – таким огромным был его авторитет в преступном мире. На похоронах за гробом этого легендарного авторитета преступного мира выстроилась вереница из трехсот с лишним машин, некоторые из них были с посольскими номерами. Вот с ним мне посчастливилось пообщаться и в Княж-погосте, и в сангороде на Весляне. Много чего я перенял у него, много чему научился, но об этом этапе моего жизненного пути я расскажу чуть позже, чтобы не прерывать хронологию событий. В то время на слуху были имена таких знаменитых воров, память о которых в преступном мире чтут до сих пор, – это Коля Портной, Гена Карандаш, Леня Дипломат, Джунгли, Боря Армян, Студент, Бичико, Слава Сеня и многие другие.
Глава 2
Воровское братство
Не так давно по телевидению я слышал интервью с одним «очень знающим» человеком из аппарата МВД. На вопрос телеведущего, откуда же появились воры в законе, он на полном серьезе стал нести такую чушь, что я чуть не разбил телевизор. По его мнению, сама идея появления воров в законе в свое время родилась в кабинетах НКВД и была внедрена в систему ГУЛАГа для якобы противостояния какой-то иной силе. Но затем вышла из-под контроля, разрослась и укоренилась, то есть выходит, что сама идея создания этого клана – детище НКВД. Не знаю, может ли еще кто-то, хоть немного разбирающийся в этой проблеме, сказать такую чушь, – думаю, вряд ли. Я постараюсь объяснить, как же все это в действительности происходило. До 1961 года, то есть до хрущевских реформ, о которых я упоминал в начале книги, в воровскую семью можно было войти очень просто. Живя на свободе за счет воровства и, естественно, соблюдая основные каноны воровского братства, человек, переступивший порог тюремной камеры, на вопрос, кто он по жизни, естественно, отвечал – вор. И этого было достаточно для определения его дальнейшего жизненного пути, связанного с преступным миром. Правда, его прошлым интересовались, но каждый знал, что это входит в ритуал, а потому обид ни у кого не было, все понимали, что это делается для чистоты воровской семьи, так как и тогда находились сухари, которые успевали немало воды намутить. В общем, никто на пробивку не обижался и тем более не волновался о своем прошлом. То есть, говоря языком чисто воровским, раньше «подходов не было». Этот термин относится как к довоенному периоду, то есть постнэповскому, так и к послевоенному, до реформ 1961 года. Как я ранее отмечал, в преступном мире были и есть три масти: вор, мужик и фраер, и никаких перестановок за все это время не было. Все они сидели, да и сейчас сидят вместе. Но были и отдельные зоны воровские, так же как отдельными были и так называемые сучьи зоны. Хочу заметить, что по воровским законам если вор находится в камере, в тюрьме, в лагере или даже в городе, то автоматически и камера, и тюрьма, и зона, и город считаются воровскими. В сучьих зонах сидели, мягко выражаясь, ренегаты, продавшие все и вся, что только может продать и предать гомо сапиенс для удовлетворения своих животных и самых что ни на есть низменных потребностей. И вот начались реформы 1961 года, и один из методов, которые ГУЛАГ решил применить для искоренения всего воровского, – сучья война. Но здесь и правительство и ГУЛАГ сильно просчитались, а поговорка «не было бы счастья, так несчастье помогло», в пользу воров, конечно, здесь будет весьма кстати. Так вот, всех сук погрузили в «Столыпин» и повезли по намеченному маршруту для уничтожения воров, а в это время в воровской зоне каждый занимался своим делом, ни о чем не подозревая. Но до этого начальство загнало мужиков на биржу или отправило на лесоповал, поскольку в любой лагерной войне мужики всегда были на стороне воров. Происходило это кровопролитие обычно сразу после утреннего съема, когда воры почти все еще спят. Как только ворота закрывались за мужиками, которых отправляли на работу, они вновь открывались и в лагерь запускали сук. С воинствующими криками, как дикое туземное племя, суки летели, сжимая в руках ножи, штыри и стилеты, и все это тут же обрушивалось на спящих воров. Конечно, после такого внезапного нападения половина воров лежали мертвыми, зато вторая половина, мгновенно очухавшись, не оставляла шансов выжить ни одному из сук и билась не на жизнь, а на смерть. И хотя на стороне этой нечисти были такие преимущества, как внезапность, численное превосходство и физическая сила (они были откормлены, как свиньи), все же в конце концов они бежали к вахте, оставляя своих собратьев убитыми на «поле брани». В борьбе между людьми, отстаивающими и борющимися за Идею как таковую, независимо от того, воровская ли это Идея или какая-то другая, и так называемыми «борцами» за материальные блага и животные потребности, естественно, верх одерживают первые. Видно, с самого начала при разработке плана реформ это обстоятельство учтено не было, и поэтому позже начальство ГУЛАГа решило подновить программу, вот тогда и были введены придуманные им подписки. Вот как это было. После резни тех воров, кто остался в живых, развозили по пересылкам страны, чтобы затем осудить и отправить в крытые, но и до пересылок доезжали не все. Перед этапом на воров надевали наручники и выстригали посередине головы полосу – это была «инструкция» для конвоя, который сопровождал этап. Порой от лагеря до станции приходилось идти по 15–20 километров, а то и больше, машины туда не ходили, так как таежные дороги, если можно назвать вырубку посреди тайги с невыкорчеванными корнями дорогой, в любое время года были почти непроходимы. Можно себе представить, как передвигались изрезанные, искалеченные, больные люди по этим таежным тропам. Колонна охранялась конвоем с собаками по краям. При малейшем шаге в сторону стреляли на поражение без всякого предупреждения. Поправишь шапку рукой, – значит, лишишься кисти: в меткости эти молодые снайперы успели поднатореть. Марш-бросок на выживание, по-другому и не назовешь такой этап. Тот, кто был послабее, оставался лежать на снегу или в грязи, в зависимости от времени года, с простреленной для верности головой. По прибытии колонны на станцию составлялся формальный протокол, затем урок заталкивали в «Столыпин» и отправляли по пересылкам и тюрьмам. Помимо воров в «Столыпине» находились и другие арестанты. И вот здесь, чтобы конвой не напутал, и нужна была полоса на голове. Конвою разрешалось все, у них были неограниченные права на истязания арестантов при малейшем волнении. Поэтому воров не просто били и истязали, а очень часто убивали, не довезя до места назначения. И это сходило им с рук, по крайней мере, за это никто не отвечал, ибо воры были не в законе, как принято было говорить, а вне закона, как было на самом деле. Забегая вперед, скажу, что в камере, куда мы попали, как раз и были воры, которые прошли весь этот кошмар, но это еще далеко не все. Впереди у этих бедолаг были неменьшие испытания, впереди у них были ломки. Но все по порядку. После бойни с суками воров осуждали на крытый режим из того срока, что у них оставался, правда, больше трех лет по закону не имели права давать, но для некоторых эти годы были ценою в жизнь. Крытых тюрем по стране был не один десяток, – например, в таких городах: Тобольск, Златоуст, Владимир, Соликамск, Елец, Новочеркасск, Шуша, Махачкала, Тбилиси, Чистополь, Балашов и многие другие. Но самой лютой считалась крытая в Соликамске. «Белый лебедь» – такое экзотическое название имел этот земной ад. Среди каторжан это место называлось «всесоюзный бур». Хозяином здесь был генерал, к сожалению, я запамятовал его фамилию, но это, думаю, не столь важно, кстати, он тоже был фронтовик. Фашисты в своих концентрационных лагерях были сущими детьми перед этим садистом, деспотом и палачом в одном лице. Ему, видно, так хотелось выслужиться перед начальством, которое доверило ему столь важный пост, что безграничное честолюбие у него сочеталось с беспредельной жестокостью. К несчастью для урок, он был в то же время человеком увлекающимся, его подобие, мне кажется, следует искать среди хищных и кровожадных животных. В нем было что-то и от волка и от гиены – не только в отношении поведения, но и во внешности. Вот далеко не полный портрет начальника Соликамской тюрьмы-крытой «Белый лебедь». В самой тюрьме надзирателя можно было увидеть крайне редко – не то чтобы их здесь не было, они были, но номинально. Их заменяла все та же нечисть, но уже более изощренная и обновленная, и кто бы вы думали? Но не станем торопиться. После фиаско, которое эта падаль терпела всегда в войне с ворами, менты давали сукам возможность отыгрываться в крытых, и методы, к которым те прибегали, отличались особой жестокостью, садизмом и бесчеловечностью. Иногда суки в изощренности превосходили своих хозяев-мусоров.
Итак, приходит этап в тюрьму. Как обычно, сначала устраивают шмон, а затем всех выдворяют в карантин, и вот отсюда, можно сказать, и начинается ломка. Что такое ломка? По ходу рассказа читатель узнает о тюремных экзекуциях, чинимых над ворами. Воровской этап встречал сам Хозяин со словами: «Вы сами знаете, что прибыли в «Белый лебедь», а здесь для вора свал один – только в могилу. Так что во избежание лишних мук и страданий, кто в себе не уверен, лучше сразу к микрофону, косяк в зубы – и в «красный уголок». Ну а остальные пусть готовятся». Затем выводили на так называемую комиссию, а там уже проходил естественный отбор. Кто был лишь в воровской оболочке, давали подписки, то есть подходили к микрофону, называли свое имя или кличку и отрекались от воровской Идеи. Мало того, их еще заставляли ругать воров всякой нецензурной бранью. После такой процедуры эта падаль уже была блядь. Но блядь и суки, хоть по своей сути почти одно и то же, все же были разные понятия. Блядью называли только тех, кто был когда-то в воровской оболочке, не иначе. Позже их стали называть прошляками, еще позже это нарицательное слово стало звучать вроде как с достоинством для тех, кто еще оставался в заключении. Ну а кто такие суки, я уже писал. Трудно себе представить, что может чувствовать человек, именовавшийся недавно вором, который затем, не выдержав испытаний, учиняет беспредел вместе с той падалью, против которой сам некогда воевал. И против кого? Против бывших собратьев. И винить ему, кроме самого себя, некого, а это признать может не каждый. Но ведь от себя не убежишь. И чтобы заглушить чувство собственной вины, эти негодяи шли на всевозможные пытки и изощрения, в которых они с годами здорово преуспели. Видно, в этом они находили успокоение своей помутненной совести, если она еще оставалась у них на то время. После процедуры отбора воры готовились к ломкам. Сначала их сажали на фунт, то есть на самую пониженную норму питания, хлеба при этом давали 400 граммов, отсюда и пошла поговорка: «Дело не в хлебе, но почему 400?» По полгода, а то и больше, держали на фунте, где-нибудь в двойниках или в тройниках, подальше от общения с братьями, чтобы ослабить организм и убить душу. А затем начинались главные процедуры, вору необходимы были терпение, выдержка, сила воли и мужество, чтобы пройти с достоинством этот нелегкий этап воровской жизни. Воров подвешивали за руки и били палками по пяткам, привязывали к батареям и били дубинками до тех пор, пока не уставали сами. Зимой загоняли в одних портках в камеры с минусовой температурой и оставляли до тех пор, пока люди не превращались чуть ли не в льдины. Но воры терпели. Вот после этих истязаний мог произойти раскол. Кто не выдержал, тот ушел к блядям, кто выдержал, остался вором. Сколько же урок было замучено и погублено этой сворой оголтелых псов, знает только Всевышний и еще, наверно, архив ГУЛАГа. Так на «Белом лебеде» замучили одну из живых легенд воровского мира – Васю Бриллианта. Здесь же, в Соликамске, босота и похоронила его. А сколько воров похоронено на тюремном погосте? Царство им всем небесное. Вот что я имел в виду, когда писал, что правительство и начальство ГУЛАГа просчитались, решив уничтожить воров путем сучьих войн, подписок, ломок и прочих истязаний. Ибо где, как не в огне и пламени, закаляется человек, ну а нелюдь, само собой, не проходит этих испытаний и таким образом показывает свое истинное лицо.
Глава 3
Воровские авторитеты
Я уже писал раньше, что в 1997 году находился в Бутырках и был на положении в «аппендиците» – так арестанты называют этот корпус, потому что он связывает два основных корпуса: пятый и шестой. Тогда нас, положенцев, в тюрьме было трое. За пятым корпусом смотрел Игорь Люберецкий, за шестым – Рамаз, ну а помимо «аппендицита», за мной был еще большой спец. Дел хватало всем, порой я еле добирался до шконки – так уставал, да по возрасту я был старше всех самое малое лет на десять. Из воров, которые были в то время на централе, только Дато Ташкентский и Коля Якутенок были моими ровесниками. В то время Коля Якутенок сидел в 97-й камере. По какому-то вопросу он позвал меня к себе, так как возможность перемещаться была только у положенцев. Почти всех воров держали в тройниках. В общем, после трудов праведных Якутенок предложил мне остаться у них до утренней поверки, обстоятельства тому благоприятствовали, и я остался. Знали мы друг друга очень давно, так что было что вспомнить. И вот Коля рассказал мне, как он «Белый лебедь» прошел. Тогда в Соликамск со всего Урала съехалась шпана, да Коля и сам был родом из Перми. Так вот, они сказали Хозяину: «Если хоть один волос с Якутенка упадет, тюрьму по кирпичику разберем, а до вас, блядей, доберемся». Не тронули Колю, побоялись, Хозяин знал, что здесь уже не шутят, когда дело касается такого авторитета, не за каждым вором может целая область приехать. Я хоть и слышал про этот случай от других воров, но от самого Якутенка, конечно, услышать было интересней. Недавно видел по телевизору, как его убили в казино в Перми.
Знал я еще одного старого вора, прозвище у него было Кукла. Хотя знал, возможно, сильно сказано, но общение какое-никакое было. Я тогда «работал» в Москве, в одной бригаде с Леней Дипломатом, Геной Карандашом и Пашей Цирулем. Мы жили на даче в Подмосковье, так вот захаживал к нам на огонек Кукла. По профессии воровской Кукла был кошелечник. На этом самом «Белом лебеде» Кукла провел восемь лет, и все в одиночке. Вдумайтесь только. Даже те, кто в общей сложности просидел по 20–25 лет, и то с трудом поймут, что такое восемь лет на «Белом лебеде», да еще и в одиночке. Хозяин там был с причудами, этакий экспериментатор, думал, наверное, что скоро страна дойдет до такого маразма, что и на эти темы будут писать диссертации подобные ему деспоты. Вот такой или почти такой сценарий был почти во всех крытых.
Как в связи с этим не вспомнить тюрьму в Златоусте. Там всем заправлял кум, ему самому в конце концов дали десять лет за издевательства и пытки. Он в буквальном смысле морил людей голодом. Дошло до того, что в камерах начали играть на пайки и на кровь. То есть проигравший отдавал свою пайку за день или за несколько суток – в зависимости от того, на сколько дней он играл. Что касается крови, то проигравший резал себе вену и спускал кровь в кружку. Сколько проиграл, столько и сливал, а выигравший пил ее. Конечно, все эти ужасы происходили среди сук, мужики, а тем более воры такого себе не позволяли – они порой медленно умирали, но умирали достойно, как люди. Этот гад доходил до того, что непокорных иногда закидывал в камеру к блядям, бросал плитку чая и отдавал короткую команду: «Изнасиловать!» Сколько достойных и порядочных людей лишились там чести, ну а потом, естественно, и жизни. Обойтись без ломки не удавалось ни одному вору. Но зато после этих прожарок оставались избранные. Вот и порешили воры на общем всесоюзном сходняке, что вором может считаться только тот, кого признает масса воров, а не тот, кто, как некогда, объявлял себя сам. Среди общих масс эта процедура стала называться коронацией, среди бродяг подход. Да, в то время право войти в семью нужно было заслужить – и это было уделом избранных. Тот, кто хотел войти в семью, должен был постоянно общаться с ворами, так как прежде всего претендент на корону должен был учиться познавать мир в реальности и обучаться всему воровскому укладу. Почему, что бы у кого-нибудь ни случилось, за помощью обращаются в основном к ворам? Потому что знают, они положили свою жизнь на алтарь Идеи. Правда и справедливость – вот две воровские путеводные звезды. Даже не каждый, кто сидит в тюрьме десяток лет, может это понять. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: вором нужно родиться, а по ходу жизни учиться, чтобы в дальнейшем смело войти в семью. Но прежде чем войти в нее, ты задолго до сходняка ставишь воров о своем решении в известность. Затем по твоей просьбе кто-то из именитых воров представляет тебя на сходняке, ну а по ходу сходняка общая масса воров решает, принять тебя в семью или еще повременить. Вот такая долгая, а главное – тщательно продуманная процедура определяет дальнейшую судьбу молодого вора. После того как урка в полноте, он обычно выезжает за пределы того региона, где живет, для общения со своими братьями на других сходняках. Обычно это такие центры, как Москва, Питер, Новосибирск, Ростов, Одесса и прочие большие города, где часто собиралась масса воров. Вообще, вор редко сидел на месте. То его вызывали на сходняк, то надо к братьям в крытую, то в лагерь, то арестанты зовут в тюрьму для разбора какого-либо вопроса. А в остальное время воровали и кайфовали. Но перво-наперво это забота о тех, кто был в неволе. Хочу также заметить, что любые новшества, введенные в каноны преступного мира, утверждались только на воровской сходке. И если эта проблема глобальная, то воры съезжались из всех регионов и даже стран. Государство может устанавливать границы, может разрушать их, вести политику геноцида или демократии, для вора же, равно как и для самой воровской идеи, нет ни границ, ни национальности, ни возраста, ни вероисповеданий. Если он вор, этим все сказано. Будь он хоть на Луне – он вор. Воровские законы никем не писаны, но их чтут порой больше, чем любые другие законы. Пусть не посчитают меня богохульником, но откройте Святое Писание. За исключением заповеди «не укради», все сходится с воровскими канонами. Исходя из того, что любая вера во благо и на благо, вывод оставляю сделать все тем же читателям. Некоторым может показаться, что я призываю людей жить по-воровски, уверяю, это ошибочное суждение. Я так четко обрисовал воровские каноны для того, чтобы молодежь поняла бессмысленность жестокостей, убийств, грабежей и разбоев. Наша жизнь, вероятно, канула в Лету и не вернется. Но, зная, как жили люди, через что они проходили и не ломались, при этом никогда не брали в руки не только какое-либо оружие, но и не допускали к нему никого, – зная это, я думаю, что молодое поколение призадумается и сделает свои выводы. Я на это надеюсь. Нигде в мире нет понятий о воровской Идее, так же как и о ворах в законе. Эта прерогатива исключительно России. В последнее время все чаще стали отождествлять такие абсолютно разные понятия или, можно сказать, два преступных направления – воров и мафию. Десятки лет тяжелый железный занавес закрывал нам дорогу для общения с другими народами. О жизни на Западе мы могли лишь догадываться, листая случайно попавшие к нам иностранные журналы. Когда же началась перестройка, поток информации, хлынувший с Запада, буквально заполонил рынки разного рода продукцией, в частности кинофильмами о мафии во всех ее ракурсах. Кто не видел кинокартину «Крестный отец»? Думаю, видели все. Хороший фильм, слов нет. Он многое объясняет: начало становления мафии, уголовную жизнь, противостояние кланов, борьбу крестных отцов и прочее. В этой книге читатель может проследить путь становления и упрочения воровской Идеи в России, а также в достаточной степени понять законы, которыми руководствуются воры. Теперь же мне хотелось поговорить о мафии – и, возможно, провести параллели. О том, что мафия пришла в США из Сицилии и первым кланом в США стала коза ностра, знают, пожалуй, все, так же как и то, что само слово «мафия» сицилийское. Со временем оно стало отождествлять все преступное, то есть преступные сообщества и их действия, как в масштабах отдельных регионов, так и в масштабах стран и даже континентов. И в конце концов с поднятием того же занавеса это слово перекочевало к нам в Россию. И хотя в Америке и не было революции в начале прошлого века, но и там, так же как и у нас, воровали, и их граждан также сажали в тюрьму с той лишь разницей, что у них демократия была и есть основной принцип государственности. Для того чтобы уходить в строгое подполье, создавать кланы со своими строгими канонами, у преступного мира США не было причин. У них была все та же демократия, которая защищала от любых неправомерных действий как министра, так и вора. И мне даже кажется, если бы правительство США в свое время не ввело сухой закон, возможно, и не появились бы гангстерские кланы, то есть все та же мафия. Чем жестче государство проводит в жизнь свои директивы в отношении преступного мира, тем изворотливее и осторожнее становится он. Но в США опять-таки демократия защищала граждан, в том числе и преступивших закон, от произвола мафиози. Тогда как у нас изгоев общества не защищал никто, и меньше всего – закон, так как в стране был террор и полный беспредел на государственном уровне. А в Америке мафия пускала корни во все слои общества, не встречая никаких серьезных препон со стороны властей. Основная цель деятельности мафии – участие в экономике страны, а значит, и присвоение капитала. Путь добычи этого капитала у мафии, как многие видели по фильмам, всегда залит кровью. Спекуляция оружием, наркобизнес, убийства и всякого рода жестокости и насилие. Тогда как неписаный воровской закон гласит: никто не имеет права поднять на человека руку, не имея на то веских оснований. Руку, а не автомат или пистолет.
Ни один вор не позволит замарать себя какими-либо спекулятивными действиями, каких бы барышей они ни сулили. Воровской закон по этому поводу строг и однозначен. Деньги любят безусловно все, деньги нужны всем, и это ясно как белый день. Но у воров же есть общак, по этому поводу даже существует поговорка: «Общак – дело добровольное». Нужны ли комментарии? Что такое общак, я опишу в дальнейшем, сейчас же хочу продолжить свою мысль. Думаю, в некотором роде параллели я провел. Мафия – это любые средства для достижения цели ничем и никакими методами не брезгающих людей, тогда как воровская Идея в нравственном смысле стоит над всем низменным и подлым. Каноны воровской этики для всех едины, для всех закон. У мафии и воров есть и схожие черты. Законы мафии гласят: семья превыше всего. То же самое и у воров. Семья, то есть братья, священна. Почти так же как в мафию, принимают избранных. Вор входит в воровскую семью при том же собрании единомышленников, что и мафия, только на сходке. Вот в принципе общие черты мафии и воровского дела.
Глава 4
Уход за ранеными
Когда переступаешь порог камеры – независимо от того, в первый или сотый раз, – мозг еще не успевает осознать реальную действительность, но какое-то чувство подсказывает тебе царящую в ней атмосферу или настроение ее обитателей. Так вот, атмосфера в камере может быть напряженной и натянутой, что в принципе одно и то же, или, напротив, простой и непринужденной. И твое внутреннее чутье может даже приблизительно угадать дальнейший ход событий.
Здесь, в камере, среди воров мы с первых минут поняли, нет, скорей, почувствовали ту простоту и непринужденность, которые свойственны лишь философам и бродягам, и поэтому и мы были абсолютно спокойны. Как читатель помнит, все мы здорово переболели, а я особенно – чуть богу душу не отдал, поэтому мы были еще очень слабы. Но тем не менее уже через несколько часов мы перевернули камеру вверх дном. Облазили буквально каждый угол, все пощупали, посмотрели. Ничто не могло и не должно было от нас укрыться, ведь нам предстояло здесь жить. Как любящий отец смотрит на детей своих, так же смотрели на нас эти больные и изможденные люди, радуясь за нас, что наконец-то мы можем немного отдохнуть после стольких мытарств и страданий. Это удивительное качество дано, к сожалению, не каждому: радоваться тому, что кому-то хорошо. Эти люди, когда мы познакомились поближе, стали учить нас видеть в людях только хорошее, а плохое само вылезет наружу, если оно есть, искать его порядочному человеку не подобает. Они радовались тому, что кому-то где-то как-то подфартило. Никогда не оставляли человека в беде, независимо от его убеждений, национальности и вероисповедания, конечно если он не был блядью, и всегда готовы были поделиться последним. В камере был строгий арестантский порядок, хотя человеку несведущему понять это было трудно, ну а мы хоть еще и не считали себя бывалыми, да и не были ими, но и за дилетантов себя не держали. И мы поняли: мы дома. Каждый, кто мог что-то делать, делал. А это были те, кто встретил нас, то есть те, кто мог хоть как-то передвигаться. Одни стирали бинты и сушили их вдоль верхнего яруса нар, другие ухаживали за ранеными, то есть за теми, кто без посторонней помощи не мог дойти даже до параши, третьи готовили пищу и варили чай, четвертые были на проводе, то есть разговаривали у кабура, или принимали грузы, в общем, каждому было чем заняться. Даже когда открывались двери, не было обычной камерной суеты. Тот, кто мог лучше изъясняться с окружающими, обычно и брал на себя эту миссию – конечно, не без всеобщего одобрения, – остальные занимались своими делами. Даже голос никто ни на кого не повышал, обхождение друг с другом было исключительно деликатным. Сейчас, вспоминая то время, я представляю, что бы было с ворами, если бы не всеобщая братская помощь арестантов. Никто из них не оставался равнодушным к страданиям другого. Почти из всех камер шли пересылки, и каторжане старались поделиться всем, чем Бог послал, но тем не менее почти каждую неделю кто-то из них умирал, и с этим ничего нельзя было поделать. Естественно, мы делали все, что могли, но этого было недостаточно. Необходимо было квалифицированное – где хирургическое, а где терапевтическое – вмешательство, нужны были медикаменты. Но увы, система была направлена на уничтожение этого клана, так что ни о какой медицинской помощи извне не могло быть и речи.
Правда, очень многих спасли женщины, их внимание, участие и любовь к ближнему творили чудеса, честь им за это и хвала. Как читатель помнит, сидели они через стенку. Каких только целебных отваров и настоев они не готовили, – многим они помогли выжить. Они даже умудрялись сшивать белые лоскутки ткани и делали из них бинты. Да разве можно передать на бумаге женское тепло, душевное расположение, ведь малейшая ласка для узника может превратить мрачное небо в лучезарный свод. Долгие годы жизни в лагерных условиях многому их научили, ну а любви и заботе к ближнему женщину учить не надо, это ей дано от Бога. Просить надзирателей, чтобы передали что-либо, не было необходимости, кабур был такой, что голова ребенка смело могла пролезть, вот женщины и передавали нам все, что нужно. Так же как и остальные бродяги, кто мог ходить и что-то делать, мы тоже стали помогать раненым кто чем мог. Время для нас летело незаметно, мы даже порой не знали, какое сегодня число или день недели, – до такой степени были загружены заботами о людях. Я в основном ухаживал за теми, кто не мог ходить, это, видно, у меня было заложено с детства, так как всю свою жизнь, пока не умерла моя мать, я видел перед собой белый халат и до сих пор имею к нему уважение. Может ли нормальное человеческое воображение представить себе такую картину? На нижнем ярусе нар лежат в один ряд искалеченные и изуродованные люди. Слышатся стоны и бред умирающих. Нет обезболивающих, да и вообще нет никаких лекарств. Одному Богу известно, как стойко переносили адовы муки эти люди, ибо просто больными назвать их было нельзя. Проникающие ножевые ранения, гниющие раны, гангрена рук и ног, переломанные носы и ребра, в нескольких местах пробитые головы, выколотые глаза. Порой неделю-другую ухаживаешь за человеком, а он, улыбаясь, говорит тебе: «Спасибо, родной, скоро уже поднимусь, намного легче стало». А на следующий день подходишь, а он уже холодный. Терпел, бедолага, боль, чтобы в меня вселить уверенность в то, что наши труды и заботы не напрасны. Ведь если упокоился один, то, может быть, десять встанут на ноги. Недавно я услышал фразу: «Он видел столько покойников, что уже привык к смерти». Это полная чушь и бахвальство! К смерти привыкнуть нельзя, сколько бы раз ни пришлось ее увидеть. Притупиться чувство, наверное, может, да и то, скорей всего, на войне или при какой-то страшной эпидемии, но привыкнуть – нет. Не заложено от природы это в человеке!
Хоть я и пришел в камеру после болезни, еле держась на ногах, да и пока находился в ней, не только видел смерть и страдания умирающих людей, но и ухаживал за ними со всем вниманием и заботой, на какую только был способен, все же сам я физически окреп. Видно, молодость взяла верх над суровой жизненной реальностью, то же самое относилось и к моим друзьям. Сейчас нас было уже не узнать. Женщины, по-матерински заботясь о нас, справили нам более-менее приличную одежонку. К нам вернулся юношеский задор и здоровье, а урки вселили в нас уверенность и дали почувствовать, что мы что-то значим в этом мире. И мы были благодарны Богу на небе и людям на земле.
Так прошло больше трех месяцев, близился Новый год. Много перемен произошло за этот период нашего заточения на свердловской пересылке. Женщин отправили в этап, что для всех нас было огромной потерей. Не берусь даже описывать то, как я прощался со своим ангелом-хранителем в обличье прекрасной каторжанки, в бушлате и калошах, чтобы больше не встретиться с ней никогда. Немало воров развезли также по крытым тюрьмам, многих мы проводили в последний путь. Из тех же, кто остался, почти никто не мог ходить, и вся забота о них лежала на нас. Но за это время привезли много новых урок из разных лагерей – движение было постоянным, круглые сутки, месяцы, годы, и ничто, казалось, его не сможет остановить, если только не конец света. Нас почти никто из администрации не тревожил, за редким исключением, поэтому мы были уверены, что со дня на день нас вывезут. И надо же, чтобы именно в канун Нового года нас заказали на этап. Как мы ни были подготовлены к предстоящей разлуке, все же это известие привело нас в некоторое замешательство. Что ни говори, а тяжело прощаться с людьми, с которыми в буквальном смысле сроднился душой и сердцем, а кроме того, знали, что почти ни с кем из них в этом мире мы уже не встретимся. Попрощавшись со всеми чисто по-жигански и взяв по своей фартецеле, мы пошли к уже давно открытым дверям, где нас терпеливо ждал конвой. Охранники не говорили ни слова, уважая наши чувства, ведь подлинное горе вызывает сочувствие даже у самых равнодушных людей. И я уверен, что, так же как и у меня, у остальных ребят стоял ком в горле, но о таких вещах у нас не принято распространяться, это привилегия женщин. И опять «Столыпин», и все те же процедуры: перетасовки, шмон, оправка и прочее. Все было то же, только мы были уже не те, что раньше. Почти четыре месяца, проведенные среди этих людей, научили нас очень многому. В том возрасте, в коем мы пребывали, люди всегда чему-нибудь учатся либо по необходимости, либо по принуждению, либо по желанию или, точнее, по велению сердца. Думаю, нетрудно догадаться, к какой категории учеников принадлежали мы. Простившись с нашими старшими братьями, мы навсегда простились не только с ними, но и с детством. Никто из нас, естественно, не знал, что ждет нас впереди, зато каждый усвоил, что без доброты и благородства, чувства долга и чести нам никогда ничего не добиться. Разговаривая с кем-нибудь, мы уже старались не перебивать человека, когда он пытался излить боль и горечь, лежащую у него на сердце, зная, что нужно дать высказаться человеку и тем самым облегчить ему душу. Надо уметь слушать, всегда говорили нам, и особенно в неволе, умение слушать дано не каждому, и этому надо учиться. Теперь, прежде чем потребовать что-либо у начальства, мы не ругались и не кричали на них, не выламывали двери и не били стекла, а старались с видимым спокойствием, на которое только были способны, попросить то, что нам тогда было необходимо. Мы теперь твердо знали, что добиться чего-то в этой системе можно, но только вступая в диалог, а не круша и громя все подряд, объявляя голодовки и перерезая себе вены. Конечно, без крайних мер тоже было не обойтись, но меры эти должны были применяться только в крайних случаях. Мы обязаны быть культурными и вежливыми всегда и везде – это одно из воровских правил, которым необходимо было учиться. Но хотеть и быть – это разные вещи, поэтому мы и учились с энтузиазмом, свойственным одержимым натурам, а в том, что мы одержимы, сомневаться не приходилось. Даже друг с другом мы разговаривали крайне редко, стараясь понять то, что нужно, без слов, одним только взглядом. С посторонними же мы почти вообще не разговаривали, исключая крайнюю необходимость. В общем, напутствий нам на дорогу было много, и мы старались претворять их в жизнь.
Глава 5
Снова этап
Конвой нам попался неплохой. Как только они управились со всеми своими обязанностями, мы попробовали поинтересоваться как бы между прочим о конечном пункте нашего маршрута, и, к нашему удивлению, сержант просмотрел все четыре дела – и через несколько часов мы уже знали, что едем в Георгиевск. Больше того, после этого он тут же предложил нам водку и одеколон. Я забыл упомянуть, что ехали мы опять отдельно ото всех, это предписание на наших личных делах так и оставалось в силе. Но нам оно уже не особенно мешало, если не сказать наоборот, нам ни с кем не хотелось общаться. Да и вели мы себя не как малолетки, о чем нам в конце пути не преминул сказать начальник конвоя. В то время в «Столыпине» почти всегда можно было достать спиртное. Я уже говорил, что был канун Нового года, и мы решили, что не отметить его было бы грешно, благо деньги и кое-что еще у нас были. Взяли мы пару бутылок водки и встретили Новый, 1964 год в своей компании, полные надежд на лучшее будущее, на что нам намекнул начальник конвоя. Этот год принес много хороших перемен. Да мы и сами знали, что наши сроки кончаются.
Трое из нас должны были освободиться в этом году, только Харитоше оставалось сидеть еще больше года. Чуть больше двух месяцев мы добирались до Ростова. Женька освобождался 9 марта, и мы думали, что он прямо из «Столыпина» и освободится. Мы прибыли в Ростов за два дня до его освобождения, но, слава богу, прощание наше было не таким страшным, как в Чите с Серегой. Как бы ни было печально расставаться с близким тебе человеком, но мысль о том, что он покидает эти стены, весь этот дикий, нечеловеческий уклад, созданный кучкой садистов и деспотов, радовала нас. Хоть один из нас уже отмучился, пусть этот один не ты, но это твой друг – и этим все сказано.
В течение двух дней мы находились в карантине, где нас провели через все соответствующие процедуры для определения нашего дальнейшего пребывания в стенах этого острога. В тот же день, когда освободился Женя, вечером нас перевели в общую камеру, администрация, как и следовало ожидать, определила нас в камеру штрафников. Здесь находились малолетние преступники со всего Союза, осужденные на спец. Почти у всех судьба была похожа на нашу, а посему мы тут же нашли общий язык, по-другому и быть не могло. Через стенку сидели урки, и поэтому каждый из наших сокамерников хотел показать, что он сведущ в вопросах морали и этики преступного мира. В общем, это рождало здоровые споры и дискуссии и шло нам всем только на пользу. Как только мы узнали, что через стенку сидят урки, мы, еще даже не успев устроиться, кинулись к кабуру и почти три часа не отходили от него, как будто встретили родных братьев. Ворам все было интересно, буквально каждая мелочь их интересовала. Такое любопытство нас не удивило, это было в порядке вещей, поэтому каждый из нас старался рассказать все, что знал и слышал в воровской камере. Они тоже были собраны из разных лагерей и должны были идти в разные крытые, но в основном в новочеркасскую крытую. Ни днем ни ночью место возле кабура свободным не было. Воры говорили нам: «Пока мы рядом, обращайтесь по любым вопросам, без всяких стеснений, в нашей жизни мелочей нет и быть не может». И мы обращались к ним и учились всему, что нужно было знать молодым уркаганам, благо нам это было весьма интересно. Для начала нам предложили научиться правильно писать малявы – оказалось, что правильно их писать никто из нас не может. Казалось, что может быть проще: сел и написал то, что нужно, но на самом деле это оказалось совсем непросто. Это целая наука – уметь правильно подобрать слог, лаконично, без лишних слов, написать то, о чем думаешь. Пробыв почти четыре месяца водной камере с ворами, мы, конечно, многому научились, но вот что касается грамматики и стилистики, то нам некогда было этому учиться и все приходилось схватывать на лету (читатель помнит, какой была обстановка). Здесь же была возможность научиться этому непростому ремеслу. Но прежде чем продолжить свое повествование, мне бы хотелось объяснить читателю, для чего нам нужны были все эти премудрости. Нам хотелось быть избранными в том обществе, в котором мы оказались. Но между хотеть и быть большое расстояние. Половину этого расстояния мы прошли, можно сказать, с честью, нигде не сломавшись. Но этого было мало, нужно было учиться, и учиться многому. Нужно было научиться достойно вести себя в любом обществе, правильно и доходчиво изъясняться, а также грамотно и понятно писать. Вот этому всему и учили нас урки по мере возможности на Ростовском централе.
Иногда одну и ту же маляву приходилось переписывать по десять, а то и больше раз. При этом тот из воров, кому она была адресована, подзывал ее автора к кабуру, указывал на ошибки и объяснял, как их исправить. Давали нам переписывать и размножать прогоны и обращения к арестантам тюрем и лагерей. И это также немало способствовало развитию наших познаний в той области, которая зовется воровской этикой.
Например, при отправке малявы урке его имя подчеркивается один раз, и всем становится ясно, что адресована она именно урке. Если же чье-нибудь имя было подчеркнуто два раза, то арестантов ставили тем самым в курс дела, что обладатель этого имени блядь. Воры познакомили нас также с канонами воровского братства и разного рода нюансами, связанными с воровской жизнью. Любой, например, кто поднял на вора руку, считается по воровским понятиям блядью. Между собой урки могут подраться, это бывает, но к категории, о которой я написал выше, они, конечно, не относятся. А вот если вор убьет вора, то он также считается блядью, так как, если на человеке, кто бы он ни был, кровь вора, то его ждет неминуемая расплата – смерть. При жизни же его все считают блядью, и святой долг любого бродяги при встрече казнить эту мразь. Вор также никогда не будет брать оружие в руки, а если и возьмет, то применит его в самых крайних случаях, в основном для самозащиты. Забегая немного вперед, хочу рассказать читателям об одном случае, он, правда, произошел много позже тех событий, о которых я пишу в этой главе. В то время я жил в Москве и «трудился» в одной бригаде с Пашей Цирулем, Геной Карандашом, Леней Дипломатом и Лялей Цыганочкой. Кроме Ляли, все вышеперечисленные люди были ворами.
Однажды, возвращаясь домой, мы с Карандашом зашли в ресторан на Таганке пропустить по соточке, на ход ноги. Настроение у нас было отменное, правда, не помню, с чем это было связано, но это и неважно. В ресторане сидело много народу, и большинство из них были молодые крадуны, справляющие какое-то торжество. Некоторых я знал, но главным было, конечно, то, что все знали Карандаша. Ему уже было далеко за шестьдесят, он был в авторитете в преступном мире Москвы. А потому для любого круга бродяг присутствие такого авторитетного вора за столом было огромной честью. Но обычно Гена редко когда принимал подобного рода приглашения, а здесь, не знаю почему – наверно, из-за хорошего настроения, – согласился, и через несколько минут мы сидели за столом, где почти все присутствующие были моими ровесниками. За столом шла веселая и непринужденная беседа, все с уважением смотрели на старого уркагана. Сейчас уже не помню, в связи с чем Гена начал рассказывать старую воровскую притчу, но, видно, тому были веские причины, а ведь просто так такие урки, как Гена Карандаш, не разглагольствуют на столь серьезные темы. Тем более то, что он рассказал, мог рассказать только вор, и никто другой не посмел бы по многим соображениям. Вот его рассказ я и хочу преподнести читателю.
В купе поезда СВ Москва-Одесса входит молодой человек, приятной наружности, изысканно одетый и с манерами юного герцога. Это вор, который едет на воровскую сходку в Одессу, куда позвали его братья. Видит – слева от него, в углу у окна, сидит дама бальзаковского возраста, очень милая на вид и с определенными достоинствами. Светло-розовый батистовый халатик и мягкие вельветовые тапочки, которые были на ней, безусловно, располагали к домашнему уюту, а раскрытая книга в руке и серьезность, с какой она глядела в нее, говорили о том, что леди давно уже минула пору юной беззаботности. Молодой человек вежливо поздоровался с дамой и, положив «дипломат», единственный предмет своего багажа, на верхнюю полку, присел напротив. Как известно, почти нигде люди не знакомятся так быстро, как в купе поезда, тем более если путь неблизок. Так что уже через час книга была отложена в сторону – и попутчики завели непринужденный светский разговор, сидя друг против друга и изредка поглядывая в окно. Затем они решили сыграть в шахматы. За приятным занятием и время летит незаметно, тем более в пути. Был уже поздний вечер, когда молодой человек, неожиданно отложив шахматы в сторону, со свойственным в таком возрасте порывом встал и, как истинный джентльмен, пригласил даму в ресторан. Тем самым он как бы хотел продолжить прекрасно начатый день или, скорее, завершить его на мажорном ладу. Мило улыбнувшись в ответ, дама молча приняла приглашение. Через некоторое время они сидели за столиком вагона-ресторана и, услаждая себя приятной прохладой игристого шампанского, возобновили прерванный разговор. Так незаметно пролетело несколько часов, и они последними покинули вагон-ресторан. Днем было жарко, а потому и ночью духота стояла невыносимая, благо хоть работала вентиляция. Почти все окна были открыты, но и это мало что меняло. Нетрудно себе представить: в купе СВ, то есть в купе на двоих, мужчина и женщина, недавно познакомившиеся, оба немного подшофе после приятно проведенного вечера. В общем, спать им не хотелось, и тогда леди предложила поиграть немного в карты. Предложение, естественно, было принято молодым человеком, и опять потекли приятные минуты времяпрепровождения. Но уже через час им стало скучно, и, чтобы поднять в крови немного адреналина, как сказала леди, она предложила играть на деньги. Здесь уже стал явно прослеживаться какой-никакой интерес, и скуку сняло как рукой. Да еще, как ни странно, оказалось, что дама очень неплохо разбирается в картах. От «дурака» они перешли к игре в «секу», а эта игра, смею заметить, не для женского ума, ибо требует многих качеств, которыми, не в обиду будет сказано дамам, Всевышний их не наградил. То есть здесь нужны холодный ум, трезвый расчет и железные нервы. Но как бы там ни было, а ближе к утру молодой уркаган «торчал» этой засухаренной багдадке, а в том, что она была багдадкой, уже не было никаких сомнений, все, что имел в наличии, плюс к этому золотые часы, перстень и серебряный портсигар. Тогда босяк предложил условия: продолжить игру, взяв взаймы у этой крали немного денег, ибо игра в «секу» требует постоянных ставок наличными. А по приезде в Одессу, на вокзале, он тут же расплатится, ибо его там будут встречать. Оба ехали в Одессу, молодой человек вел себя как джентльмен, и дама согласилась, но сделала оговорку: когда деньги, данные ею в долг, он проиграет, игра будет окончена. На что урка, естественно, согласился. Уже начала давать о себе знать усталость от бессонной ночи, но игра продолжалась, и рассвет они встретили сидя друг против друга, зажав в руке по три карты и пристально и серьезно глядя в глаза друг другу, не спеша объявлять ставки. Как известно, при игре в «секу» важны не только ловкость рук играющих, но и выдержка, самообладание и терпение. Здесь, наверно, больше, чем в какой бы то ни было другой игре, нужно уметь блефовать. Всеми этими качествами, как ни странно (и читатель уже, видно, догадался), владела лучше дама, а потому к обеду результат не заставил себя ждать. Помня об оговорке, на которой настояла дама перед их странной баталией, партнеры закончили игру. Они заснули, не раздеваясь. Вечером поезд должен был прибыть в Одессу, это был конечный пункт для каждого из них.
Проснувшись вечером от резкого выкрика проводника: «Одесса, Одесса», дама взглянула напротив – на полке лежала смятая и разбросанная постель, но молодого человека, равно как и его «дипломата», не было. Не было картежника и на перроне, когда, сойдя с поезда, багдадка в образе очаровательной леди решила подождать этого незадачливого джентльмена – на всякий случай, мало ли что? Хотя уже давно все стало ясно. Но, убедившись еще раз, что он исчез, видно, зная, что заплатить нечем, она неторопливо пошла к стоянке такси, пряча снисходительную улыбку в воздушном жабо на груди.
Теперь представим себе: огромная хаза, сидят урки и ждут нескольких недостающих воров, чтобы начать сходняк. Здесь же сидит наша старая знакомая и заканчивает рассказ ворам о том, как по дороге какой-то «шебутной фраерок двинул ей фуфло». Вдруг дверь открывается – и входит тот, о ком дама только что говорила. «А вот и он сам!» – воскликнула багдадка, казалось бы нисколько не удивившись. Но все же она была, конечно, удивлена, иначе к чему этот рассказ. Но как бы там ни было, пауза при их встрече длинной не была. Естественно, дама потребовала уплатить долг, в противном случае ею была предложена такая непристойность, какую могут придумать только женщины и которую я воздержусь передавать. Денег у него не было, а взять у кого-либо означало автоматически сделать фуфло. Исполнить требование багдадки он также не мог, ибо это было недопустимо не только для вора, но и для любого уважающего себя мужчины. Вот и поставил вопрос перед нами Карандаш: как же выбрался из этой гнусной ситуации этот уркаган, а он из нее выбрался, и достойно. Ответ может дать, не задумываясь, только тот, кто знает воровские правила. Сказав это, Карандаш замолчал и стал внимательно следить за всеми, снисходительно улыбаясь. И тут начались дебаты. Какие только варианты ответов ни предлагались молодыми крадунами, но Карандаш только улыбался и отрицательно мотал головой. Когда последний из присутствующих ответил, и тоже неправильно, Карандаш дал правильный ответ. Он стал разъяснять нам законы воровского братства и преступного мира в целом. Оказалось, что весь рассказ был всего лишь для отвода глаз. А загвоздка заключалась в том, что человек, знающий воровской уклад, тут же должен был бы спросить: «А как могла оказаться на воровском сходняке женщина?» Вот этот вопрос и был бы правильным ответом, так как никогда и нигде, ни на одном воровском сходняке женщина, будь она жучкой или даже багдадкой, присутствовать не имела права. Закон воровской для всех свят.
Так познавали мы премудрости воровской жизни, хоть и урывками, но все же это были премудрости, которые мы стремились постичь и которые давались нам с большим трудом.
Глава 6
Тюрьма и свобода
Уже около двух месяцев находились мы в тюрьме. Пролетели они совсем незаметно, и мы уже стали тешить себя надеждой, что так и оставят здесь, как нас снова заказали на этап. И вновь расставания, и почему-то всегда чаще они происходят с хорошими людьми. Видно, оттого они всегда так тяжелы, но в нашем положении приходилось свыкаться со многими вещами.
Простившись со всей братвой и выслушав ряд полезных советов и напутствий, мы тронулись в путь. А уже через двое суток оказались в зоне. Хоть время близилось к отбою, мы все же были в напряжении, пока за нами не закрылись двери карантина. Здесь уже можно было перевести дух и осмотреться. Я забыл сказать, что прибыло нас в зону семь человек. Дело в том, что с нами ехали еще четверо ребят, собранных со всего Союза и также осужденных на спец. На протяжении двух или трех дней их вызывали к начальству – это были обычные процедуры в лагере по отношению ко вновь прибывшим. Нас же никто не тревожил, будто нас вообще и не существовало. Но это нам так казалось. Из осужденных мы видели только одного баландера, который приносил нам еду, да и то он был какой-то странный, злой и неразговорчивый. Мы хотели было уже миской по башке его дрюкануть, но вовремя одумались, он оказался глухонемой. Ну язык-то рыбий был нам чуток известен, и через час мы уже знали, что карантин находится рядом со штабом и даже при всем желании сюда, в карантин, никто не смог бы пробраться, кругом была запретка. Мы уже стали догадываться, что нас ожидает в дальнейшем, и наши предположения исполнились в самое ближайшее время. Через неделю, после того как увели в лагерь наших новых приятелей, к нам пожаловал сам Хозяин. Кроме ключников, которые сменялись каждые сутки, это был первый представитель закона, которого мы видели, да еще такой важный. Сейчас мне трудно вспомнить его лицо, да и видел-то я его в первый и последний раз, но главное было то, что он не был похож на негодяя, скорее, наоборот, и это впечатление подтвердило наше получасовое знакомство. Это был подполковник средних лет, довольно симпатичный. Поздоровавшись с нами, он представился и, что удивительно, присел на лавку и сказал ключнику, чтобы тот прикрыл дверь. Это было что-то новое для нас в поведении легавых, но, без сомнения, давало нам понять: я вас не боюсь, но некоторое уважение имею. Нам не могло не польстить такое обращение, но мы сделали вид, что вроде уже давно привыкли к такому обхождению, и, присев в свою очередь, приготовились слушать этого соловья.
«Знаю, – сказал он, – что для своих годов хапнули вы горюшка немало, читал ваши личные дела. Но я уважаю достойных противников, а потому и пришел к вам сам, сделав для вас исключение, что делаю в очень редких случаях. Да и, откровенно говоря, было интересно на вас взглянуть, ну и, наконец, объяснить вам вашу дальнейшую участь». Сказав все это, он с приличествующим его административному рангу достоинством сделал некоторую паузу, внимательно посмотрел на каждого, как бы проверяя, какое впечатление произвели на нас его слова, а затем продолжил: «Как вы уже, наверно, и сами догадались, зона вас не принимает. Так что вам придется ехать туда, откуда вы прибыли. Но хочу вас сразу успокоить, вы туда не доедете. Каждому из вас остались каких-то месяца два до свободы, по дороге и освободитесь. Да, как я понял, даже если вдруг и доберетесь, то и там вас не примут. Так что, смею вас уверить, в вашем положении это лучший из вариантов». И действительно, все, что он сказал, оказалось правдой и сбылось почти в точности. Я попросил разрешения отправить письмо матери. Он не задумываясь кивнул, даже сказал, что я могу письмо заклеить. Но я не стал искушать судьбу и оставил его незаклеенным. Я описал матери в общих чертах наше положение, намекнул, что при встрече все подробно расскажу, а главное, что я жив и здоров, так же как и мои друзья. Надо сказать, что именно это письмо дошло до дома, хотя я посылал их почти из каждой тюрьмы, каждый месяц, как и было положено по закону, но ни одно из них так и не дошло.
Через три дня, в очередной этапный день, как и сказал Хозяин, нас забрали на этап, и уже через пару суток мы опять были в ростовской тюрьме и в той же камере, откуда нас забрали десять дней назад. Прошло уже не помню сколько дней, и наступило 1 июня, то есть день моего рождения. После обеда меня вызвали – куда не сказали, а я, естественно, и не собирался идти. В то время порядочные люди из среды преступного мира по одному из камеры не выходили, то же самое было и в лагерях. Куда бы ни шел бродяга, он всегда брал с собой достойного себе человека, – кому, как не мне, полагалось знать это.
Даже когда надзиратель пришел второй раз, чтобы сказать мне, что меня ждет мать в комнате свиданий, я ему не поверил. И пока не принесли передачу, где я увидел заявление, написанное рукой моей матери, из камеры я не вышел. Когда же урки узнали, в чем дело, они ругали меня на чем свет стоит. Это не тот случай, когда нужно кому-то что-то показывать или доказывать, сказали мне. Не дай бог, легавые заартачатся и мать уедет ни с чем, вот тогда будешь соображать, в каких случаях что нужно делать, а в каких нельзя. Чего я только тогда не передумал, пока за мной вновь не пришли, тут уж без всяких слов я пошел за разводящим. В то время еще не додумались ставить перегородки, телефоны, стекла, разделяющие вас с родными. Так что, войдя в комнату свиданий, я тут же очутился в объятиях своей матери. Долго она держала меня так, и, что меня удивило и в то же время обрадовало, она не плакала. Мог ли я знать, что не было и дня, чтобы она не плакала, ожидая, что вот-вот придет известие о моей смерти. В какие только инстанции не обращалась она, разыскивая меня. Как только из какой-либо тюрьмы приходил ответ, тут же следовало: выбыл в неизвестном направлении – и так по цепочке. Знала она и о поджоге в лагере, и о смерти Сереги, и о многом другом. Разве можно даже представить, что пережила эта женщина, пока не получила моего письма, отправленного из Георгиевска. Почти два года я не виделся с матерью, но этого времени оказалось достаточно, чтобы голова ее побелела, а сама она состарилась лет на десять. Я смотрел на нее и не верил своим глазам. Во что превратило горе эту некогда высокую, гордую и красивую женщину, какой всегда была моя мать. И как мне ни было больно и обидно, но виду я, конечно, старался не подавать. Да матери это и не нужно было, она все читала на моем лице как по открытой книге. Свидание длилось два часа, а когда стали торопить с окончанием, мне показалось, что и двадцати минут не прошло. Но о главном мать всегда говорила в начале свидания, зная, какие порядки в этих заведениях и как они строго соблюдаются. А главное заключалось в том, что, уж не знаю как, но мать уговорила Хозяина тюрьмы не отправлять меня по этапу. На этот момент мне оставалось шесть месяцев, и в принципе он поступил правильно, тем более что нас опять пришлось бы гнать через всю страну, а ведь это тоже было накладно для государства. В общем, обо всем поговорив, насколько это было возможно в нашем положении, я простился с матерью, чтобы уже встретиться с ней на свободе. Через полтора месяца, 20 июля, освободился Санек. Все, что ему дали на дорогу, потратил, бедолага, на передачу, он знал, Харитошу надо было сопроводить на взросляк как положено. По прошествии многих лет он рассказывал нам, как добирался до Питера без копейки денег, да еще и голодный. Вот так мы остались вдвоем с Харитошей. Нет, рядом было много достойных ребят, но с ними я не прошел того, что мы прошли вместе, а это в жизни играет если не главную, то одну из главных ролей. Но и с Харитошей мне тоже долго не довелось просидеть. За месяц или полтора до моего освобождения его осудили на взрослую колонию, да еще вменили усиленный режим. Но у взрослых между общим и усиленным режимом не было почти никакой разницы, так что я особенно не переживал. Тем более и ему оставалось сидеть несколько месяцев. До своего освобождения я успел получить от него пару маляв (он был в другом корпусе, а чтобы дошла та или другая малява, нужно было какое-то время). Мы обговорили заранее, что, как только он придет в лагерь, тут же напишет мне домой.
И вот наступил день моего освобождения. Накануне вечером мы все обговорили с ворами и я взял поручения от них к братьям, которые были на свободе. Простившись со всею братвою чисто по-жигански, я покинул этот мрачный, но в высшей степени мудрый «остров», чтобы по прошествии времени, определенного мне судьбой, вновь посетить этот убогий приют, имя которому тюрьма.
Сейчас трудно вспомнить, что я пережил тогда, очутившись за воротами, ведь в дальнейшем мне столько раз пришлось испытать подобные ощущения, что чувства эти как бы притупились, да и прошло без малого 40 лет. Но одно чувство все же всегда оставалось неизменным – ощущение, что ты вновь родился.
Часть IV
Пути Господни неисповедимы
Хайям
- Благородство и подлость, отвага и страх —
- Все с рожденья заложено в наших телах.
- Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже,
- Мы такие, какими нас создал Аллах!
Глава 1
Много лет спустя
Теперь я хотел бы объяснить читателю, что подтолкнуло меня написать эту автобиографическую книгу Эта часть книги будет выглядеть несколько необычной по сравнению с другими. В ней я намеренно отказываюсь от своего привычного стиля и манеры изложения своих воспоминаний. И хотя мой жизненный опыт полон суровых и жестоких испытаний, тем не менее сейчас я впадаю в некий романтизм и даже в пышнословие. Делаю я это сознательно, исходя из того, что описываемые ниже события резко отличаются от этапов моего жизненного пути. К тому же я восточный человек и впитал в себя краски, цвета, запахи, предания, мифы моего родного края. А там розу всегда называют алой, ланиты перламутровыми, небо бирюзовым… Итак, послушаем уже нынешнего Заура…
Судьбе было угодно, чтобы я посетил эту прекрасную страну, имя которой Франция, но уже не в мечтах и грезах, а наяву. Величавый, как айсберг, и белый как снег океанский лайнер «Странствующая принцесса» подошел к пристани и бросил якорь в порту Марселя. Сидя в шезлонге на верхней палубе, я любовался померанцевым закатом, который, как мне кажется, только здесь бывает так ярок и красочен. Средиземноморье издревле считалось одним из райских уголков планеты. «Море нострум – матер ностра» – так ласково называли древние географы Средиземное море, «наше море – наша мать». Ну а Франция, как мне кажется, всегда была одной из жемчужин этого рая. Я всегда любил эту страну. Еще в юности, зачитываясь Дюма и Стендалем, Бальзаком и Гюго, я мечтал побывать в ней, и мое пылкое воображение рисовало мне всевозможные картины и сюжеты. Кроме того, я еще в детстве узнал, что мои близкие родные живут на этой земле. Буквально накануне революции они покинули Россию – родители и младший брат моей бабушки. Но я, к сожалению, не знал, где именно они поселились во Франции. Бабушка пыталась в свое время хоть как-то что-то узнать, но, увы, усилия ее были тщетны. В то время доступ к информации, хоть бы мало-мальски связанной с заграницей, был за семью печатями, несмотря на то что это были самые близкие ее родственники. Мало того, и эти обстоятельства, да и дворянское происхождение вызывали у властей этих подозрение в неблагонадежности людей, которые имели несчастье потерять родственников и родиться дворянином. И хотя в то время, когда бабушки не стало, меня не было рядом, я все же знал твердо, что приложу максимум усилий, чтобы разыскать кого-нибудь из своих родных. Много лет я «работал» в Москве и, исходя из специфики моей работы, не только прекрасно ориентировался в этом мегаполисе, но и знал много полезных и нужных людей, которые могли мне помочь в той или иной возникшей проблеме, а они всегда возникали, что было естественно при моем образе жизни. Благо, как и во все времена, с помощью денег в этой стране можно было открыть любую дверь. А они у меня водились в то время, и немалые, а значит, можно было что-то предпринять, как-то действовать – и я не преминул этим воспользоваться. Но я не ожидал, что это будет сопряжено с такими трудностями и таким риском. Все же, несмотря ни на что, я дал пространное объявление и несколько фотографий семьи бабушки, а также свой домашний адрес в один из французских модных в то время журналов – и стал ждать.
По тем временам это было круто. Но здесь я рисковал не как обычно, во имя денег, наслаждений и шампанского, а во имя встречи с родными, доселе мне незнакомыми. Ибо в нашей стране мне в будущем не маячило ничего хорошего, кроме тюрем и лагерей, голода и холода. Пройдя долгий тяжкий путь испытаний и лишений, я уже ничего не боялся и ничем особым не рисковал. В общем, я уповал на Бога и ждал. Прошло немало времени, с тех пор как я сделал этот первый шаг, и, честно говоря, я уже начал терять надежду, так как за это время я предпринял еще несколько подобных попыток, но безрезультатно.
Примерно в трехстах километрах от Каира, в Ливийской пустыне, лежит оазис Эль-Харра. Место издревле считалось целебным, особенно для больных туберкулезом. Пожалуй, мало на земле найдется подобных райских уголков. Я встречал людей, одной ногой стоящих в могиле, которые исцелились в этом оазисе. И я приехал сюда лечить свою застарелую чахотку и уже месяц находился на этом курорте.
Оазис отрезан от цивилизации в буквальном смысле этого слова. Заказывать разговор по телефону приходилось заранее либо самому, либо посылать кого-то за определенную плату в ближайший населенный пункт. Все это, естественно, было сделано специально, чтобы не прерывать лечения. Египет – своеобразная и удивительная страна. Много чего довелось увидеть на этой древней земле прекрасного и величественного, но больше всего почему-то запомнились ночи. Египетские ночи – это когда бархатное небо, усеянное звездами, становится похожим на королевскую мантию, и поэтому настоящая жизнь в этой части земного шара начинается ночью. В одну из таких ночей звездочета, как их называют местные бедуины, меня вызвали на переговорный пункт, который находился в ближайшем населенном пункте.
Куда бы я ни направлялся, когда был на свободе, я всегда ставил в известность свою старшую дочь обо всех моих передвижениях. И только ей одной я полностью доверяю, хотя другим женщинам я уже давно не верю, у меня на то есть свои причины. Ничего хорошего от этого разговора я не ждал, поэтому особенно не спешил, стараясь сохранять спокойствие духа. Я уже был не в том возрасте, когда эмоциональные стрессы проходят бесследно. И хотя меня уже давно было трудно чем-то удивить, но то, что я услышал от дочери, вызвало у меня такую радость, какой я давно не испытывал.
Нашелся брат моей бабушки. Как говорилось в телеграмме, которую прочла мне дочь по телефону, мне нужно явиться в консульство Франции в Москве, где мне выдадут гостевую визу и еще кое-какие бумаги.
Да, воистину пути твои, Господи, неисповедимы, подумалось мне, и я стал готовиться в дорогу. Сборы были недолгими и не составили труда, в этом у меня был огромный жизненный опыт бродяги. Заказав билет на следующий день, я простился с друзьями и выехал в Каир, у меня там были кое-какие дела, а назавтра «Боинг-747» уже рассекал заоблачные высоты двух частей света и, покрыв расстояние почти в четыре с половиной тысячи километров, доставил меня в Москву. И уже в полночь я спускался по трапу самолета в Шереметьеве-2, мысленно благодаря человечество за прогресс и сервис. Ну а с утра я уже был в консульстве Франции. Консул встретил меня очень дружелюбно, хотя я успел заметить хитринку в его глазах, из чего сделал вывод, что он знает, с кем имеет дело. Тем не менее с присущим тактом чиновника такого ранга он вежливо поинтересовался: как я долетел? Как настроение и прочее? При этом он заметил, что нечасто сталкивался с людьми, которые нашли своих родственников, да еще в такой стране, как Франция. По тому, как быстро я был принят, да еще лично консулом, хотя, повторюсь, он знал, кто сидит перед ним, по тому, как в спешном порядке готовились мои документы, я понял, что дед мой отнюдь не простой французский обыватель. Как выяснилось, дед мой тоже долгие годы разыскивал свою старшую сестру. Родителей уже давно не стало, жил он с дочерью и внучкой. В своей стране, Франции, он был весьма уважаем, а кроме того, он был весьма состоятельным человеком. Во время войны дед участвовал в Сопротивлении и был отмечен многими наградами, да и в мирное время, думаю, немало пользы принес своему новому отечеству. Дед был по профессии археолог, в свое время он окончил исторический факультет Сорбонны. В то время, когда мое объявление с фотографиями появилось в журнале, дед находился в Аргентине, в Ла-Плата, на берегу одноименного залива, в двадцати километрах от Буэнос-Айреса, у постели тяжелобольной дочери. Она умерла от рака горла, и он с внучкой вернулся во Францию. Прибыв в Бордо, в свое старинное имение на берегу Бискайского залива, он привез с собой внучку и память в сердце о любимой дочери. Здесь его встретили старый слуга с женой и дочерью, которые составляли весь штат прислуги, одновременно выполняя обязанности садовника, кухарки, а дочь – горничной. Жили как одна семья, но при этом каждый знал свое место.
И вот через месяц после приезда домой дед по давней привычке просматривал старые журналы и вдруг увидел фотографии и мое объявление. А когда взглянул на дату, то его чуть не хватил удар. Точно такие фотографии, да и масса других, хранились у него в семейном альбоме. К сожалению, внучке показать он их не мог – по причине, которую читатель узнает чуть позже, но зато радовались они вместе неожиданно найденному внуку и брату. В спешном порядке дед предпринял все необходимое, чтобы я мог приехать во Францию. К тому же обстоятельства благоприятствовали этому, так как я был на свободе.
Путь на теплоходе до Марселя я даже не берусь описывать подробно, слишком много это займет времени, отмечу лишь главные свои впечатления. В Стамбуле я был поражен величием и красотой Голубой мечети (собором Святой Софии) и мечетью Солтан-Мехмет, в Афинах же непередаваемое зрелище развалин Акрополя буквально заворожило меня, а в Неаполе, где была последняя остановка перед Марселем, я был потрясен не только красотой самого города, но и видом Неаполитанского залива. При выходе из Дарданелл нас застиг невероятной силы шторм, и мне показалось, что это конец, но, глядя на спокойные лица моряков, я понял, а точнее, устыдился собственных мыслей, ибо это был обычный шторм, случающийся в этих широтах очень часто. В Марселе я еще долго смотрел с палубы на городской порт. Уже давно был подан трап, и я чуть ли не последним из пассажиров спустился по нему на землю, держа в руке кейс. Я старался держаться уверенно, чтобы не отличаться от других пассажиров. В телеграмме, посланной мной из Москвы, я указал приблизительный день прибытия во Францию, и у меня было два-три дня в запасе, чтобы подготовиться к встрече с родными. Марсель – один из старинных городов в Европе, здесь есть на что посмотреть и где провести время, чтобы адаптироваться в чужой стране. Да и сами обстоятельства способствовали романтическому настроению, и я решил совместить приятное с полезным. Мне повезло, я снял номер с видом на море и решил, что это хорошее предзнаменование, – и не ошибся. В первую очередь мне нужно было обрести душевное равновесие. Многие годы, проведенные в невыносимых условиях, закалили мой характер, при любых обстоятельствах я старался держать себя в руках, чтобы хотя бы выглядеть уравновешенным. Но в этот раз душевное напряжение было столь сильным, что я долго не мог собраться с мыслями и контролировать свои поступки. Впоследствии я проанализировал все, что со мной происходило в то время, и пришел к выводу, что это нормально.
Ненормально было бы отсутствие каких-либо эмоций у человека, который после длительного пребывания в неволе и пробыв меньше месяца на свободе успевает похоронить семилетнюю больную дочь – и снова попадает в тюрьму за грехи многолетней давности.
Затем через несколько месяцев не без помощи жены и друзей его, больного и изможденного, освобождают из зала суда. И вдруг такой неожиданный, резкий поворот судьбы. Тут было от чего потерять голову.
Но замечу, что через пару дней я успокоился и пришел в свое обычное расположение духа. И все же горечь воспоминаний о пережитом тяжким камнем лежала у меня на душе. Поэтому я решил отвлечься и пару дней побродить по Марселю. За эти дни я исходил и изъездил почти весь Марсель, взяв себе в проводники Дюма-старшего и его Эдмона Дантеса. И в который раз за свою жизнь я благодарил великого француза за его литературный талант.
Итак, путь мой лежал в Бордо, на берег Бискайского залива, я выбрал маршрут через Тулузу, чтобы взглянуть на этот прекрасный город. Взяв билет до Бордо, я отбыл из Марселя в хорошем расположении духа, ведь впереди была приятная неизвестность. И, уже засыпая под мерный стук колес, я все же пытался что-то проанализировать, но сон сморил меня. К моему большому сожалению, Тулузу я проспал, билет мой был до Бордо, и проводник не стал меня будить, я же его заранее не предупредил. Когда я проснулся, поезд уже мчался по земле, некогда называвшейся герцогство Аквитанское, впереди был город Бордо. Приехал я ночью, меня, естественно, никто не встречал, поэтому взял такси и, дав водителю адрес, стал смотреть в окно. Даже ночью в этом городе было на что посмотреть. Едва лишь первые проблески опалового рассвета рассеяли темноту, как мы уже выехали на окраину города. По крайней мере, мне так показалось, ибо строения кончились и то здесь, то там стали вырисовываться в утренней дымке силуэты красивых особняков. Но то, что я увидел прямо перед собой, когда машина остановилась, было ни на что не похоже, что я видел ранее. Передо мной возвышался замок! Трудно описать необыкновенную красоту этого шедевра средневекового зодчества рыцарских времен. Замок на вершине холма царил над всей равниной, поросшей розовым вереском, а вокруг зеленели густые леса.
С восточной и западной стороны замок окружал большой парк со столетними вязами. От одной до другой башни шли мостики, похоже, что замок был сооружен во времена Крестовых походов. Впоследствии я узнал, что построен он где-то между X-XII веками. Достоверно было известно, что в XII веке замок принадлежал одному из влиятельнейших и могущественнейших феодалов Франции – Вильяму VIII де Пуатье, герцогу Аквитанскому, дочерью которого была прекрасная Алиехнора, впоследствии мать великого короля Англии Ричарда Львиное Сердце.
Вероятно, я бы еще долго любовался этим прекрасным зрелищем, если бы не вежливый оклик человека, неизвестно когда успевшего подойти. «Не вы ли мсье Зауэр?» – спросил он на очень плохом русском языке. Я утвердительно кивнул, тут же поняв, что этот старик – старый слуга моего деда.
Приятно улыбнувшись, он взял у меня из рук «дипломат» и сказал, что меня давно ждут, затем вежливо пригласил следовать за ним. Прямо напротив замка, только чуть ниже, примерно на расстоянии трехсот метров, стояло внушительное, массивное строение французской архитектуры XVI века, его величественная красота поразила меня. Со всех сторон его окружал густой лес. К усадьбе вела относительно широкая дорожка, покрытая галькой и мелкими ракушками, что говорило о близости моря. По краям дорожки с обеих ее сторон и до самой ограды, обрамленной густым кустарником, росли цветы – розы и гвоздики. Великолепные газоны и тенистые аллеи дополняли этот пейзаж. Я невольно подумал, что для поэта или артиста лучшего места для вдохновения трудно было бы найти. Фасад этого двухэтажного особняка дополняла широкая лестница, по краям которой стояли львы. У входа в здание четыре колонны подпирали огромный балкон второго этажа. Высокие окна первого этажа были настежь открыты, легкий ветерок колыхал желтые с переливом занавеси. Жерар, немногословный и гордый, как все старые, преданные слуги, знающие себе цену, пригласил меня подняться на второй этаж и показал мне мою комнату. Я был приятно удивлен, ибо интерьер соответствовал моему вкусу. Жерар стал медленно спускаться по лестнице, а я подумал, глядя ему вслед, что он простой и добрый старик, а его немногословность и важность – это просто неотъемлемые атрибуты слуги аристократического дома во Франции. Тем более что в доме этом жил незаурядный человек. В этом я смог убедиться буквально через несколько часов. Никогда еще я так долго и тщательно не приводил себя в порядок, так как был взволнован предстоящей встречей.
Глава 2
Чудо-встреча
Через некоторое время Жерар пригласил меня в гостиную. Это был огромный зал с голубыми стенами, посередине стоял большой стол из палисандрового дерева. Справа от себя я увидел часы, стоящие на камине, где двое пастушков любезничали между собой. Два толстощеких амура поддерживали канделябры в виде лилий. Все пять окон были открыты настежь, отчего в комнате стояла приятная утренняя прохлада, из сада доносился запах роз и жасмина.
Возле камина, в вольтеровском кресле из красного дерева с резными ножками, сидел мой дед. А рядом с ним за очень красивым мозаичным столиком работы флорентийских мастеров, на стуле, обитом голубым штофом, похожем на трон, сидела моя кузина. Я знал, что дед был моложе бабушки на семнадцать лет, – значит, ему было без малого девяносто лет. При виде меня он попытался встать, и это ему не без усилий удалось. «С приездом, родной», – сказал он на чистом русском языке, без какого-либо акцента. Мы крепко пожали друг другу руки и обнялись, затем я помог ему сесть. Я галантно поздоровался с кузиной (ибо понял, что это она) по-французски, на что Луиза, так звали мою сестру, на хорошем русском, правда с большим акцентом, ответила: «Не стоит себя так утруждать, Заур, я свободно изъясняюсь на языке своих предков, и у вас еще будет время в этом убедиться».
Но прежде чем продолжить свой рассказ о нашей встрече, следует остановиться на описании моих родных. Первое, что сразу бросалось в глаза, это их аристократизм. То, что они были истинными аристократами, ощущалось буквально во всем. Дед мой был очень похож на бабушку, и одно это уже вызывало во мне симпатию к нему. У него были вдумчивые карие глаза и широкий лоб, прочерченный глубокими бороздками морщин, что говорило о его уме и энергичности натуры. Волосы были совершенно седые, а правильный пробор оттенял их и придавал им чуть серебристый оттенок. Даже видя его сидящим в кресле, нетрудно было представить его гордую осанку. И действительно, он оказался высоким, таким же стройным, как и его старшая сестра, то есть моя покойная бабушка.
Что же касается кузины, то, на мой взгляд, она была просто красавицей. Луиза была женщиной бальзаковского возраста, чуть выше среднего роста, с белокурыми волосами, нежными локонами ниспадающими на плечи, с голубыми, как небо, глазами, с нежным ртом и звучным, но проникновенным голосом. Ее простое белое платье, стянутое в талии золотым шнуром, походило на греческую тунику и очень шло ей. Словом, она была необыкновенно хороша собой, эта моя кузина.
Трудно передать мои ощущения счастья от общения с этими людьми. Наши беседы были столь непринужденными, как будто всю жизнь мы жили вместе и никогда не расставались. На свет божий из семейного архива были извлечены все альбомы, портреты, несколько газетных вырезок – в общем, все, касающееся нашего рода. С каким наслаждением я слушал их рассказы, с каким вниманием разглядывал семейные фотографии! Я был как дервиш, изнывающий от жажды в пустыне – и вдруг нашедший оазис. Нам несколько раз подавали чай, время летело так незаметно, что, когда пригласили к столу, мы даже удивились. Я встал и предложил руку Луизе. Поднявшись, она сделала несколько неверных движений, и я с ужасом догадался, что моя кузина слепа. Нет слов, как я был потрясен этим открытием, каких неимоверных трудов стоило собрать свою волю в кулак, чтобы они не заметили, как я расстроился. С галантностью настоящего джентльмена я повел Луизу к столу. Поймав благодарный взгляд деда, я понял, что сделал все правильно. Луиза тоже была явно признательна и благодарна мне за это и одарила меня очаровательной улыбкой. После обеда дед по привычке пошел отдохнуть, а мы с Луизой решили прогуляться на свежем воздухе. Я удивился, как моя кузина прекрасно ориентируется и в доме и в саду, что даже на какое-то время забыл о ее слепоте. «Ничего в этом нет удивительного, – сказала мне Луиза. – Я ведь родилась и выросла в этом доме». Заметив, что Луиза немного утомилась, я пригласил ее отдохнуть, мы присели на скамью в беседке, под сенью вековых деревьев, здесь же и поведала мне Луиза свою историю. Родилась она здесь, в Бордо, в этом доме. Отец, маркиз де ла Круа, имел свое судно и был капитаном на нем, то есть чуть ли не с рождения был моряком. А потому часто по полгода, а то и больше, не бывал дома. Мать Луизы очень любила его и скучала, когда он был в плавании. Вот и к рождению своей дочери маркиз опоздал, так как у берегов Азорских островов, по дороге домой, судно попало в сильный шторм и чуть не затонуло. Узнав об этом, священник местного прихода сказал, что это плохой знак. У маркиза было свое родовое имение, но оно почти круглый год пустовало, а когда он оставался дома, в те редкие месяцы, они всей семьей уезжали в Ажен. Луиза очень любила отца, даже, как мне показалось, боготворила его. Поэтому не приходится удивляться тому, что, когда его не стало, она слегла на долгое время.
Его судно погибло, и только чудом трое из экипажа спаслись, они-то и рассказали о крушении корабля. Врачи не могли утешить бедную мать – дочь ее таяла прямо на глазах, а они ничего не могли поделать. И как ни горевала Ольга Александровна (так звали мать Луизы) по безвременной кончине своего мужа, которого очень любила, она все же, отодвинув это горе на второй план, целиком и полностью отдала себя уходу за дочерью. И как часто случается, материнская любовь и ласка могут вылечить дитя, даже когда врачи считают, что надежды нет. Видно, Богу угодно было наделить женщину-мать такими чудодейственными качествами. Луиза поправилась, но ослепла. Каким только врачам ни показывали ее, куда только ни возили, все усилия были тщетны. В Аргентине жила сестра маркиза, уже почти год она уговаривала мать Луизы перебраться к ней хотя бы на время. Она убеждала ее в том, что перемена обстановки и климата пойдет на пользу как матери, так и дочери и, кто знает, может, Бог даст и к Луизе вернется зрение.
Наконец они сдались на ее уговоры и, простившись с отцом и дедом, мать и дочь уехали из Франции. Возможно, эта перемена и дала немало. Они прожили в Аргентине больше десяти лет, но после смерти матери Луизу уже ничто не могло там удерживать, и она попросила деда забрать ее домой, во Францию. В замке и практически везде с ней была дочь старого слуги графа, Полина. Они были почти одного возраста, знали друг друга с детства, росли когда-то вместе, а потому скорей были как подруги.
Добрую и отзывчивую Луизу любили в доме все без исключения, ведь она никогда и ни перед кем из домочадцев не показывала своего превосходства над ними. Полина очень ее любила и была предана ей как только может быть предана родная сестра или настоящий друг. Полина всегда была где-то рядом с Луизой, чтобы в случае чего прийти ей на помощь. Когда же нас пригласили к обеду, она немного замешкалась, вот тут я пришел на помощь Луизе, взял ее под руку и повел в столовую. Моя галантность и находчивость была воспринята по заслугам, как признак хорошего воспитания.
Окончив свое повествование, Луиза сняла с шеи изящную цепочку-паутинку, на ней висел медальон с красивым коралловым фермуаром. Открыв его, она показала мне маленькое фото своего отца, а на другой стороне было фото ее матери. Мать подарила ей этот медальон, когда там была только фотография ее отца, и лишь после смерти дочери дед попросил ювелира вправить с обратной стороны фотопортрет Ольги Александровны. К великому сожалению, ни медальон, ни изображенных на нем родителей Луиза не видела. Но они, по всей видимости, всегда согревали ей душу, ибо были у нее на груди. Мы сидели с Луизой в беседке, окруженной густой зеленью, яркая синева неба со всполохами розового заката сменилась фиолетовыми сумерками. Некоторое время сидели молча, каждый думал о своем. Я знал по своему жизненному опыту, а он, смею заметить, был немалым, что великую радость, равно как и печаль, тяжело переносить в одиночестве. Я всем сердцем проникся любовью и уважением к своей кузине и при этом поклялся в душе, что буду за нее молиться и сделаю все возможное для восстановления ее зрения. Богу было угодно – и моя молитва помогла (об этом читатель узнает позже). Бывают состояния, которые ни разум, ни сердце не объяснят никогда, но которые, однако, влияют на события с удивительной, почти чудесной быстротой. Мы так привязались друг к другу за эти часы, как будто выросли вместе в одном доме и ничто никогда нас не разделяло. Не было ни одной мало-мальски заслуживающей внимания ситуации, чтобы мы не исследовали ее. Французы вообще по природе веселые, добрые и отзывчивые люди, правда, несколько легкомысленные. Здесь, в провинции, эта их черта особенно ощущалась.