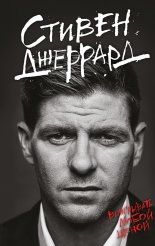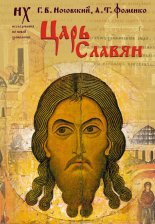Рассказ Служанки Этвуд Маргарет

Стене тоже сотни лет; по крайней мере, больше сотни. Как и тротуары, она из красного кирпича и когда-то, вероятно, была проста, но красива. Теперь на воротах часовые, над стеной взгромоздились уродливые новые прожекторы на железных столбах, и колючая проволока понизу, и битое стекло вросло в цемент поверху.
По своей воле в эти ворота никто не заходит. Меры предосторожности – ради тех, кто попытается выйти, хотя изнутри добраться до самой Стены, мимо электронной сигнализации, почти невозможно.
Возле главных ворот болтаются шесть новых тел – повешенные, руки связаны спереди, головы в белых мешках склонены на плечи. Видимо, с утра пораньше проводили Мужское Избавление. Я не слышала колоколов. Наверное, привыкаю.
Мы останавливаемся разом, будто по сигналу, и смотрим на трупы. И ничего, что смотрим. Нам и полагается смотреть, они затем и висят на Стене. Чтоб их увидело как можно больше народу, они порой висят по несколько дней, пока не появится новая партия.
Висят они на крюках. Для этого крюки и вмонтированы в кирпичную кладку. Не все крюки заняты. Они похожи на инструменты для безруких. Или на стальные вопросительные знаки, перевернутые и опрокинутые набок.
Хуже всего – мешки на головах, хуже, чем были бы лица. Из-за них мужчины – будто куклы, которых еще не раскрасили, будто пугала – в некотором роде они и есть пугала, их задача – пугать. Или будто их головы – мешки, набитые однородной массой, мукой или тестом. Потому что головы явно тяжелы, явно инертны, гравитация тянет их к земле, и больше нет жизни, что их выпрямит. Эти головы – нули.
Правда, если смотреть долго-долго, как мы сейчас, под белой тканью разглядишь контуры черт, словно серые тени. Головы снеговиков, угольки глаз и морковные носы выпали. Головы тают.
Но на одном мешке кровь, просочилась сквозь белую ткань там, где полагалось быть рту. Получается другой рот, маленький, красный – словно толстой кисточкой нарисовал малыш в детском саду. Так малыши представляют себе улыбку. И эта кровавая улыбка в итоге приковывает взгляд. Все-таки не снеговики.
Мужчины – в белых халатах, как ученые и врачи из прошлого. Ученые и врачи – не единственные, есть и другие, но утром, видимо, сцапали их. У каждого на шее плакат – надпись, за что казнены: изъятие человеческого зародыша. Значит, врачи из прежних времен, когда такие вещи были законны. Творцы ангелов, вот как их называли: или иначе как-то? Их нашли, перерыв больничные архивы или – вероятнее, потому, что больницы принялись уничтожать картотеки, едва стало ясно, к чему дело идет, – по доносу: может, бывшие медсестры или скорее пара медсестер, потому что свидетельства одной женщины более недостаточно; или другой врач понадеялся уберечь свою шкуру; или тот, кого уже обвинили, напоследок лягнул врага или ненароком попал в отчаянном рывке к спасению. Хотя доносчиков прощают не всегда.
Эти люди, говорят нам, были все равно что военные преступники. Их не оправдывает то, что их занятия были тогда законны: их преступления ретроактивны. Они творили зверства, они будут назиданием для остальных. Хотя вряд ли это необходимо. Сейчас ни одна женщина в здравом уме не станет предотвращать рождение, раз уж ей повезло зачать.
Нам полагается презирать и ненавидеть эти трупы. Но я чувствую иное. Тела, что болтаются на Стене, – путешественники во времени, анахронизмы. Пришельцы из прошлого.
Во мне только пустота. Я чувствую, что не должна чувствовать, – больше ничего. Отчасти облегчение, потому что среди них нет Люка. Люк не работал врачом. Не работает.
Я гляжу на эту красную улыбку. Краснота улыбки та же, что краснота тюльпанов в саду у Яснорады, около стеблей, где тюльпаны заживают. Та же краснота, но связи никакой. Тюльпаны – не кровавые тюльпаны, красные улыбки – не цветы, они друг друга не объясняют. Тюльпан – не причина не верить в повешенного, и наоборот. И тот и другой подлинны и существуют взаправду. И в поле этих подлинных объектов я изо дня в день нащупываю дорогу, каждый день понемногу, приближаясь к итогу. Я так стараюсь различать. Я должна различать. Мне нужна ясность – в мозгу.
Я чувствую, как женщина подле меня содрогается. Плачет? А как же благочестие? Мне это знать недопустимо. У меня сжаты кулаки, замечаю я, стиснуты на ручке корзинки. Я ничего не выдам.
Обычное дело, говорила Тетка Лидия, – это то, к чему привык. Может, сейчас вам не кажется, что это обычно, но со временем все изменится. Станет обычным делом.
III. Ночь
Глава 7
Ночь – моя, мое время, что хочу, то и делаю, если не шумлю. Если не двигаюсь. Если ложусь и не шевелюсь. Разница между ложиться и лежать. Лежать – всегда пассивно. Даже мужчины раньше говорили: я б уложил ее в койку. Хотя порой говорили: если б она под меня легла. Чистые догадки. Вообще-то я не знаю, как говорили мужчины. Только с их слов.
И вот, значит, я лежу в комнате. Под штукатурным глазом в потолке, за белыми занавесками, между простынями, аккуратно, как и они, и делаю шаг прочь из своего времени. В безвременье. Хотя время – вот оно, и я – не вне времени.
Однако ночью времени нет. Куда я отправлюсь?
Туда, где хорошо.
Мойра сидит на краешке моей кровати, нога на ногу, лодыжка на колене, в лиловом комбинезоне, в ухе одинокая висюлька, золотые ногти – эксцентричности ради, в коротких пожелтевших пальцах сигарета. Пошли пива выпьем.
Ты мне пепел в кровать сыплешь, сказала я.
А ты ее чаще заправляй, ответила Мойра.
Через полчаса, сказала я. Назавтра мне сдавать реферат. Что это было? Психология, английский, экономика. Тогда мы такое учили. На полу в комнате обложками вверх валялись раскрытые книги, тут и там, этак затейливо.
Сию секунду, сказала Мойра. Тебе не надо лицо разукрашивать – тут же одна я. О чем реферат? Я только что закончила о брачном изнасиловании.
Брачное, сказала я. Как это типично. Даже изнасилование, и то с браком.
Ха-ха, сказала Мойра. Пальто бери.
Взяла его сама и кинула мне. Я у тебя займу пятерку, ладно?
Или где-нибудь в парке с мамой. Сколько мне было? Холод, наше дыхание летело впереди нас; безлистые деревья, серое небо, две безутешные утки в пруду. Хлебные крошки под пальцами в кармане. Точно: она сказала, мы пойдем кормить уток.
Но какие-то женщины жгли книги – вот зачем она туда на самом деле пошла. Повидаться с подругами; она соврала: субботы полагались мне одной. Я надулась, отвернулась к уткам, но огонь меня притягивал.
Вместе с женщинами были и мужчины, а книги были журналами. Их, наверное, полили бензином, потому что пламя выстрелило ввысь, а они вываливали журналы из коробок, понемногу, не все сразу. Кое-кто скандировал; собирались зеваки.
В лицах – счастье, почти экстаз. Костры это умеют. Даже мамино лицо, обычно бледное, истончившееся, казалось румяным и веселым, как с рождественской открытки; и там еще была одна женщина в оранжевой вязаной шапочке – дородная, щеки вымазаны сажей, я помню.
Хочешь сама бросить, детка? спросила она. Сколько же мне было? Скатертью дорожка такому мусору, хихикнула она. Можно, да? спросила она маму.
Если хочет, сказала мама; она всегда говорила обо мне с посторонними так, будто я не слышу.
Вязаная шапочка протянула мне журнал. На нем была красивая голая женщина, запястья обмотаны цепью – женщина висела под потолком. Мне было любопытно. Я не испугалась. Я решила, она качается, как Тарзан на лиане по телевизору.
А вот видеть ей не стоит, сказала мама. Давай, сказала она мне, кидай скорее.
Я швырнула журнал в огонь. Он зашелестел, раскрываясь, в вихре своего пламени, большие бумажные хлопья отделялись, плыли в воздух, еще горя, куски женских тел у меня на глазах на лету превращались в черную золу.
А потом, что же было потом? Я знаю, я потеряла время.
Наверное, иглы, таблетки, что-то такое. Я бы не потеряла столько времени самостоятельно. У тебя был шок, сказали мне.
Я вырывалась из рева и морока, точно из кипящего прибоя. Помню, я была относительно спокойна. Помню крик, ощущалось как крик, но, может, то был просто шепот: Где она? Что вы с ней сделали?
Не было ночи, не было дня; только вспышки. Вскоре вновь появились стулья и кровать, а потом окно.
Она в надежных руках, говорили они. С пригодными людьми. Ты непригодна, но ведь ты хочешь ей добра. Правда?
Мне показали ее фотографию: она стояла на газоне, лицо – замкнутый овал. Светлые волосы туго оттянуты к затылку. Ее держала за руку незнакомая женщина. Она еле доставала головой женщине до локтя.
Вы ее убили, сказала я. Она была точно ангел – серьезная, маленькая, воздушная.
Она была в платье, которого я никогда не видела: белом, до самой земли.
Я бы хотела верить, что это я рассказываю историю. Мне нужно верить. Я должна верить. У тех, кто верит, что такие истории – всего лишь истории, шансов больше.
Если это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. Значит, будет финал этой истории, а за ним – взаправдашняя жизнь. И я продолжу там, где остановилась.
Это не я рассказываю историю.
И еще это я рассказываю историю мысленно, по ходу жизни.
Рассказываю, а не записываю, поскольку писать нечем и не на чем, к тому же писать запрещено. Но если это история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказываю кому-то. Самому себе истории не расскажешь. Всегда найдется кто-то еще.
Даже если никого нет.
История – как письмо. Здравствуйте, вы, скажу я. Просто вы, без имени. Если прицепить имя, прицепишь вас к миру фактов, а это рискованнее, это пагубнее: кто знает, каковы шансы выжить, ваши шансы?
Я скажу вы, вы, как в старом романсе. Может, вы — больше одного.
Может, вы – тысячи.
Опасность мне пока не грозит, скажу я вам.
Сделаю вид, что вы меня слышите.
Но тщетно, ибо я знаю – вы не слышите меня.
IV. Комната ожидания
Глава 8
Погода держится. Почти как будто июнь: мы бы вытащили сарафаны и босоножки и ели бы мороженое. На Стене – три новых трупа. Один – священник, так и висит в черной сутане. Его одели в сутану для суда, хотя сутаны перестали носить много лет назад, когда только начались сектантские войны; в сутанах священники слишком выделялись. У двух других на шеях плакаты: Гендерная Измена. Тела в формах Хранителей. Наверняка пойманы вместе, только где? В бараке, в душе? Трудно сказать. Снеговик с красной улыбкой исчез.
– Пора назад, – говорю я Гленовой. Это всегда говорю я. Иногда мне кажется, что она бы стояла тут вечно, если б я этого не говорила. Скорбит она или злорадствует? Я так и не разобралась.
Ни слова не говоря, она враз поворачивается, будто управляется голосом, будто ездит на смазанных колесиках, будто стоит на музыкальной шкатулке. Меня бесит эта ее грация. Бесит смиренная голова, склоненная, будто на сильном ветру. Нет ведь никакого ветра.
Мы уходим от Стены, возвращаемся той же дорогой под теплым солнцем.
– Славный выдался май. Сегодня любимый мой день, – говорит Гленова. Я скорее чувствую, чем вижу, как ее голова поворачивается ко мне, ждет ответа.
– Да, – говорю я. И, запоздало: – Хвала. – Мой день. Похоже на «Мэйдэй» – был такой сигнал бедствия, давным-давно, в одну из этих войн, которые мы изучали в школе. Я их все время путала, но они различались по самолетам, если приглядеться. А про «Мэйдэй» мне рассказал Люк. «Мэйдэй, мэйдэй» – для пилотов, чей самолет задели, и для кораблей – для кораблей тоже? – в море. Может, для кораблей был SOS. Жалко, что нельзя проверить. И еще в одной из этих войн в начале победы – что-то из Бетховена[19].
Знаешь, откуда это? спросил Люк. «Мэйдэй»? Нет, сказала я. Странное слово для таких случаев, нет? Газеты и кофе утром по воскресеньям, до того как она родилась. Тогда еще были газеты. Мы их читали в постели. Французское, сказал он. От M’aidez. Помогите.
К нам приближается небольшая процессия – похороны: три женщины, все в черных прозрачных вуалях, накинутых на головные уборы. Эконожена и еще две, плакальщицы, тоже Эконожены – подруги ее, наверное. Поношенные полосатые платья, и лица тоже поношенные. Однажды, когда жизнь станет получше, говорила Тетка Лидия, никому не надо будет становиться Эконоженой.
Первая – скорбящая, мать; она несет черную баночку. По размеру баночки можно понять, в каком возрасте он утонул внутри ее, захлебнулся. Два-три месяца, слишком маленький, не поймешь, Нечадо или нет. Тех, кто постарше, и тех, что умирают при рождении, хоронят в ящиках.
Из почтения мы замираем, а они идут мимо. Чувствует ли Гленова то же, что и я, – боль, точно удар в живот. Мы прижимаем ладони к сердцу, показываем этим незнакомым женщинам, что сопереживаем их горю. Первая хмурится нам из-под вуали. Вторая отворачивается, сплевывает на тротуар. Эконожены нас не любят.
Минуем магазины, вновь приближаемся к заставе, проходим ее. Шагаем дальше меж больших, пустых на вид домов, мимо газонов без сорняков. На углу возле дома, куда меня назначили, Гленова останавливается.
– Пред Его Очами, – говорит она. Прощается как надо.
– Пред Его Очами, – откликаюсь я, и она слегка кивает. Медлит, будто хочет что-то добавить, но потом разворачивается и уходит по улице. Я смотрю ей в спину. Она – будто мое отражение в зеркале, от которого я ухожу.
На дорожке Ник снова полирует «бурю». Уже добрался до хрома на капоте. Я кладу на щеколду руку в перчатке, открываю, толкаю. Калитка щелкает позади меня. Тюльпаны вдоль бордюра краснее красного, раскрываются – уже не винные бокалы, но потиры; они рвутся вверх – к чему? Они же все равно пустые. В старости выворачиваются наизнанку, потом медленно взрываются, и лепестки разлетаются осколками.
Ник поднимает голову и принимается насвистывать. Потом говорит:
– Хорошо погуляла?
Я киваю, но голоса не подаю. Ему не полагается со мной разговаривать. Конечно, некоторые будут пытаться, говорила Тетка Лидия. Всякая плоть немощна[20]. Всякая плоть – трава[21], мысленно поправляла я. Они не виноваты, Господь сотворил их такими, но вас Он такими не сотворил. Он сотворил вас иными. И вы сами проводите черту. Позже вам воздастся.
В саду за домом сидит на стуле Жена Командора. Яснорада – на редкость дурацкое имя. Название того, что в иные времена, в позапрошлые, лили бы себе на волосы, чтоб их осветлить. «Яснорада» – значилось бы на флаконе, и женская головка, бумажный силуэт на розовом овале с золотыми фестонами по краю. Столько на свете имен – почему она выбрала это? Ее и тогда Яснорадой на самом деле не звали. По-настоящему ее звали Пэм. Я это прочла в журнальном очерке спустя много лет после того, как впервые увидела ее, когда мама отсыпалась в воскресенье. К тому времени Яснорада стала достойна очерка: в «Тайм», кажется, или в «Ньюсуик», наверняка что-то такое. Она больше не пела – она толкала речи. Это у нее выходило блестяще. О святости жилища, о том, что женщинам следует сидеть дома. Сама она так не поступала – она толкала речи, но этот свой ляп выставляла жертвой, которую приносит ради общего блага.
Примерно тогда кто-то попытался ее пристрелить и промахнулся; вместо нее погибла секретарша, которая стояла рядом. Еще кто-то подложил бомбу в ее машину, но бомба взорвалась слишком рано. Правда, ходили слухи, что бомбу подложила она сама – на жалость давила. Вот до чего накалились страсти.
Мы с Люком иногда видели ее в ночных новостях. Домашние халаты, стаканчики на ночь. Мы смотрели, как она машет волосами, наблюдали ее истерики и ее слезы, которые она все еще умела вызывать усилием воли, и тушь чернила ей щеки. Она тогда сильнее красилась. Мы считали, что она забавна. Ну, Люк считал, что она забавна. Я только притворялась, что согласна. Вообще-то она чуточку пугала. Она была серьезна.
Она больше не толкает речей. Потеряла дар речи. Сидит дома, но, похоже, ей это не по душе. Как она, должно быть, неистовствует теперь, когда ее поймали на слове.
Она глядит на тюльпаны. Трость подле нее на траве. Сидит ко мне боком, я поглядываю искоса, шагая мимо, и мельком вижу профиль. Пялиться не годится. Уже не безупречный бумажный профиль, ее лицо проваливается в себя, и я представляю города, возведенные поверх подземных рек, где дома и целые улицы исчезают мгновенно во внезапных трясинах, или угольные поселки, что рушатся в шахты под ними. Видимо, примерно это с ней и произошло, когда она различила истинный облик грядущего[22].
Она не поворачивает головы. Никак не дает понять, что заметила меня, хотя знает, что я здесь. Я вижу, что знает: ее знание – будто вонь, что-то прокисло, как старое молоко.
Не с мужьями вам надо быть начеку, говорила Тетка Лидия, а с Женами. Всегда старайтесь вообразить, каково им. Разумеется, они вас не выносят. Это же естественно. Старайтесь им сочувствовать. Тетка Лидия полагала, что прекрасно умеет сочувствовать. Старайтесь их жалеть. Простите им, ибо не знают, что делают[23]. И вновь эта дрожащая улыбка нищенки, подслеповатое моргание, очи горе за круглыми очками в стальной оправе, вот она устремилась к последним партам, будто закрашенная зеленью штукатурка на потолке разверзлась, и сквозь провода и пульверизаторы противопожарной системы на облаке пудры «Розовая жемчужина» спускается Господь. Поймите, эти женщины разгромлены. Они не способны…
Тут голос надламывался, и следовала пауза – и тогда я слышала вздох, общий вздох вокруг. Шуршать или возиться в этих паузах нежелательно: Тетка Лидия, пусть якобы и витает в облаках, ловит каждое шевеление. Поэтому вокруг – только вздох.
Будущее – в ваших руках, продолжала она. Протягивала к нам ладони – древний жест подношения, приглашения выступить вперед, пасть на грудь, – древний жест приятия. В ваших руках, повторяла она, глядя на собственные руки, будто они натолкнули ее на эту мысль. Но в них ничего не было. Пустые. Это наши руки должны быть полны будущим; кое, может, и удержишь, но не разглядишь.
Я огибаю дом к черному ходу, открываю, вхожу, ставлю корзинку на кухонный стол. Стол отскоблили, отмыли от муки; на решетке остывает сегодняшний хлеб, свежеиспеченный. Кухня пахнет закваской – ностальгический аромат. Напоминает мне другие кухни, кухни, что были моими. Запах матерей; хотя мама не пекла хлеб. Мой собственный запах из прошлого, когда я была матерью.
Это предательский запах, и я знаю, что должна от него отмахнуться.
В кухне за столом Рита чистит и режет морковь. Старые морковки, толстые, перемороженные, в погребах отпустившие усы. Молодые, нежные и бледные, появятся лишь через несколько недель. Нож у Риты в руках острый, блестящий, соблазнительный. Я хочу такой нож.
Рита бросает морковь, встает, чуть ли не жадно выхватывает свертки из корзинки. Она предвкушает разбор моих покупок, хотя всегда морщится, их разворачивая; что бы я ни принесла, она всегда чем-нибудь недовольна. Считает, что сама бы справилась лучше. Она бы сама ходила по магазинам, покупала бы ровно то, что хочет; она завидует моим прогулкам. В этом доме все друг другу почему-нибудь завидуют.
– Были апельсины, – говорю я. – В «Молоке и меде». Еще остались. – Я предлагаю ей эту мысль как дар. Хочу подольститься. Апельсины я видела еще вчера, но Рите не сказала; вчера она была чересчур сварлива. – Я могу завтра принести, если вы дадите мне талоны. – Я протягиваю ей цыпленка. Она сегодня хотела стейк, но стейков не было.
Рита ворчит, не выдавая ни радости, ни согласия. Она поразмыслит над этим, говорит ворчание, когда ее душеньке будет угодно. Она развязывает цыпленка, разворачивает бумагу. Тычет в цыпленка, дергает за крыло, сует палец в дырку, выуживает потроха. Цыпленок лежит на столе, безголовый и безногий, покрытый гусиной кожей, будто мерзнет.
– Банный день, – сообщает Рита, не глядя на меня.
Из буфетной в глубине, где хранят тряпки и швабры, выходит Кора.
– Цыпленок, – говорит она почти в восторге.
– Тощий, – отвечает Рита, – но уж какой есть.
– Там больше почти ничего не было, – говорю я. Рита как будто не слышит.
– По-моему, довольно здоровый, – говорит Кора. Меня защищает? Я смотрю на нее – не надо ли улыбнуться? – но нет, она думает только о еде. Она моложе Риты; солнце, косящее через западное окно, падает на ее волосы, оттянутые назад и расчесанные на прямой пробор. Наверное, она совсем недавно была красивая. На ушах отметинки, точно ямочки, там, где заросли дырки для серег.
– Высокий, – говорит Рита, – зато костлявый. Надо было им сказать, – прибавляет она, впервые глядя мне в лицо. – Чай, не простолюдины. – Она имеет в виду ранг Командора. Но в ином смысле, ее собственном смысле, она считает простолюдинкой меня. Ей за шестьдесят, ее не разубедишь.
Она отходит к раковине, поспешно сует руки под струю из крана, вытирает посудным полотенцем. Посудное полотенце – белое с синими полосами. Посудные полотенца ни капли не изменились. Порой эти вспышки нормальности напрыгивают на меня, точно из засады. Обыкновенность, привычность, напоминание – пинком. Я вижу полотенце вне контекста, и у меня перехватывает дыхание. Для некоторых, в некотором смысле, особо ничего не изменилось.
– Кто моет ванну? – спрашивает Рита – Кору, не меня. – Мне надо птичку вымачивать.
– Я вымою потом, – говорит Кора. – Только пыль вытру.
– Ты главное вымой, – говорит Рита.
Они говорят обо мне так, будто я не слышу. Для них я – очередная работа по дому, одна из множества.
Меня отпустили. Я забираю корзинку, выхожу из кухни, шагаю по коридору к напольным часам. Дверь в покои закрыта. Солнце пронзило витраж, распалось на осколки на полу: красные и синие, фиолетовые. Я на секунду ступаю туда, протягиваю руки; они полны цветами света. Поднимаюсь по лестнице; мое далекое, белое, искаженное лицо обрамлено зеркалом, что выпячивается, будто глаз под давлением. Я бреду по грязно-розовой дорожке вдоль длинного коридора на втором этаже – в комнату.
Кто-то стоит возле комнаты, куда меня поселили. В коридоре сумрачно; это мужчина, спиной ко мне; он смотрит в комнату, темный в комнатном свете. Я теперь вижу – это Командор, ему тут быть не полагается. Он слышит шаги, поворачивается, мнется, идет. Ко мне. Он нарушил обычай, что мне теперь делать?
Я останавливаюсь, он замирает, я не вижу его лица, он на меня смотрит, что ему нужно? Но потом он вновь шагает, отстраняется, чтобы не коснуться меня, наклоняет голову, исчез.
Мне что-то показали, но что это было? Точно стяг неизвестной державы на мгновение возник над изгибом холма – быть может, атака, быть может, переговоры, быть может, какая-то граница, граница территории. Сигналы, что передают друг другу животные: опущенные синие веки, прижатые уши, взъерошенный гребень. Промельк оскаленных зубов, он что, рехнулся, за каким чертом его сюда понесло? Больше его никто не видел. Надеюсь. Это вторжение? Он заходил в мою комнату?
Я сказала про нее – моя.
Глава 9
Значит, МОЯ комната. Должно же появиться наконец пространство, которое я объявлю своим, даже во времена, угодные им.
Я жду в моей комнате, которая в данную секунду – комната ожидания. Когда я ложусь спать, она спальня. Занавески еще колышутся на ветерке, солнце снаружи по-прежнему сияет, хоть и не лупит прямо в окно. Сдвинулось к западу. Я стараюсь не рассказывать историй – во всяком случае, не эту.
Кто-то жил до меня в этой комнате. Кто-то мне подобный – или просто мне нравится в это верить.
Я узнала об этом через три дня после того, как сюда въехала.
Времени было полно. Я решила исследовать комнату. Неторопливо, как исследуешь номер в гостинице, не ожидая сюрпризов, открывая и закрывая ящики стола, дверцы шкафа, разворачивая брусочки мыла в обертках, тыча в подушки. Окажусь ли я вновь в гостинице? Как я их транжирила, эти комнаты, эту свободу от чужих глаз.
Арендованную привилегию.
Днем, когда Люк еще бежал от жены, когда я еще оставалась его фантазией. До того как мы поженились и я затвердела. Я всегда приезжала первой, снимала номер. Не так уж часто, но теперь кажется – десятилетия, эпоха; я помню, что надевала, каждую блузку, каждый шарф. Я вышагивала по номеру, ждала его, включала и выключала телевизор, касалась парфюмом за ушами – «Опиум», да. В китайских флаконах, красных с золотом.
Я нервничала. Откуда мне было знать, что он меня любит? Может, просто интрижка. Отчего мы вечно говорили «просто»? С другой стороны, в те времена мужчины и женщины примеряли друг друга небрежно, точно костюмы, и отбрасывали все, что не подходит.
Стук в дверь; я открывала, меня переполняло облегчение, желание. Он был такой моментальный, такой сгущенный. И все равно казалось, что ему нет предела. Потом мы лежали в этих кроватях под вечер, касались друг друга, разговаривали. Возможно, невозможно. Как поступить? Мы думали, у нас такие серьезные проблемы. Откуда нам было знать, что мы счастливы?
Но теперь я скучаю и по самим гостиничным номерам, даже по кошмарным картинкам на стенах, пейзажам с листопадами или тающим снегом на древесине, или женщинам в старинных костюмах, с личиками китайских кукол, с турнюрами и парасольками, или грустноглазым клоунам, или чашам с фруктами, мертвенными и жесткими. Свежие полотенца, готовые к порче, мусорные корзины гостеприимно разинули рты, заманивают беспечный мусор. Беспечный. В этих номерах я была беспечна. Я могла поднять телефонную трубку, и на подносе появлялась еда – еда, которую я сама выбрала. Вредная еда, без сомнения, да еще алкоголь. В ящиках шкафов валялись Библии, их сунуло туда какое-нибудь благотворительное общество, хотя, наверное, их почти никто не читал. И были открытки с видами гостиницы, можно было написать на открытке слова и послать кому захочется. Сейчас все это кажется нереальным; как будто сочиняешь.
Так вот. Я обследовала эту комнату – неторопливо, значит, как гостиничный номер, не транжиря. Я не хотела обследовать ее за раз, я хотела, чтоб это продлилось. Про себя разделила ее на секторы; разрешала себе один сектор в день. И этот сектор я изучала с предельным тщанием: неровности штукатурки под обоями, царапины под верхним слоем краски на плинтусе и подоконнике, пятна на матрасе, ибо я далеко зашла: я даже поднимала покрывала и простыни с кровати, складывала их, по чуть-чуть, чтобы успеть разложить, если кто зайдет.
Пятна на матрасе. Точно высохшие лепестки. Давние. Старая любовь; в этой комнате не бывает иной.
Увидев это, эти улики, оставленные двумя людьми, улики любви или чего-то похожего, хотя бы желания, хотя бы касания двух людей, что ныне, должно быть, одряхлели или мертвы, я вновь застелила постель и легла. Я глядела в слепой штукатурный глаз потолка. Хотела почувствовать, как рядом лежит Люк. Эти приступы прошлого наваливаются, точно обмороки, в голове прокатывается волна. Порой они еле выносимы. Что же делать, что же делать, думала я. Ничего не сделаешь. Не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет. Или лежит и ждет. Я знаю, отчего стекло в окне противоударное и почему убрали люстру. Я хотела почувствовать, как рядом лежит Люк, но не хватало места.
Шкаф я оставила до третьего дня. Сначала внимательно оглядела дверцы, снаружи и внутри, потом стенки с латунными крючками – как же это они проглядели крючки? Почему не сняли? Слишком близко к полу? Но все равно, один чулок – и готово. И трубка с пластиковыми вешалками, на них висят мои платья, красная шерстяная накидка для холодов, шаль. Я встала на колени, чтобы рассмотреть дно, и нашла: крохотные буковки, вроде довольно свежие, нацарапаны булавкой или, может, просто ногтем, в углу, куда падала самая густая тень: Nolite te bastardes carborundorum.
Я понятия не имела, что это означает или хотя бы на каком языке. Я подумала, может, латынь, но латыни я совсем не знала. И все же это послание, написанное и уже потому запрещенное, и его еще никто не нашел. Только я, кому оно адресовано. Оно адресовано той, которая придет следом.
Мне приятно раздумывать о послании. Приятно думать, что я общаюсь с ней, с этой неизвестной женщиной. Ибо она неизвестна, а если известна, мне о ней никогда не говорили. Мне приятно знать, что ее запретное послание пробилось хотя бы к одному человеку, прибилось к стене моего шкафа, было открыто мною и прочитано. Порой я повторяю про себя слова. Маленькая радость. Я представляю себе ту, кто их написала; мне кажется, она мне ровесница – может, чуть помоложе. Я превратила ее в Мойру, Мойру, какой та была в колледже, за стенкой: ловкая, веселая, сильная, одно время на велосипеде и с походным рюкзаком. Веснушки, думаю; находчива, непочтительна.
Интересно, кто она была или есть и что с ней стало.
Я подкатила к Рите в тот день, когда нашла послание.
А что за женщина жила в той комнате? спросила я. До меня? Спроси я иначе, спроси я: а до меня в той комнате жила женщина? – я бы, может, и не получила ответа.
Которая? спросила она; ворчливо, подозрительно, но, с другой стороны, она всегда со мной так разговаривает.
Значит, было несколько. Кто-то не прожил тут весь срок службы, все два года. Кого-то отослали по той или иной причине. А может, не отосланы; умерли?
Бойкая такая. Я просто гадала. С веснушками.
Знакомая, что ль? спросила Рита, просто исходя подозрениями.
Я ее знала прежде, солгала я. Я слыхала, она тут была. Это ее успокоило. Она понимала, что должно где-то быть тайное сарафанное радио, подполье своего рода. У нее не вышло, сказала она.
Что именно? спросила я, стараясь, чтоб прозвучало как можно нейтральнее.
Но Рита поджала губы. Я тут как ребенок: есть вещи, которые мне рассказывать не полагается. Много будешь знать – скоро состаришься, вот и все, что она мне ответила.
Глава 10
Иногда я пою про себя, мысленно; что-нибудь горестное, скорбное, пресвитерианское:
- Дивная милость, дар благосклонный,
- Пела несчастному: верь.
- Прежде заблудший, ныне спасенный,
- Я свободен теперь[24].
Не уверена, что слова правильные. Не помню. Таких песен больше не поют прилюдно, особенно тех, в которых есть слово свободен. Считается, что они слишком опасны. Удел противозаконных сект.
- Я так одинок, малышка,
- Я так одинок, малышка,
- Я просто готов умереть[25].
Эта тоже противозаконна. Я ее слышала на старой маминой кассете; у мамы был скрипучий и ненадежный механизм, еще умевший такое играть. Мама ставила пленку, когда к ней приходили подруги и они выпивали.
Я нечасто так пою. У меня от этого горло саднит.
Музыки в этом доме почти нет, разве та, что по телевизору. Иногда Рита мурлычет, когда месит тесто или лущит горох; бессловесный гул, немелодичный, невнятный. А временами из парадных покоев доносится тоненький голосок Яснорады – с пластинки, записанной сто лет назад; теперь она крутит пластинку потихоньку, чтоб не застукали, и сидит, вяжет, вспоминает прежнюю, отнятую славу: Аллилуйя.
На удивление тепло. Такие дома прогреваются на солнце – у них слабая изоляция. Вокруг меня воздух застаивается, невзирая на слабое течение, на дыхание из окна через занавески. Я бы хотела распахнуть окно до упора. Еще чуть-чуть, и нам разрешат переодеться в летние платья.
Летние платья распакованы и висят в шкафу, две штуки, чистый хлопок, лучше синтетических, которые подешевле, но все равно в духоту, в июле и августе, мы в них потеем. Зато на солнце не сгорите, говорила Тетка Лидия. Как женщины раньше выставляли себя напоказ. Мазали себя жиром, точно мясо на шампуре, голые плечи, спины, на улице, на людях; и ноги, даже без чулок, – неудивительно, что случались такие вещи. Вещи – вот как называла она все до того безвкусное, грязное или ужасное, что и с губ сорваться не могло. Для нее жить благополучно – значит жить, избегая вещей, исключая вещи. Эти вещи с приличными женщинами не случаются. И вещи так вредны для лица, очень вредны, вся сморщиваешься, как сушеное яблоко. Только она забыла: нам теперь не полагается заботиться о лице.
В парке, говорила Тетка Лидия, валялись на одеялах, иногда вместе мужчины и женщины, – и тут она принималась рыдать, стояла перед нами и рыдала у нас на глазах.
Я так стараюсь, говорила она. Я стараюсь дать вам шанс, какой только можно. Она помаргивала: слишком яркий свет, тряслись губы – рамка для передних зубов, которые чуть выдавались вперед, длинные и желтоватые, – и я вспоминала дохлых мышек; мы находили их на пороге, когда жили в доме, все втроем – вчетвером, если считать кошку, которая и оставляла нам эти подношения.
Тетка Лидия прижимала ладонь ко рту дохлого грызуна. Через минуту опускала руку. Мне тоже захотелось плакать – она мне напомнила. Если б только она сама их не жевала, говорила я Люку.
Вы что думаете, мне легко? спрашивала Тетка Лидия.
Мойра – ворвалась ко мне в комнату, уронила джинсовую куртку на пол. Сиги есть?
В сумке, ответила я. Только спичек нету.
Она роется в сумочке. Выкинула бы ты весь этот мусор, говорит она. Хочу закатить шлюховерную вечеринку.
Что закатить? спрашиваю я. Бесполезно пытаться работать, Мойра не даст, она – будто кошка, что прокрадывается на страницу, которую читаешь.
Ну, знаешь, как «Таппервер»[26], только с нижним бельем. Шлюшьи фиговины. Кружевные промежности, подвязки на застежках. Лифчики, которые сиськи подпирают. Она выуживает мою зажигалку, прикуривает сигарету, обнаруженную в сумочке. Будешь? Кидает мне пачку – поразительная щедрость, если учесть, что сигареты мои.
Большое тебе спасибо, кисло говорю я. Ты чокнулась. Где ты вообще мысли такие берешь?
Подрабатывала, отвечает Мойра. У меня связи. Матушкины подруги. Большое дело в пригородах. Как только покрываются старческими пятнами, тут же решают, что пора давить конкурентов. «Порномарты» и чего только душа пожелает.
Я смеюсь. Она всегда меня смешила.
Но здесь-то? говорю я. Кто придет? Кому это надо?
Учиться никогда не рано, отвечает она. Пошли, будет круто. От смеха описаемся.
И вот так мы тогда жили? Но мы жили обычно. Как правило, все так живут. Что ни происходит, все обычно. Даже вот это теперь – обычно.
Как обычно, жили мы легкомысленно. Легкомыслие – не то же, что легкость мысли; над ним не надо трудиться.
Мгновенно ничто не меняется: в постепенно закипающей ванне сваришься заживо и не заметишь. Конечно, были репортажи в газетах, трупы в канавах или в лесах, забитые до смерти или изувеченные, жертвы насилия, как тогда выражались, но то были другие женщины, и мужчины, сотворившие такое, были другие мужчины. Мы таких не знали. Газетные репортажи казались дурными снами, что приснились не нам. Какой кошмар, говорили мы, – и впрямь кошмар, но кошмар, лишенный правдоподобия. Слишком мелодраматичный – в том измерении, которое не пересекалось с нашими жизнями.
Мы не попадали в газеты. Мы жили вдоль кромки шрифта на пустых белых полях. Там было свободнее.
Мы жили в пробелах между историями.
Внизу, на дорожке, взрыкивает заведенный двигатель. В округе тихо, машин мало, такие звуки слышишь очень ясно: автомобильный мотор, газонокосилка, щелчки секатора, хлопок двери. Вопль был бы отчетлив, и выстрел тоже, если б они здесь прозвучали. Порой вдали воют сирены.
Я подхожу к окну, сажусь на канапе – слишком узкое, неудобно. На нем жесткая подушечка с вышитой наволочкой: печатные буквы ВЕРА, вокруг венок из лилий. ВЕРА – увядшая голубизна, листья лилий – тусклая зелень. Эту подушку где-то использовали, потрепали, но недостаточно, чтобы выбросить. Как-то ее проглядели.
Долгие минуты, десятки минут я могу сидеть, взглядом скользя по буквам: ВЕРА. Вот и все, что мне дали почитать. А если б меня застукали, это бы считалось? Это же не я положила сюда подушку.
Мотор урчит, и я наклоняюсь, закрывая лицо белой занавеской, точно вуалью. Занавеска тонкая, мне сквозь нее видно. Если прижаться лбом к стеклу и посмотреть вниз, я вижу заднюю половину «бури». Снаружи ни души, но под моим взглядом появляется Ник, подходит к задней дверце, открывает, стоит навытяжку. Фуражка нахлобучена прямо, рукава опущены и застегнуты. Лица не видно, потому что я гляжу сверху.
Вот выходит Командор. Его я вижу мельком, укороченного, – он идет к машине. Без шляпы – значит, не на официальное торжество. Седые волосы. Если хочется быть любезной, можно сказать – серебристые. Что-то не хочется мне быть любезной. Предыдущий был лыс, так что, видимо, дела налаживаются.
Если б я могла плюнуть из окна или чем-нибудь кинуть – подушкой, например, – я бы, наверное, в него попала.
Мы с Мойрой, у нас бумажные пакеты с водой. Водяные бомбочки, вот как их называли. Высунулись из окна моей спальни в общаге, швыряем вниз парням на головы. Это Мойра придумала. Что они такое делали? По лестнице зачем-то лезли. За нашим нижним бельем.
Общага прежде была совместная, в одном туалете до сих пор писсуары. Но когда я там поселилась, мужчин и женщин снова развели.
Командор горбится, забирается внутрь, пропадает, и Ник закрывает дверцу. Секунду спустя машина пятится по дорожке на улицу и исчезает за изгородью.
Мне бы надо ненавидеть этого человека. Я знаю, что должна ненавидеть, но чувствую иное. То, что я чувствую, гораздо сложнее. Не знаю, как назвать. Не любовь.
Глава 11
Вчера утром я ездила к врачу. Меня возили – возил Хранитель с красной нарукавной повязкой, один из тех, которые за это отвечают. Мы ехали в красной машине, он спереди, я сзади. Близняшка со мной не ездила; в таких случаях я одиночка.
Меня возят к врачу раз в месяц на анализы: моча, гормоны, мазок на онкологию, анализ крови; все как прежде, только теперь это обязательно.
Кабинет врача – в модерновом конторском здании. Мы едем в лифте молча, Хранитель – ко мне лицом. В черной зеркальной стене я вижу его затылок. В кабинет я захожу одна; он ждет в коридоре с другими Хранителями, на стуле – там для того стулья и выставили.
В комнате ожидания еще три женщины в красном; этот врач – специалист. Мы исподтишка разглядываем друг друга, оцениваем животы: повезло кому-нибудь? Медбрат вбивает наши имена и номера пропусков в Компидент – проверяет, те ли мы, кем нам полагается быть. Он ростом футов, наверное, шесть, лет под сорок, шрам наискось через щеку; медбрат сидит, печатает, руки великоваты для клавиатуры, в наплечной кобуре пистолет.
Меня вызывают, и я вхожу во внутренний кабинет. Белый, безликий, как и внешний, только ширма стоит, на раме натянута красная ткань, на ткани рисунок – золотой глаз, а под ним две змеи оплели вертикальный меч – рукоятка для ока. Меч и змеи, осколки разбитых символов прежних времен.
Я наполняю бутылочку, которую мне припасли в крохотном туалете, раздеваюсь за ширмой, складываю одежду на стул. Нагишом ложусь на смотровой стол, на одноразовую простыню из холодной хрустящей бумаги. Натягиваю вторую простыню, тряпочную. Еще одна простыня свешивается с потолка над шеей. Делит меня так, чтобы врач ни за что не увидел лица. Он работает лишь с торсом.
Устроившись, нащупываю рычажок справа на столе, оттягиваю. Где-то звенит колокольчик – я его не слышу. Через минуту открывается дверь, шаги, дыхание. Ему не полагается говорить со мной – только если без этого никак. Но этот врач разговорчивый.
– Ну, как мы себя чувствуем? – спрашивает он – какая-то речевая судорога из давних времен. Простыня с тела убрана, от сквозняка мурашки. Холодный палец, обрезиненный и смазанный, проскальзывает в меня, меня тычут и щупают. Палец убирается, входит иначе, отступает. – С вами все в порядке, – говорит врач, будто себе самому. – Что-то болит, сладкая? – Он называет меня сладкая.
– Нет, – говорю я.
В свой черед мне щупают груди, ищут спелость, гниль. Дыхание приближается, я чую застарелый дым, лосьон после бритья, табачную пыль на волосах. Потом голос, очень тихий, почти в ухо: его голова выпячивает простыню.
– Я могу помочь, – говорит он. Шепчет.
– Что?
– Ш-ш, – говорит он. – Я могу помочь. Я и другим помогал.
– Помочь? – спрашиваю я так же тихо. – Как? – Может, он что-то знает, может, видел Люка, нашел, поможет вернуть?
– А ты как думаешь? – спрашивает он, еле выдыхая слова. Это что – его рука скользит по моей ноге? Перчатку он снял. – Дверь заперта. Никто не войдет. И не узнают, что не от него.
Он поднимает простыню. Пол-лица закрыто белой марлей – таково правило. Два карих глаза, нос, голова, на ней каштановые волосы. Его пальцы у меня между ног.
– Большинство этих стариков уже не могут, – говорит он. – Или стерильны.
Я чуть не ахаю: он сказал запретное слово. Стерильны. Не бывает стерильных мужчин – во всяком случае, официально. Бывают только женщины, что плодоносны, и женщины, что бесплодны; таков закон.
– Многие женщины так делают, – продолжает он. – Ты же хочешь ребенка?
– Да, – отвечаю я. Это правда, и я не спрашиваю почему, ибо знаю и так. Дай мне детей, а если не так, я умираю. Можно по-разному понимать.
– Ты мягкая, – говорит он. – Пора. Сегодня или завтра в самый раз, к чему время терять? Всего минута, сладкая. – Так он называл когда-то жену; может, по сей день называет, но в принципе это обобщение. Все мы сладкие.
Я колеблюсь. Он предлагает мне себя, свои услуги, с риском для него самого.
– Мне тоскливо смотреть, на что они вас обрекают, – шепчет он. Искренне, он искренне сочувствует, и все же наслаждается – сочувствием и всем остальным. Его глаза увлажнило сострадание, по мне скользит рука, нервно, нетерпеливо.
– Слишком опасно, – говорю я. – Нет. Я не могу. – Наказание – смерть. Но вас для этого должны застать два свидетеля[27]. Каковы шансы, прослушивается ли кабинет, кто ждет прямо под дверью?
Его рука останавливается.
– Подумай, – советует он. – Я видел твою медкарту. У тебя мало времени. Но тебе жить.