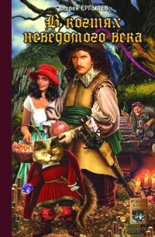Камо грядеши Сенкевич Генрик
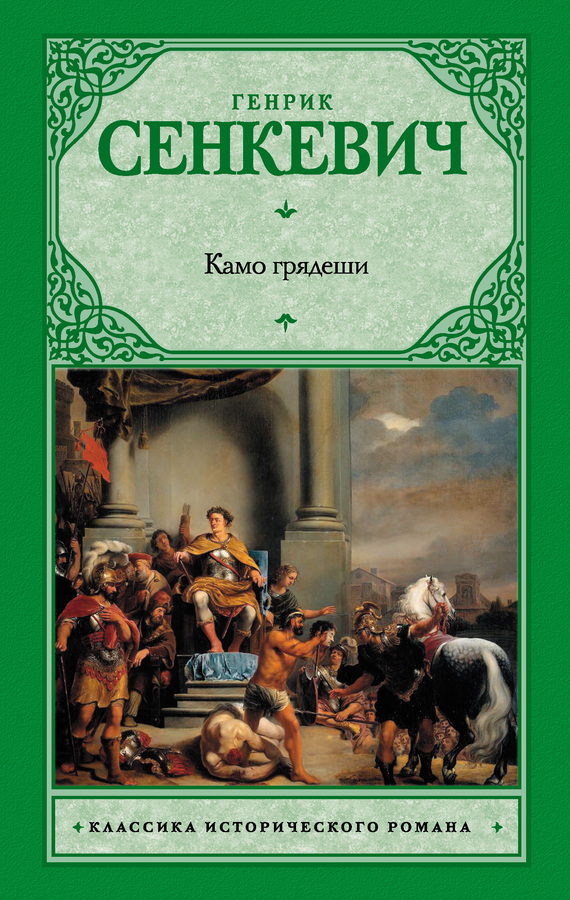
Глаза ее затуманились, и две крупных слезы медленно покатились по ее щекам.
– Да благословит Бог Помпонию и Авла, – сказала она. – Я не должна подвергать их опасности, следовательно, никогда больше не увижу их.
Потом, обратившись к Урсу, она стала говорить ему, что он один остается теперь у нее на свете и должен отныне заменить ей отца и опекуна. Они не могут искать приюта у Авла, так как обрекли бы его на гнев цезаря. Она не должна, однако, остаться ни в доме цезаря, ни у Виниция. Пусть же Урс возьмет ее, пусть уведет из Рима и скроет где-нибудь, где ее не найдет ни Виниций, ни его слуги. Она всюду последует за ним, хотя бы за моря, хотя бы за горы, к варварам, где не слышали римского имени, куда не проникла еще власть цезаря. Пусть он берет ее и спасает, так как, кроме него, у нее не осталось никого.
Лигиец, в знак готовности и послушания, склонился и обнял ее ноги. На лице Актеи, ожидавшей чуда, отразилось разочарование. Неужели ничего больше не вышло из этой молитвы? Побег из дома цезаря будет сочтен за оскорбление величества, а подобное преступление не может быть оставлено без отмщения. Если молодой девушке даже удастся бежать, цезарь выместит свой гнев на Авле и его семье. Если она хочет бежать, пусть бежит из дома Виниция. Тогда цезарь, не любящий заниматься чужими делами, быть может, вовсе не захочет помогать Виницию в погоне, и, во всяком случае, они избавятся от обвинения в оскорблении величества.
Лигия так и думала поступить. Авл даже не узнает, куда она исчезла, – она скроет это даже от Помпонии… Она убежит, однако, не из дома Виниция, а на пути туда. Он сообщил ей, под влиянием опьянения, что вечером пришлет за нею своих рабов. Он, вероятно, говорил правду, которой не высказал бы, если бы был трезв. Очевидно, он сам, или вместе с Петронием, говорил перед пиром с цезарем и выпросил у него обещание на следующий вечер выдать ее. Если же сегодня забудут о ней, пришлют взять ее завтра. Но Урс спасет ее. Он явится, возьмет ее с носилок, как вынес из триклиния, и они пустятся скитаться по свету. Урса не одолеет никто. Его не победил бы даже тот страшный силач, который боролся вчера в триклинии. Виниций может, однако, послать слишком много рабов, поэтому Урс должен сейчас же пойти к епископу Линну просить совета и помощи. Епископ сжалится над ней, не оставит ее в руках Виниция и прикажет христианам идти с Урсом спасать ее. Они отобьют ее, уведут, а потом Урс сумеет вынести ее из города и скрыть где-нибудь от власти римлян.
Лицо ее порозовело и осветилось улыбкой. Она ободрилась, как будто надежда на спасение превратилась уже в действительность. Она бросилась вдруг на шею к Актее и, прильнув прелестными устами к щеке гречанки, прошептала:
– Ты не выдашь нас, Актея, не правда ли?
– Клянусь тенью моей матери, – ответила вольноотпущенница, – я не выдам вас, моли только твоего Бога, чтобы Урсу удалось освободить тебя.
Голубые простодушные, как у ребенка, глаза великана сияли счастьем. Он не сумел ничего придумать, хотя ломал свою бедную голову, – но с такой задачей он справится. И днем ли, ночью ли, ему все равно!.. Он пойдет к епископу, потому что епископ читает в небе, что следует и чего не следует делать. Но христиан он сумел бы созвать и без его помощи. Мало ли у него знакомых – и рабов, и гладиаторов, и вольных людей, – и в Субуре и за мостами. Он набрал бы их тысячу – и две. Он отобьет свою госпожу, и вывести ее из города также сумеет, сумеет и странствовать с нею. Они отправятся хоть на конец света, хоть на родину, где никто и не слышал о Риме.
Взор его устремился в пространство, как бы всматриваясь в безмерно отдаленное время, потом он произнес:
– В бор?.. Гей, что за бор, что за бор!..
Он тотчас же, однако, отогнал от себя эти образы.
Да, он немедленно пойдет к епископу, а к вечеру с сотней людей будет подстерегать носилки. И не беда, если ее станут сопровождать не только рабы, но и преторианцы! И пусть лучше никто не подвертывается под его кулаки, хотя бы в железных доспехах… Железо не так уж крепко! Если хорошенько стукнуть по железу, так и голова под ним не выдержит.
Но Лигия с наставительной и вместе с тем детской важностью подняла кверху палец и сказала:
– Урс, «не убий».
Лигиец приложил свою похожую на палицу руку к затылку и стал бормотать, озабоченно потирая шею: ведь он должен же отнять ее, «свое солнышко»… Она сама сказала, что теперь настал его черед… Он будет стараться, – насколько возможно. Но, если случится, помимо желания?.. Ведь он же должен отнять ее! Уж если случится такой грех, он будет каяться так усердно, так горячо умолять Невинного Агнца о прощении, что Распятый Агнец смилуется над ним, бедным… Он ведь не хотел бы обидеть Агнца, но что же делать, если у него такие тяжелые руки…
Глубокое умиление отравилось на его лице; желая скрыть свои чувства, Урс поклонился и сказал:
– Так я пойду к святому епископу.
Актея, обняв Лигию, заплакала… Она еще раз постигла, что есть какой-то мир, в котором даже страдание дает больше счастья, чем все излишества и наслаждения в доме цезаря. Еще раз распахнулись перед нею какие-то двери, ведущие к свету, но она вместе с тем почувствовала, что недостойна переступить через их порог.
Лигии жаль было Помпонии Грецины, которую она любила всем сердцем, и всей семьи Авла, однако отчаяние ее прошло. Она испытывала даже некоторое наслаждение при мысли, что жертвует для своей Истины довольством и спокойствием и обрекает себя на жизнь в скитаниях и безвестности. Быть может, ее соблазняло несколько и детское любопытство – изведать, какова будет эта жизнь где-то в далеких краях, среди варваров и диких зверей, но в гораздо сильнейшей степени вдохновляла ее глубокая и твердая вера. Она была убеждена, что, поступая таким образом, она следует завету «Божественного Учителя» и что отныне Он сам будет пещись о ней, как о послушном и верном дитяти. Что же дурного может произойти с нею в таком случае? Если ее постигнут какие-либо страдания, она перенесет их во имя Его. Пробьет ли неожиданно смертный час, Он примет ее, и затем, когда умрет Помпония, они соединятся на всю вечность.
Она не раз, живя еще в семье Авла, томила свою детскую головку мыслями о том, что она, христианка, не может пожертвовать ничем для того Распятого, о котором с таким умилением вспоминал Урс. И вот теперь наступило время осуществить эти мечты. Лигия чувствовала себя почти счастливой и стала говорить о своем счастье Актее, но гречанка не могла понять ее. Покинуть все, покинуть дом, довольство, город, сады, храмы, портики, – все, что прекрасно, покинуть излюбленный солнцем край и близких людей, и для чего? Для того чтобы бежать от любви молодого и прекрасного патриция?.. Рассудок Актеи отказывался понять подобный поступок. Были мгновения, когда она чувствовала, что в этом таится правда, быть может, даже какое-то беспредельное, неведомое счастье, но не могла уяснить себе этого, тем более что Лигию ожидало еще опасное приключение, угрожающее самой ее жизни. Актея была боязлива и со страхом думала о предстоящем вечером побеге. Она не хотела, однако, говорить Лигии о своих опасениях; видя, что тем временем занялся светлый день и солнце заглянуло в атрий, она стала уговаривать девушку отдохнуть после проведенной без сна ночи. Лигия согласилась. Они вошли в обширную спальню, отделанную роскошно – во внимание к прежней связи Актеи с цезарем, и легли вместе, но Актея, несмотря на утомление, не могла уснуть. Она давно уже стала печальной и несчастной, но теперь ею овладела какая-то тревога, которой она не испытывала никогда раньше. До сих пор существование казалось ей лишь тяжелым и безнадежным, теперь же оно представилось ей вдруг позорным.
Сознание ее все больше смущалось. Двери, ведущие к свету, снова стали то отмыкаться, то затворяться. Но и в те мгновения, когда они раскрывались, неведомый свет ослеплял ее, и она ничего не могла различить с отчетливостью. Она как будто догадывалась лишь, что в этом сиянии таится какое-то безграничное блаженство, в сравнении с которым все остальное так ничтожно, что если бы, например, цезарь отдалил от себя Поппею и снова полюбил ее, Актею, то и это было бы тленом. Вместе с тем ей думалось, что цезарь, которого она любит и невольно считает каким-то полубогом, в сущности столь же жалок, как и каждый невольник, а этот дворец с колоннадами из нумидийского мрамора ничем не лучше любой груды камней. Под конец, однако, эти чувства, в которых она не могла разобраться, стали мучить ее. Ей хотелось уснуть, но, терзаемая тревогой, она не могла сомкнуть глаз.
Полагая, что Лигия, над которой тяготеет неизвестность и столько опасностей, также не спит, Актея повернулась к ней, чтобы поговорить о назначенном на вечер побеге.
Но Лигия спокойно спала. В темную спальню сквозь небрежно задернутую занавеску прокралось несколько ярких лучей, в которых крутилась золотистая пыль. При свете их Актея рассмотрела нежное лицо Лигии, подпертое обнаженною рукой, сомкнутые глаза и слегка раскрывшиеся уста. Она дышала ровно, но так, как дышат только во сне.
«Спит, может спать! – подумала Актея. – Она еще дитя».
Тем не менее через миг ей пришло в голову, что это дитя предпочитает бежать, чем сделаться любовницей Виниция, предпочитает нужду – позору, скитальчество – пышному дому возле Карин, нарядам, драгоценным украшениям, пирам, музыке лютней и цитр. Почему?
Актея стала всматриваться в Лигию, как бы желая прочесть ответ в ее сонном лице. Полюбовавшись на прекрасный лоб, нежный изгиб бровей, темные ресницы, разомкнувшиеся уста и вздымаемую спокойным дыханием девственную грудь, она подумала: «Как непохожа она на меня!»
Лигия показалась ей чудом, каким-то божественным видением, грезой богов, во сто крат прекраснейшею, чем все цветы в саду цезаря и все изваяния в его дворце. Но в сердце гречанки не было зависти. Напротив, при мысли об опасностях, угрожающих девушке, она прониклась глубокой жалостью. В ней пробудилось словно материнское чувство, Лигия показалась ей не только прекрасной, как дивный сон, но вместе с тем и бесконечно дорогой сердцу. Приблизив уста к ее темным волосам, она стала целовать их.
А Лигия спала спокойно, точно дома, под опекою Помпонии Грецины, и спала довольно долго. Полдень уже прошел, когда она раскрыла свои голубые глаза и принялась осматривать спальню с немалым удивлением.
Ее, видимо, крайне удивило, что она проснулась не в доме Авла.
– Это ты, Актея? – спросила она наконец, разглядев в сумраке лицо гречанки.
– Да, Лигия.
– Разве теперь уже вечер?
– Нет, дитя мое, но полдень уже прошел.
– А Урс не вернулся?
– Урс не обещал вернуться, он сказал только, что вечером будет с христианами подстерегать носилки.
– Правда.
Затем они вышли из спальни и отправились в баню, где Актея выкупала Лигию; позавтракав с нею, гречанка повела ее в дворцовые сады, в которых ей не угрожала никакая опасная встреча, так как цезарь и главнейшие из его приближенных еще спали. Лигия впервые в жизни увидела эти великолепные сады, заросшие кипарисами, соснами, дубами, оливковыми и миртовыми деревьями, среди которых белело целое население статуй, блестели недвижные зеркала прудов, цвели рощицы розовых кустов, орошаемых пылью фонтанов; входы живописных гротов заросли плющом или виноградом, на водах плавали серебристые лебеди, между изваяниями и деревьями блуждали прирученные газели из пустынь Африки и ярко оперенные птицы, привезенные из всех известных в то время стран света.
Сады оказались пустыми; кое-где работали лишь с лопатами в руках невольники, напевая вполголоса песни. Другие рабы, которым дозволили передохнуть, сидели над прудами или в тени дубов, в трепещущих блестках солнечных лучей, дробящихся сквозь листву; остальные, наконец, поливали розы или бледно-лиловые цветы шафрана.
Актея и Лигия гуляли довольно долго, осматривая всевозможные чудеса садов, и хотя Лигия была подавлена другими мыслями, однако сохранила слишком много детской впечатлительности, чтобы побороть внушаемые этим зрелищем интерес, любопытство и удивление. Ей думалось даже, что цезарь, если бы был добрым, мог бы жить в таком дворце и в таких садах очень счастливо.
Несколько утомившись, наконец они сели на скамью, почти утопающую в зелени кипарисов, и стали беседовать о том, что больше всего удручало их сердца, то есть о вечернем побеге Лигии. Актея была далеко менее уверена в успехе побега, чем Лигия. Иногда ей казалось даже, что это безумный план, который не может удасться. Она чувствовала все сильнейшую жалость к Лигии. Приходило ей также в голову, что во сто крат безопаснее было бы попытаться уговорить Виниция. Она принялась расспрашивать, давно ли Лигия познакомилась с Виницием и не думает ли, что, может быть, удастся упросить его, чтобы он возвратил ее Помпонии?
Но Лигия печально покачала своей темнокудрой головкой.
– Нет. В доме Авла Виниций был другим, очень добрым, но после вчерашнего пира я боюсь его и предпочитаю бежать к лигийцам.
Актея продолжала расспрашивать:
– Однако в доме Авла он нравился тебе?
– Да, – ответила Лигия, опуская голову.
– Ведь ты не рабыня, чем была я, – в раздумье произнесла Актея. – На тебе Виниций мог бы жениться. Ты – заложница и дочь лигийского царя. Авл и Помпония любят тебя, как родное дитя, и охотно усыновят тебя. Виниций мог бы жениться на тебе, Лигия.
Но она ответила шепотом и еще печальнее:
– Я предпочитаю бежать к лигийцам.
– Хочешь, Лигия, чтобы я пошла сейчас к Виницию, разбудила его, если он спит, и повторила ему то, что говорю тебе в эту минуту? Послушай, моя дорогая, я пойду к нему и скажу: «Виниций, она царская дочь и любимое дитя славного Авла; если любишь ее, возврати ее семье Авла, а потом возьми, как жену, из их дома».
Девушка ответила голосом до того пониженным, что Актея едва расслышала:
– Я предпочитаю бежать к лигийцам.
И две слезы заблестели на ее опущенных ресницах.
Дальнейшую беседу прервал шорох приближающихся шагов, и раньше, чем Актея успела посмотреть, кто приближается, перед скамьей появилась Поппея Сабина с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев, вставленных в золотые прутья, слегка обвевая ее опахалами и вместе с тем охраняя еще от жаркого осеннего солнца. Перед нею черная, как черное дерево, эфиопка, с высокими, точно распертыми молоком грудями, несла на руке ребенка, запеленатого в пурпурную ткань с золотой бахромой. Актея и Лигия встали, надеясь, что Поппея пройдет мимо скамьи, не обративши на них внимания, но она остановилась перед ними и сказала:
– Актея, погремушки, которые ты пришила к кукле, были прикреплены дурно; ребенок оторвал одну из них и потянул ко рту, к счастью, Лилита заметила вовремя.
– Извини, божественная, – ответила Актея, скрещивая руки на груди и опуская голову.
Поппея стала смотреть на Лигию и спросила:
– Что это за рабыня?
– Это не рабыня, божественная августа, а воспитанница Помпонии Грецины и дочь лигийского царя, доверенная им в качестве заложницы Риму.
– Она пришла навестить тебя?
– Нет, августа. С третьего дня она живет во дворце.
– Была она вчера на пире?
– Была, августа.
– По чьему повелению?
– По повелению цезаря…
Поппея стала еще внимательнее смотреть на Лигию, стоявшую перед ней, склонив голову, то поднимая из любопытства свои лучистые глаза, то снова опуская веки. Между бровями августы выступила вдруг морщина. Ревниво оберегая свою красоту и власть, она жила в постоянной тревоге, опасаясь, что когда-нибудь счастливая соперница погубит ее так же, как она сама погубила Октавию. Поэтому каждое красивое женское лицо при дворе возбуждало в ней подозрительность. Поппея глазом знатока окинула одним взором все формы Лигии, оценила каждую черту ее лица и… испугалась. «Это – просто нимфа, – подумала она, – ее родила Венера». И вдруг в уме ее мелькнула мысль, никогда не приходившая ей в голову при виде какой бы то ни было красавицы: она гораздо старше! В ней заговорили затронутое самолюбие и боязнь, всевозможные опасения стали роиться в ее голове. «Может быть, Нерон ее не заметил или не оценил. Но что может произойти, если он встретит ее днем, столь дивную при свете солнца?.. Кроме того, она не рабыня! Она – царская дочь, хотя и варварского происхождения, но все-таки царская дочь!.. Бессмертные боги! Она столь же прекрасна, как я, но моложе!» И складка между бровями Поппеи обрисовалась еще глубже, а глаза ее из-под золотистых ресниц засветились холодным блеском.
Обратившись к Лигии, она спросила, по-видимому, спокойно:
– Говорила ли ты с цезарем?
– Нет, августа.
– Почему ты предпочитаешь жить здесь, чем в семье Авла?
– Я не предпочитаю, госпожа. Петроний склонил цезаря отобрать меня от Помпонии, но я здесь поневоле, о, госпожа!..
– И ты хотела бы вернуться к Помпонии?
Последний вопрос Поппея произнесла голосом более мягким и благосклонным; в сердце Лигии зародилась надежда.
– Госпожа, – сказала она, простирая к ней руки. – Цезарь обещал отдать меня, как рабыню, Виницию, но ты заступись за меня и возврати меня к Помпонии.
– Значит, Петроний склонил цезаря отобрать тебя от Авла и отдать Виницию?
– Да, госпожа. Виниций должен сегодня прислать за мною, но ты, милосердная, сжалишься надо мной.
Сказав это, она наклонилась и, ухватившись за край одеяния Поппеи, стала с бьющимся сердцем ожидать ответа. Поппея смотрела на нее несколько мгновений с лицом, осветившимся злостной усмешкой, и затем сказала:
– Так обещаю тебе, что ты еще сегодня станешь рабыней Виниция.
С этими словами она отошла как прекрасное, но злое привидение. До Лигии и Актеи донесся лишь крик ребенка, который неизвестно почему заплакал.
Глаза Лигии также наполнились слезами, но она тотчас же взяла Актею за руку и сказала:
– Вернемся. Помощи следует ожидать лишь оттуда, откуда она может явиться.
Они возвратились в атрий, из которого не выходили уже до самого вечера. Когда стемнело и рабы внесли четверные лампады с большими огнями, они были очень бледны. Разговор их прерывался каждую минуту; обе все время прислушивались, не приближается ли кто-нибудь. Лигия все повторяла, что как ни жаль ей расстаться с Актеей, однако она предпочла бы, чтобы все кончилось сегодня, так как Урс, несомненно, в темноте уже ожидает ее. Тем не менее дыхание ее сделалось от волнения более частым и громким. Актея лихорадочно собирала какие могла драгоценности и, завязывая их в край пеплума, заклинала Лигию не отказываться от этого дара и средства к побегу. Время от времени водворялось глухое безмолвие, то и дело обманывавшее слух. Обеим казалось, что слышится то какой-то шепот за занавеской, то отдаленный плач ребенка, то лай собак.
Вдруг завеса от передней бесшумно раздвинулась, и в атрий вошел, как дух, высокий смуглый человек с рябым лицом. Лигия с первого же взгляда узнала Атицина, Винициева вольноотпущенника, приходившего в дом Авла.
Актея вскрикнула, но Атицин низко поклонился и сказал:
– Кай Виниций приветствует божественную Лигию и ожидает ее на пир в доме, убранном зеленью.
Уста девушки совсем побелели.
– Я иду, – ответила она.
И Лигия на прощание крепко обняла Актею.
Дом Виниция действительно был убран зеленью мирт и плющом, гирлянды из которых красовались на стенах и над дверьми. Колонны были обвиты виноградом. В атрии, отверстие которого для ограждения от ночного холода завесили шерстяною пурпурной тканью, было светло как днем. В комнате горели светильники о восьми и двенадцати огнях, имеющие вид сосудов, деревьев, зверей, птиц или статуй, держащих лампады, наполненные благовонным маслом; изваянные из алебастра, мрамора, золоченой коринфской меди, они хотя уступали знаменитому светильнику из храма Аполлона, которым пользовался Нерон, однако также были прекрасны и сделаны прославленными художниками. Некоторые из них были заслонены александрийскими стеклами или завешены прозрачными индийскими тканями красной, голубой, желтой, фиолетовой окраски, так что весь атрий отливал разноцветными огнями. Воздух был напоен ароматом нарда, к которому Виниций привык, полюбив его на Востоке. Глубь дома, в которой мелькали очертания рабов и рабынь, также озарялись огнями. В триклинии стол был накрыт на четыре прибора, так как в пиршестве, кроме Виниция и Лигии, должны были принять участие Петроний и Хризотемида.
Виниций последовал мнению Петрония, который посоветовал ему не идти за Лигией, а послать Атицина с испрошенным у цезаря разрешением, самому же встретить ее дома и принять ласково, даже с оказанием почета.
– Вчера ты напился пьян, – сказал ему Петроний, – я смотрел на тебя: ты обращался с нею, как каменотес из Албанских гор. Не будь слишком назойливым и помни, что хорошее вино следует пить не торопясь. Знай, кроме того, что отрадно жаждать обладания, но еще сладостнее возбуждать вожделение.
Хризотемида имела об этом собственное, несколько иное мнение, но Петроний, называя ее своею весталкой и голубкой, стал объяснять различие, которое неизбежно должно быть между опытным цирковым наездником и мальчиком, впервые вступающим на колесницу. Обратившись затем к Виницию, он сказал:
– Внуши ей доверие, развесели ее, выкажи великодушие. Я не хотел бы присутствовать на печальном пире. Поклянись хоть Гадесом, что возвратишь ее Помпонии, а потом уж от тебя будет зависеть, чтобы завтра она предпочла остаться у тебя.
Указав на Хризотемиду, он добавил:
– Я уже пять лет поступаю приблизительно таким образом по отношению к этой ветреной горлице и не могу пожаловаться на ее суровость…
Хризотемида ударила его веером из павлиньих перьев и сказала:
– Разве я не сопротивлялась, сатир?
– Ради моего предшественника…
– Разве ты не был у моих ног?
– Чтобы надевать на их пальцы перстни.
Хризотемида невольно посмотрела на свои ноги, на пальцах которых в самом деле искрились драгоценные камни, и они все рассмеялись. Но Виниций не слушал их спора. Сердце его тревожно билось под узорчатым одеянием сирийского жреца, в которое он нарядился, чтобы принять Лигию.
– Они, должно быть, уже вышли из дворца, – произнес он, как бы говоря сам с собой.
– Вероятно, уже вышли, – подтвердил Петроний. – Не рассказать ли тебе в ожидании о чудесах Аполлония Тианского или историю Руффина, которую, не помню почему, я так и не окончил?
Но Виниция столь же мало интересовал Аполлоний Тианский, как и история Руффина. Мысли его не отрывались от Лигии, и хотя он чувствовал, что приличнее было встретить ее дома, чем идти в роли принудителя во дворец, однако сожалел, что не пошел туда, – тогда он мог бы раньше увидеть Лигию и сидеть в темноте возле нее в двухместных носилках.
Тем временем рабы принесли бронзовые чаши на треножниках, украшенные бараньими головами, и стали сыпать на тлевшие в них угли небольшие кусочки мирры и нарда.
– Они уже сворачивают к Каринам, – снова сказал Виниций.
– Он не утерпит, выбежит навстречу и, пожалуй, еще разойдется с ними, – воскликнула Хризотемида.
Виниций бессмысленно усмехнулся и сказал:
– Вовсе нет, я утерплю.
Ноздри его стали, однако, раздуваться и сопеть; Петроний, видя это, пожал плечами.
– В нем нет философии и на один сестерций. Никогда не удастся мне сделать этого сына Марса человеком.
Виниций даже не расслышал его слов.
– Они теперь уже на Каринах…
Носилки Лигии, действительно, свернули к Каринам. Рабы, называвшиеся лампадариями, шли впереди; педисеквии следовали по обеим сторонам носилок. Атицин шел за ними, наблюдая за порядком.
Они подвигались вперед очень медленно, так как улицы не были освещены, а фонари тускло озаряли дорогу. Вблизи дворца лишь изредка попадались навстречу прохожие с фонарями; дальше, однако, на улицах господствовало необычное оживление. Из каждого почти перекрестка выходили люди, втроем или вчетвером, без факелов и светильников, все в темных плащах. Некоторые из них присоединились к рабам, сопровождающим носилки; другие, в большем числе, шли навстречу или шатались точно пьяные. По временам движение настолько затруднялось, что «лампадарии» принуждены были кричать:
– Дорогу благородному трибуну, Каю Виницию!
Лигия смотрела, отодвинув занавеску, на этих людей в темных плащах и стала дрожать от волнения. Надежда и беспокойство сменялись в ее сердце. «Это он! Это Урс и христиане! Сейчас начнется, – шептала она дрожащими устами. – Помоги, Христос! Спаси меня, Христос!»
Атицин, сначала не обративший внимания на необычное оживление улиц, наконец встревожился. Происходило нечто странное. Лампадариям приходилось все чаще кричать: «Дорогу носилкам благородного трибуна!» С боков неизвестные люди так напирали на носилки, что Атицин приказал рабам отгонять их палками.
Вдруг впереди раздались крики, сразу погасли все фонари. Возле носилок произошло замешательство, началась свалка.
Атицин понял: на носилки произведено нападение.
Догадка эта напугала его. Все знали, что цезарь нередко забавляется во главе отряда приспешников разбоями – и в Субуре и в других кварталах города. Известно было, что из этих ночных приключений Нерон иногда возвращался с синяками. Но оборонявшихся неизбежно постигала смерть, хотя бы они были сенаторами. Дом «вигилиев», на которых лежала обязанность охранять порядок в городе, находился невдалеке, но стража в подобных случаях притворялась глухой и слепой. А между тем около носилок завязалось побоище: люди стали бороться, наносить удары, опрокидывать противников и топтать. Атицин сообразил, что важнее всего обезопасить Лигию и себя, а остальных можно оставить на волю судьбы. Вытащив девушку из носилок, он схватил ее на руки и бросился бежать, надеясь скрыться в темноте.
Но Лигия стала кричать:
– Урс! Урс!
Она вышла из дворца в белом одеянии, и различить ее было не трудно. Атицин начал набрасывать на нее свободной рукой свой собственный плащ, как вдруг шею его сдавили ужасные клещи, на голову, как камень, обрушилась огромная дробящая масса.
Он упал в тот же миг, как вол, поверженный обухом перед алтарем Зевса.
Большая часть рабов была уже распростерта на земле, остальные спасались бегством, расшибаясь среди густого мрака о выступы стен. На месте побоища остались разбитые во время свалки носилки.
Урс понес Лигию к Субуре, товарищи сопровождали его, постепенно расходясь по окрестным улицам.
Рабы вскоре стали собираться перед домом Виниция и совещаться. Не осмеливаясь войти, они решили вернуться на место нападения, где нашли несколько мертвых тел, в том числе и Атицина. Он еще бился в предсмертных судорогах: содрогнувшись в последний раз, он вытянулся и испустил дух.
Тогда рабы подняли его и отнесли к дому Виниция. Они остановились у ворот. Необходимо было все-таки сообщить о происшедшем.
– Пусть говорит Гулон, – зашептали несколько голосов. – У него лицо в крови, как и у нас, и господин любит его. Гулону угрожает меньшая опасность, чем нам.
Германец Гулон, старый раб, выпестовавший Виниция и доставшийся ему по наследству от матери, сестры Петрония, сказал:
– Я сообщу ему, но пойдемте все вместе. Пусть гнев его обрушится не на меня одного.
Между тем терпение Виниция окончательно истощилось. Петроний и Хризотемида подсмеивались над ним, он ходил быстрыми шагами по атрию, повторяя:
– Им следовало бы уже быть здесь! Им следовало бы уже быть здесь!..
Он хотел идти навстречу, но Петроний и Хризотемида удерживали его.
Вдруг в сенях послышались шаги, – и в атрий хлынула толпа рабов; торопливо разместившись вдоль стены, они подняли руки и стали издавать жалобные вопли:
– Аааа!.. аа!
Виниций бросился к ним.
– Где Лигия? – закричал он страшным, изменившимся голосом.
– Аааа!!!
Гулон выступил вперед со своим окровавленным лицом и жалобно воскликнул:
– Вот кровь, господин! Мы защищались! Вот кровь, господин! Вот кровь!..
Но Виниций, не дав ему окончить, схватил бронзовый подсвечник и одним ударом разбил ему череп. Схватившись затем за голову обеими руками, он вцепился пальцами в волосы и стал повторять хриплым голосом:
– Me miserum, me miserum!..
Лицо его посинело, глаза закатились, изо рта выступала пена.
– Бичей! – зарычал он нечеловеческим голосом.
– Господин! Ааа!.. пощади! – стонали невольники.
Петроний встал с выражением отвращения на лице.
– Пойдем, Хризотемида, – сказал он, – если хочешь смотреть на мясо, я прикажу взломать лавку мясника на Каринах.
Он вышел из атрия. По всему дому, убранному зеленым плющом и приготовленному для пира, спустя мгновение стали раздаваться стоны и свист бичей, не прерывавшийся почти до утра.
Конец первой части.
Часть вторая
В эту ночь Виниций совсем не ложился. Через некоторое времени после ухода Петрония, когда стоны бичуемых рабов не утолили ни горя его, ни его неистового гнева, он собрал толпу других слуг и во главе их бросился поздней ночью разыскивать Лигию. Он осмотрел Эксвилинский квартал, Субурру, Викус-Сцелератус и все прилегающие к ним переулки. Затем, обойдя Капитолий, Виниций перебрался через мост Фабриция на остров; оттуда он проник в часть города, расположенную по ту сторону Тибра, и обежал ее. Он сознавал, что эти поиски бесцельны, не надеялся найти Лигию и разыскивал ее главным образом для того, чтобы чем-нибудь заполнить ужасную ночь. Он возвратился домой лишь на рассвете, когда в городе стали уже появляться возы и мулы продавцов овощей и пекари начали открывать лавки.
Вернувшись, Виниций приказал убрать тело Гулона, до которого никто не посмел прикоснуться; рабов, на которых молодой трибун выместил утрату Лигии, он велел сослать в свои поместья, что считалось наказанием чуть ли не более жестоким, чем смерть. Бросившись, наконец, на устланную тканью скамью в атрие, Виниций стал бессвязно придумывать, каким бы образом найти и захватить Лигию.
Он не мог себе представить, что никогда больше не увидит Лигию, при одной мысли о том, что он может потерять ее, им овладевало безумие. Своевольный от природы, молодой воин впервые в жизни натолкнулся на отпор, на чужую непреклонную волю, и просто не мог понять, как смеет кто-либо противиться его вожделению. Виниций предпочел бы, чтобы погиб весь мир, чтобы Рим превратился в развалины, чем отказаться от цели своих желаний. Чашу наслаждений похитили у него почти из-под уст, ему казалось поэтому, что совершилось нечто неслыханное, вопиющее о мести по законам божеским и человеческим.
Но больше всего негодовал он на свою участь, потому что никогда в жизни не желал ничего так страстно, как обладания Лигией. Он чувствовал, что не может жить без нее, не мог себе представить, что будет делать без нее завтра, как проживет следующие дни. Иногда им овладевал гнев на нее, он впадал почти в неистовство. Он хотел бы тогда иметь ее в своей власти, чтобы бить ее, влачить за волосы по спальням, надругаться над ней, – потом снова сердце его сжималось от тоски по ее голосу, очертаниям тела, глазам, и он чувствовал, что радостно упал бы к ее ногам. Он призывал ее, грыз пальцы, сжимал голову руками. Он напрягал все силы, чтобы принудить себя спокойно думать, как бы отыскать Лигию, и не мог. В уме его мелькали тысячи средств и способов, один безумнее другого. Наконец ему пришло в голову, что молодую девушку похитил Авл! Если это и не так, Авл, во всяком случае, должен знать, где она скрывается.
Он вскочил, решившись бежать в дом Авла. Если Авл не отдаст Лигию, если не испугается угроз, Виниций пойдет к цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении и выхлопочет, чтобы ему послали смертный приговор, но раньше Виниций заставит его сознаться, где скрывается Лигия… Он отомстит, впрочем, если ее возвратят даже добровольно. Они, правда, приютили его в своем доме, ухаживали за ним, но это ничего не значит! Одною нанесенною ему теперь обидой они освободили его от всякой благодарности.
Мстительный и жестокий трибун мысленно наслаждался отчаянием Помпонии Грецины, представляя себе минуту, когда центурион принесет смертный приговор старому Авлу. Он был почти уверен, что выхлопочет этот приговор. Ему поможет Петроний. Притом же и сам цезарь ни в чем не отказывает своим приспешникам-августианцам, если только просьба не идет вразрез с его собственными намерениями и желаниями.
И вдруг сердце его чуть не замерло под влиянием ужасного предположения:
– Не сам ли цезарь отбил Лигию?
Все знали, что цезарь часто развлекался со скуки ночными нападениями. Даже Петроний принимал участие в этих забавах. Главной целью таких стычек служил, впрочем, захват женщин и подбрасывание затем на солдатском плаще, до утраты ими сознания. Сам Нерон называл иногда эти похождения «ловлей жемчужин», так как в глубине кварталов, густо заселенных бедным людом, удавалось иногда натолкнуться на истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда «сагация», то есть подбрасывание на солдатском плаще, заменялась настоящим похищением, и «жемчужину» отправляли или в Палатинский дворец, или в одну из бесчисленных вилл цезаря, или же, наконец, Нерон дарил ее одному из своих приспешников. Такая участь могла постигнуть и Лигию. Цезарь присматривался к ней во время пира, и Виниций ни на мгновение не усомнился, что она, конечно, показалась Нерону прекраснее всех женщин, которых он когда-либо видел. Это очевидно! Нерон, впрочем, имел ее у себя, в Палатинском дворце, и мог задержать открыто. Но цезарь, как справедливо говорил Петроний, был труслив в своих злодеяниях; имея власть действовать открыто, он всегда предпочитал действовать тайно. В настоящем случае его могло побудить к этому и опасение выдать себя перед Поппеей. Виницию пришло теперь в голову, что Авл и Помпония Грецина, быть может, не отважились бы насильственно захватить девушку, подаренную ему цезарем. Да и кто осмелился бы сделать это? Не тот ли великан-лигиец с голубыми глазами, который дерзнул тогда войти в триклиний и унести ее с пира на руках? Но где мог бы он скрыться с нею, куда мог бы отвести ее? Нет, раб неспособен на такой поступок. Следовательно, Лигию похитил не кто иной, как сам цезарь.
При этой мысли у Виниция потемнело в глазах и лоб оросился каплями пота. Если это правда, Лигия потеряна для него навсегда. Ее можно бы вырвать из любых других рук, но не из рук цезаря. Теперь ему остается восклицать с большим основанием, чем прежде: «Vae misero mihi!»[28] Он представил себе воображением Лигию в объятиях Нерона и впервые в жизни понял, что бывают мысли, которые просто невыносимы. Только теперь он уяснил себе, как сильно полюбил ее. В памяти его стал мелькать образ Лигии, подобно тому, как с быстротой молнии проносится вся минувшая жизнь в сознании утопающего. Он как будто видит ее, слышит каждое ее слово. Вот она у фонтана, вот в доме Авла и на пиршестве. Он снова ощущает ее близость, ощущает благоухание ее волос, теплоту ее тела, сладость лобзаний, которыми на пиру впивался в ее невинные уста. И она представилась ему во сто крат прекраснейшей, более вожделенной и дорогой сердцу, чем когда-либо, – во сто крат более превосходящей всех смертных женщин и всех богинь. И когда он подумал, что Нерон, быть может, овладел всем, что так глубоко запало ему в душу, претворилось в его кровь, стало для него источником жизни, им овладела боль, чисто телесная и столь ужасная, что ему хотелось колотиться головой о стены атрия, пока она не разобьется. Он чувствовал, что может сойти с ума и что непременно лишился бы рассудка, если бы не оставалось еще чувства мести. Раньше ему казалось, что он лишится возможности жить, если не отыщет Лигии, – теперь же он столь же глубоко чувствовал, что не сможет умереть, пока не отомстит за нее. Лишь одна эта мысль доставляла ему некоторое облегчение. «Я стану твоим Кассием Хереей!» – повторял он, мысленно обращаясь к Нерону. Опустив затем руки к вазам с цветами, стоявшим вокруг имплувия, он сжал горсть земли и произнес страшную клятву Эребу, Гекате и своим домашним ларам в том, что отомстит за Лигию.
И в самом деле ему стало легче. Теперь, по крайней мере, ему есть для чего жить, есть чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от намерения отправиться к Авлу, Виниций приказал нести себя к Палатинскому дворцу. На пути он сообразил, что если его не допустят к цезарю или если захотят осмотреть, нет ли при нем оружия, то это явится доказательством, что Лигию захватил цезарь. Оружия он, однако, с собою не взял. Он утратил вообще сознание, сохранив, – как обыкновенно случается с людьми, увлеченными одною мыслью, – понимание лишь того, что касается мщения. Он не хотел упустить его излишней поспешностью. Кроме того, он больше всего стремился повидать Актею, так как ему казалось, что от нее он узнает правду. Иногда его осеняла надежда, что, может быть, он увидит и Лигию, при одной мысли об этом его охватывала дрожь. Не похитил ли ее цезарь, не зная, кого отбивает у рабов? Быть может, Нерон возвратит ему Лигию сегодня же? Но он тотчас же понял несостоятельность этого предположения. Если бы хотели отослать к нему Лигию, ее отослали бы вчера вечером. Одна Актея может все разъяснить, и надо первым делом повидаться с нею.
Остановившись на этом решении, Виниций приказал носильщикам прибавить шагу; по дороге мысли его путались, он думал то о Лигии, то о планах мщения. Он слышал, что жрецы египетской богини Пахты умеют насылать болезни на кого им угодно, и решился узнать от них о способе. На Востоке рассказывали ему также, что иудеи знают какие-то заклятия, посредством которых покрывают язвами тело врагов. У него в доме между рабами наберется десятка два иудеев, по возвращении он непременно прикажет бичевать их до тех пор, пока они не выдадут этой тайны. С особенным, однако, наслаждением думал он о коротком римском мече, извлекающем потоки крови, – такие именно, какие брызнули из Кая Калигулы, оставив неизгладимые пятна на колонне портика. Он был готов обагрить кровью весь Рим, а если бы какие-нибудь мстительные боги обещали ему истребить все человечество, кроме него и Лигии, он согласился бы и на это.
Перед аркой он сосредоточил все свое внимание и подумал при виде преторианской стражи, что, если хоть сколько-нибудь будут стараться задержать его, это послужит доказательством, что Лигия содержится во дворце по воле цезаря. Но старший центурион дружески улыбнулся ему и, приблизившись на несколько шагов, произнес:
– Приветствую тебя, благородный трибун. Если ты желаешь предстать перед лицом цезаря, ты выбрал неудачную минуту: я не знаю, удастся ли тебе увидеть его.
– Что случилось? – спросил Виниций.
– Божественная маленькая Августа со вчерашнего дня внезапно заболела. Цезарь и Августа Поппея не отходят от нее вместе с врачами, которых созвали со всего города.
Это было важное событие. Цезарь, когда у него родилась эта дочь, просто обезумел от счастья и принял ее «extra humanum gaudium»[29]. Еще до разрешения Поппеи от бремени сенат самым торжественным образом поручил ее лоно покровительству богов. В Анцие, когда родилась у нее дочь, были отпразднованы пышные игры и, кроме того, сооружен храм двум Фортунам. Нерон, не умевший ни в чем соблюсти меру, и этого ребенка полюбил безмерно, для Поппеи дочь была также дорога, хотя бы потому, что упрочила ее положение и сделала ее влияние неоспоримым.
От здоровья и жизни маленькой Августы могли зависеть судьбы всей империи. Но Виниций был так увлечен собственным делом и своей любовью, что ответил, не обратив почти никакого внимания на сообщения центуриона:
– Я хочу увидеться только с Актеей.
Но Актея также оказалась занятой при ребенке, и Виницию пришлось долго дожидаться ее возвращения. Она пришла лишь около полудня, с измученным и бледным лицом, еще более побледневшим при виде Виниция.
– Актея! – воскликнул он, схватив ее за руки и притянув в середину атрия, – где Лигия?
– Я хотела спросить об этом у тебя, – ответила она, с упреком смотря ему в глаза.
А он, хотя дал себе слово спокойно допросить ее, снова сжал голову руками и стал повторять с лицом, исказившимся от горести и гнева:
– Она исчезла. Ее похитили на пути ко мне!
Виниций, однако, вскоре опомнился и, наклонив свое лицо к лицу Актеи, произнес сквозь стиснутые зубы:
– Актея… Если тебе дорога жизнь, если ты не хочешь стать причиной несчастий, которых не можешь даже вообразить себе, скажи мне правду: не цезарь ли похитил ее?
– Цезарь не выходил вчера из дворца.
– Заклинаю тебя тенью твоей матери, именем всех богов: не скрывают ли ее во дворце?
– Марк, клянусь тенью моей матери, ее нет во дворце и не цезарь похитил ее. Со вчерашнего дня заболела маленькая Августа, и Нерон не отходит от ее колыбели.
Виниций вздохнул с облегчением. То, что казалось самым страшным, перестало угрожать ему.
– Значит, – сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки, – ее отбили Авл и Помпония, в таком случае – горе им!
– Сегодня утром здесь был Авл Плавций. Он не мог повидаться со мной, потому что я была занята при ребенке, но расспрашивал о Лигии Эпафродита и других дворцовых слуг, и сказал им, что придет еще раз поговорить со мной.
– Он хотел отклонить от себя подозрение. Если бы он в самом деле не знал, что сталось с Лигией, он пошел бы искать ее в моем доме.
– Он оставил для меня несколько слов на табличке; из них ты увидишь, что Авл, зная, что цезарь отобрал от него Лигию по желанию твоему и Петрония, рассчитывал, что девушку отошлют к тебе, и сегодня утром он был в твоем доме, где ему сообщили о происшедшем.
Сказав это, Актея пошла в спальню и вскоре вернулась с табличкой, которую оставил для нее Авл.
Виниций прочитал и умолк. Актея, как будто угадав его мысли по сумрачному выражению лица, сказала:
– Нет, Марк. Произошло то, чего желала сама Лигия.
– Ты знала, что она хочет бежать! – гневно воскликнул Виниций.
Она посмотрела на него своими задумчивыми глазами почти сурово.
– Я знала, что она не хочет сделаться твоей наложницей.
– А ты сама чем была всю жизнь?!
– Я была раньше рабыней.
Но Виниций не перестал горячиться: цезарь подарил ему Лигию, следовательно, ему незачем спрашивать, чем она была раньше. Он добудет ее хотя бы из-под земли и сделает из нее, что ему угодно. Да, она будет его наложницей. Он прикажет сечь ее, сколко ему вздумается. Когда она надоест ему, он отдаст ее последнему из своих рабов или сошлет вертеть жернова в свои африканские поместья. Теперь он станет разыскивать ее и найдет только затем, чтобы покарать, сокрушить, заставить ее смириться.
Горячась все больше, он до такой степени утратил чувство меры, что даже Актея поняла всю преувеличенность его угроз: он, очевидно, неспособен осуществить их, говорит лишь под влиянием гнева и отчаяния. Она, вероятно, даже сжалилась бы над его страданиями, но неистовство Виниция истощило ее терпение, так что она наконец спросила, зачем он пришел к ней.
Виниций не сразу сообразил, что надо ответить Актее. Он пришел к ней, потому что так захотел, потому что думал, что она сообщит ему какие-нибудь сведения, но, в сущности, пришел лишь к цезарю и, не будучи допущен к нему, завернул к ней. Лигия, скрывшись, воспротивилась воле цезаря, поэтому он упросит Нерона, чтобы он повелел разыскивать Лигию по всему городу и по всему государству, хотя бы пришлось прибегнуть для этой цели к помощи всех легионов и перешарить по очереди каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу, и розыски начнутся ныне же. Актея сказала ему в ответ на это:
– Остерегайся, как бы не потерять ее навсегда именно в то время, когда ее отыщут по повелению цезаря.
Виниций сдвинул брови.
– Что значат твои слова? – спросил он.