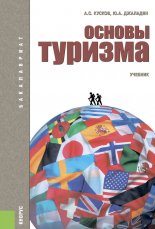ЯблоPad. Сборник рассказов Студеникин Юрий
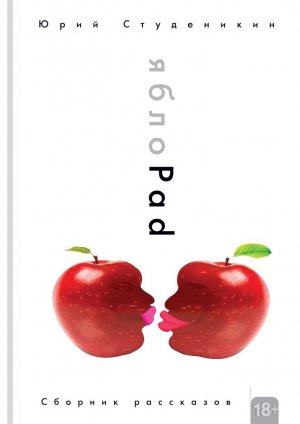
(полное предисловие к неполному собранию сочинений)
Смеяться у нас не принято. Смеяться – грех. Тем более, над убогими. А в сущности, над кем еще можно посмеяться? Не над сильными, умными, смелым богатырями духа и прочими истинными арийцами же! Вот и выходит, что юмористический жанр в отечественной литературе как бы на вторых ролях. Если не на третьих или четвертых. Во всяком случае где-то после иронического детектива. И это, конечно не сегодня случилось, а было всегда. По такой уж колее покатился тарантас. Мы не берем сатиру, тут у нас раздолье, есть где раззудеться, не берем комедию как драматургический жанр, хотя бы потому, что добрая половина всех комедий окажутся опять-таки сатирическими, и уж совсем не замечаем поэзии, ибо не нашего ума дело. А вот так – просто юмор.
Рассказ, повесть и т. п. Обычный человеческий юмор, без милых шизоидных надломов Даниила Хармса, например. Имен в громадной нашей литературе окажется немного. Скажите – Чехов. Ну, конечно, да – Чехов. Писал юмористические рассказы, писал много и хорошо. Но ведь на этот этап его творчества смотрят как некий «разгон», «начало» и даже «ученичество». Мол, что там – «Толстый и тонкий»? Рассказ для учащихся начальных классов. Вот «Ионыч», вот «Дом с мезонином», вот «Дама с собачкой» – это да. А то, что раньше – это так… Скажут, и будут правы. То же самое можно сказать и о Василии Шукшине, а про Ильфа и Петрова можно сказать и похуже. Они-то навсегда остались зубоскалами, так и не выросли в «серьезную литературу».
Пожалуй, единственный непререкаемый авторитет в области юмористических рассказов – Михаил Зощенко. Однако, читать его тяжеловато. Это, конечно, дело вкуса, но по субъективным наблюдениям, прочитать сборник рассказов, скажем, О. Генри – не составляет труда.
При долгом же чтении Зощенко все лица и персонажи постепенно сливаются в одно сипящее хамское мурло, которое вызывает не смех, а отвращение.
Несколько в стороне от прочих юмористов стоит Бабель. В стороне, потому что берет он в большей степени не сюжетом, а стилистикой, языком. И в этом отношении, кстати, сближается с тем же Зощенко.
Можно назвать еще ряд имен – Искандер, Аксенов, Попов, Довлатов, Венедикт Ерофеев, но, наверное, все согласятся, что не юмор является сильной стороной этих писателей, и любим мы их совсем за другое.
Среди же современных писателей (тут следует печальный вздох) … Ну, был такой Слава Сергеев. Был ярко, прямо здорово так. Но где он теперь?
Конечно, есть интернет и стоит только вбить в google «юмористические рассказы», как оно и повалит. И прочесав километры баянов, перемежающиеся белогорячечными выхлопами сетевых пейсателей, можно отыскать что-то стоящее. Тем не менее, такого автора, чье имя можно было бы написать на сверкающем щите современной юмористической литературы, пока не наблюдается.
Безусловно, утверждать, что на это почетное место будет вписано имя Юрия Студеникина, пока рано. Сейчас можно лишь констатировать: автор, чьи рассказы представлены читателям в сборнике, ступил на тропу войны со скукой посредством юмора, а в качестве боевого томагавка выбрал жанр короткого рассказа.
Главное чувство, которое возникает при прочтении текстов Юрия Студеникина – спокойствие. Однако оно одновременно является и эффектом, и условием. Только внутренне успокоившись, следует приступать к поглощению сборника. Лучше всего встать на простую и честную позицию: переживающие маленькие страсти, которые иногда вдруг раздуваются до слонопотамских размеров. И вот тут появляется юмор. Жизнь сама ломает комедию, и спокойному человеку не остается ничего, кроме как посмеяться над очередным ее изгибом. Именно эта самая жизнь порой подсказывает автору сюжеты. Несколько рассказов сборника тяготеют к «правде факта» и «автобиографичности».
Правда, в силу довольно большого временного разрыва с сегодняшним днем (рассказ «Мокрое дело» – события 1975-ого, «В искусство» – 1986-ого), острота поставленных проблем изрядно притупилась и не жалит читателя в самое сердце, зато на примере этих двух рассказов хорошо заметно тяготение автора к абсурду. Он-таки имеет место быть, причем порой прямо тарантиновский (рассказы «Гагарин», «Спасатель»). Всем ведь нравятся необычные истории с необычными развязками («Мой любимый Пуздрыкин»), а Юрий Студеникин готов одаривать ими читателей словно румяными яблочками, и тут их у него целая корзина.
Справедливости ради, стоит сказать, что некоторые рассказы сборника вызывают некое смятение, не знаешь смеяться ли над ними? Впрочем, как говорили отцы церкви, тут всё «по Стагириту» – «смешное есть часть уродливого». Ничего не поделаешь, второе иногда перевешивает. Также отметим, что тексты сборника далеки от милых побасенок годных всем возрастам. Присутствует у автора и писательская смелость, он не бежит двусмысленностей и предельного реализма («Яблопад», «Пять палок для Таис»), предоставляя читателю самостоятельно разобраться в содержании и смысле прочитанного.
А вот, кстати, не настало ли время разобраться? Вперед, приятного чтения!
Дмитрий Калмыков (писатель,
член союза писателей России)
Мокрое дело
– Студеникин, снимай штаны, – раненым зверем ревела Зинаида Васильевна, наша классная руководительница, дама властная и жестокая. – Нам всем интересно, что там под ними?
Студеникин, ученик четвертого года мытарств, стоял у доски с набухшими от влаги веками, готовый вот-вот разреветься. Девятилетняя душа его проходила испытание позором и унижением.
Да, чуть не забыл, Студеникин – это я.
1975 год все в моей памяти стер, оставив лишь смутные воспоминания о переходе в пятый класс и один судьбоносный эпизод. Как-то после урока ко мне подошли одноклассницы Малькова и Болдина. Не в добрую минуту принесла их нелегкая – я разрывался между двумя прекрасными идеями: плющить под колесами поезда алюминиевые ложки или в песчаном отвале копать золото графа Шереметева. Девы предложили пластинку дефицитной тогда жвачки, промямлили что-то о том, как мы, современная молодежь, быстро взрослеем, и без перехода врезали.
– Юр, целоваться с нами будешь?
Предложи кто мне такое удовольствие сейчас, реакция была бы следующей:
• отпадает челюсть,
• весь покрываюсь пятнами,
• пятясь, бурчу под нос, что, мол, не стоит так горячиться, надо еще подождать, подумать, а сам бы уже рассуждал о психическом и душевном здоровье целовальщика.
Но тогда во мне зрел и бух образ открывателя-первопроходца, покорителя новых земель, дел, чувств и всего прочего неведанного. Еще не поросший лианой комплексов, я был смел и отважен. А в тот памятный момент я находился в эйфории гипотетического покорения не только новых стран, но, видимо, и женских сердец, поэтому отреагировал достаточно резво.
– Че, прям щас?
– Не..е..ее, – в голос заблеяли девицы и назначили мне свидание.
Как джентльмен, как истинный герой-любовник, я пришел в точно указанное время. Место для первого свидания, надо заметить, было выбрано со вкусом – узкий лаз между двух гаражей. Кругом грязные покрышки и ржавые остовы машин. Романтичней трудно было бы и выбрать!
Как положено светским дамам, опоздав не более чем на полчаса, явились мои подруги. Все их поведение говорило – в этом деле они профи: вели себя развязно, нервически смеялись, клацали языком. Я полностью доверился их советам и наставлениям.
Но время шло, темнело, а дела не было. Вскоре родилась правда – все это понты. Девочки оказались насквозь нецелованными. Здесь, между ржавым железом, зарождался и их первый опыт в этом мокром деле. Меня же они выбрали не из-за привлекательной внешности (как это мне по наивности казалось), а исключительно из-за доброго и миролюбивого моего нрава. Да еще и язык мой им показался с «костями».
Но это было лишь началом печалей. Оказалось, что целоваться придется через… носовой платок.
Господи, в какое только тяжкое испытание не пускаемся мы, мужчины, ради слабого пола! Пройдет много времени, пока я не приду к выводу – с того платка началась целая череда побед и разочарований, связанных только с одним существом – женщиной.
Таким образом, «счастливо» процеловавшись на покрышках по очереди с каждой из одноклассниц, я ощутил что-то призывно новое, окрыляющее, вдальзовущее, короче, почувствовал себя настоящим мачо.
Этот дух рос, креп и, примерно через неделю я, словно петух в курятнике, носился по школе за визжащими и перелетающими лестницу в три прыжка одноклассницами. Весело задирал им юбки, дергал за косы, предлагал жениться. В общем, давал понять – в классе появился настоящий мужчина.
Но то ли мое гормональное развитие несколько опередило этот же процесс у части дев, то ли с чувством юмора они не водили хоровод, или они никогда не заглядывали за гаражи, но мой Эрос, в конце концов, напрямую столкнул меня со старой девой сталинской закваски Зинаидой Васильевной.
Я стал жертвой доноса. За мной полз целый шлейф дел непристойного характера. Некоторым, видите ли, не нравилось, что без их согласия задирают юбки. Намного позже я пришел к неутешительному заключению: даже самая плюгавая шмара промолчит, самая последняя мымра проглотит обиду, и более – с радостью сбросит все одежды, если проделанные мною манипуляции совершит самый любимый и желанный ею человек.
Но это позже, а пока я стоял перед классом и крепился, чтобы не разреветься.
Классная маятником ходила вдоль, размахивала указкой и рассказывала то о маньяках-убийцах, то шпионах и прочих поганых элементах. Оказалось, что пока весь наш народ засыпает в закрома и повышает надои, я способствую, являюсь благодатной почвой, а также в своем лице порочу… короче, без пяти минут кандидат в уголовники.
Она хорошо знала свое дело. Она добилась своего. После очередного предложения спустить штаны и явить классу всю подноготную, веки мои дрогнули, капля за каплей покатились слезы.
– Простите, я больше не буду, – еле слышно заблеял я.
Зинаида, однако, стояла рядом, она продолжила пытку, затребовав:
– Нет, мы здесь на первых партах не слышим, повтори еще.
– Йа-а-а больше-е не-е бу-у-уду-у-у!
– Не уверена, что последние ряды тебя слышали. Слышали последние ряды? – рявкнула она так, что «камчатка», с удовольствием наблюдавшая развитие сюжета, пожалела, что не испытывает проблем со слухом.
– Йаабольшеенебудууааааа..а..а….а.
Помню, от пережитого я испытал сильнейший шок и вселенскую обиду. Меня сравнили со всякой сволочью и мразью. А за безобидную детскую шалость чихвостили наглядней, чем двух моих одноклассников, месяцем ранее пойманных за аутодафе бездомных кошек.
От пережитого я дал себе зарок никогда не жениться.
Но что значат наши клятвы в девять лет? Я снял с себя обет безбрачия в тридцать, до того еще очень долго живя с настоящим футбольным правилом:
- «Все бабы – Бляди,
- мир – бардак,
- болейте только за «Спартак».
Яблопад, яблопад…
Приятно. Нет, правда, приятно сидеть в тени, когда зной, когда изматывает жара, когда не хочется ничего делать, а лишь, закрыв глаза, слушать. Слушать пульс сада. Да, завидуйте, у меня есть свой сад, и он – живой. У моего сада есть дыхание, есть сердце и ритм: они в его кустах, деревьях, траве. А если есть сердце, то должен быть и пульс. И он у него есть. Но пульс у сада кривой, биение его неровно. Мой сад стар. Ему больше сорока. Оттого и пульс его шалит. Аритмию услышать легко – по звуку падающих яблок; ударяясь, они разбегаются и пытаются зарыться в некошеную траву, отчего возникает соблазн подумать, будто ватага лысых гномов затеяла игру в прятки.
Вот шлепнулось еще одно… еще, а вот – бу-бух! – это целый дуэт оборвал связь с родной ветвью и полетел навстречу неведомому, навстречу с землей.
Это – яблопад: маленький отрезок жизни, когда можно не только услышать пульсацию, но и воочию насладиться дыханием сада.
Но мне лень открывать глаза. Я насмотрелся на «гномьи скальпы» и хочу просто сидеть на полусгнившем покосившемся, как башня в Пизе, венском стуле и слушать сад. Но если бы: в музыку падения врываются посторонние звуки – это «мои» Равшан и Джамшут1 начинают одевать в ярко-красный ондулин крышу. Вообще-то наемных работников зовут как-то иначе (старшего, кажется, Батыр), но какое это имеет значение, когда – яблопад.
Я лениво разлепляю глаза: запоздалая реакция на обращение ко мне второго, что моложе – «хозяин». Нет, что бы там не говорили, а приятно: давно меня так никто не называл, да, почитай, никогда. Впервые услышав, я вздрогнул, но в тот же миг не понял – нет, больше – ощутил: это мое. Хозяин! Что-то сразу в памяти, в душе взыграло, что-то давным-давно забытое из прошлого: будто бы у меня и не восемь соток в комарином краю, и не щитовая развалюха на них, а усадьба, да с колоннами, да с гербом, конечно же, конюшня, псарня, крестьяне вдоль дороги челом бьют, когда карета несет меня, да вдоль лугов моих заливных, да вдоль пруда родового со стерлядью…
– Хозяин, налей баклажка вода пить, – возвращает меня в бытие голос Джамшута (или как его там?). Я лениво отдираю зад от стула, своим скрипом как бы выражающего мне благодарность, и плетусь в дом за водой. Хватаюсь за дверную ручку, но перед тем, как открыть дверь и войти, замечаю: большая белая машина и маятник гамака в саду напротив – Она приехала. А это значит, что сегодня-завтра – игра! Теперь и мой пульс учащается, низ живота начинает приятно потягивать, а в душе рождается музыка.
Наполнив пластиковую бутылку чистой водой, я выхожу на веранду и слышу:
– Здравствуй, сосед. Какой у тебя урожай яблок отменный! Аж завидки берут, – кричит от ограды она.
Я иду ей навстречу. За «зиму» она изменилась: плечи, бока округлились, щеки утеряли любимые мною ямочки, но в глазах по-прежнему не гаснет огонек: чертовщинка страсти и жизнелюбия.
– День добрый, соседка, – отвечаю я. – Да, отменный урожай созрел.
– А у меня – полный голяк. Хоть бы яблочко где, – говорит она.
– Что ж, – констатирую я. – Не повезло.
И мы умолкаем, чтобы еще раз окинуть взглядом разноцветный яблочный ковер. Мы долго молчим, обозревая плодовую россыпь. Все эти долгие паузы – часть игры.
– И как так устроилось, – прерываю я немой диалог вслед за тем, как очередное перезрелое соцветие «Белого налива» с хрустом бухается о землю, – что у меня урожай, а у вас нет? Вроде бы и земля одна, и участки рядом?
Я стараюсь изобразить искренне удивление, и, кажется, мне это удается.
– Феномен! – слетает с ее красивых (умеренной пухлости) напомаженных губ. – Но я полагаю это от того, что деревья на моем участке посажены годом позже ваших, вот у меня и голяк.
И в разговор опять вплетается пауза. С годами я стал понимать, что истинное мастерство игрока проверяется в коротких отрезках времени, когда он громко и многозначительно молчит. Но не меньшее мастерство – найти достойный выход из пауз.
– Слушайте, а давайте я с вами поделюсь? – как бы вдруг предлагаю я. – Все равно закопаю, ну, что не съем. У меня-то, сами видите – яблопад.
Она смеется, как когда-то давно, как в первый день нашего знакомства: широко, звонко, красиво.
Я удаляюсь. Достаю ведро и наполняю его урожаем. Изо всех сил стараюсь не спешить, хотя внутри меня кто-то молодой, сильный, волевой уже подталкивает, нашептывая: скорее, скорее, скорей.
И вот с урожаем, бьющим в нос сладчайшим ароматом, я стою возле гамака.
Что-то вязаное и дорогое, в чем была она возле ограды, что ее полнило и лет на шесть старило, уже сброшено, и она остается в простом сарафане изо льна. Мой кадык непроизвольно перемещается вслед за сглатываемой слюной, пульс спринтует.
Я молча ставлю ведро возле гамака и поворачиваюсь, чтобы уйти. Тогда, одиннадцать лет назад, она остановила меня, удержала, попросив открыть старым ржавым штопором времен Карибского кризиса бутылку такого же древнего коньяка. Так мы когда-то познакомились. Но в этот раз меня никто не держит, и я ухожу. Удаляюсь, чтобы игра налилась соком, как поздняя «антоновка», чтобы набрала обороты, закрутилась на полную мощь.
Я выхожу за ограду, какое-то время просто стою, а затем резко оборачиваюсь и, что есть силы, начинаю долбить в ее забор кулаком.
– Хозяева! Есть кто в доме? Откройте – пожнадзор, – ору я.
Как бы заспанная, как бы непонимающая, что же происходит, она появляется возле калитки. На ее лице изумление, растерянность, но я жестко отстраняю ее с прохода и уверенно прохожу в дом, по ходу бросая объяснения:
– В связи с пожарами проверка. Хожу вот, смотрю нарушения. Проверяю проводку. Вы хозяйка?
Я намеренно груб и резок. Я – власть. Я – пожарный. Первым вхожу в дом, все осматриваю. Быстро нахожу, что нет огнетушителя, и устремляюсь к столу составлять протокол и выписывать штраф. Но она уже домашней птицей кружится вокруг, квохчет, предлагая «договориться по-хорошему». Я делаю вид, что не понимаю, и тогда она достает из сумки кошелек и кладет одна к другой три купюры по тысяче рублей. И это ее главная на сегодня ошибка. Я – честный пожарный. Честный, гордый и оттого злой, поэтому я кричу на нее, просто ору и, вдруг… бью! Да, я даю ей пощечину, отчего ее щека сразу пламенеет, а в глазах появляется недоумение вперемежку с испугом, тут же, правда, сменяющиеся на азарт и восторг.
Затем резко разворачиваю ее, бросаю на стол и задираю подол сарафана. В этот момент она сжимает мою руку в своей, шепча: «не здесь», распрямляется и уводит меня по лестнице наверх, на второй этаж. Что ж, пусть так, «если женщина просит», направляюсь за ней вслед.
Я знаю это место. Там, в ее спальне, больше десяти лет назад мы дали начало игре. Вернее, тогда еще это не было игрой. Мы просто любили друг друга. Любили долго, часто, напивались друг другом до первых заморозков. Потом расстались до зимы, которая все изменила. Вернее, все изменил город с его ритмом, с его жесткими условиями. Город развел нас. Там она была другой: холодной и чужой, как зима. Наша связь прервалась. В следующие два года я наблюдал ее жизнь сквозь разделявший наши участки забор: вроде бы был муж, еще какие-то мужчины. Она стала редко бывать здесь.
Шесть лет назад (я точно помню дату и день), когда я с грустью и одновременно радостью наблюдал, как беременеет плодами ее сад, она неожиданно окликнула меня (я замечтался и не заметил ее внезапного появления). Между нами завязался ни к чему не обязывающий разговор, примерно такой, что был и сегодня – о феноменальной способности одного сада рожать, в то время как на соседнем пустоцвет.
Поговорили и разошлись уже по-доброму, старыми друзьями. Но то давнее, что родилось в этом саду, что еще тлело в нас, кровоточило, и что искало выхода – мучило нас обоих, не давая покоя. Но до поры мы скрывали это друг от друга, молча возделывая тяпками, свои огороды.
Как-то, сидя перед компом, я приканчивал второй килограмм «славы победителя» (второе дерево справа от «ватерклозета»), особенно любимого мною сорта. В этот год «слава» уродилась необычайно ароматной и вкусной. Дожевав яблоко до состояния, когда оно приняло форму миниатюрной, но широкобедрой богини победы Ники, я забросил огрызок в корзину, зашел в Интернет и настучал в поисковике ЕЕ инициалы.
К моему удивлению, получилось: адрес, телефон, должность, даже электронный адрес выдала бездушная машина. Я написал письмо. Она ответила, и нас как прорвало: в письмах мы отдавали друг другу все то, что годами копили в себе и не могли сказать вслух. Она писала, что помнит меня, мой сад с его пульсом, с его яблопадом и теми днями, когда мы вылезали из постели лишь затем, чтобы утолить голод новой порцией немытых яблок. Только в конце каждого такого письма-признания стояла приписка, что сильнее ее невесть откуда взявшаяся боязнь однообразия, скуки, что приходит вместе с устоявшейся связью. Так в нашей жизни появилась Игра.
Правила у нее просты: игроков всего двое, игра длится один день в году, летом, в пору самого разудалого яблопада. Тот, кого природа одарила урожаем, придумывает сценарий и роли для себя и соседа. Я уже побывал в шкуре лесничего и налогового инспектора, она «поработала» медсестрой и страховым агентом. Сегодня моя роль – роль пожарного, жесткого, сурового, но честного парня. Возможно, я немного переиграл с оскорбленным самолюбием, может, и зря та пощечина, но в ее глазах я прочел лишь строки одобрения.
Я давно уже остудил пожар ее страсти своим, давно уже смело, и даже немного грубо «залил» легко воспламеняемые участки ее тела изрядным количеством настоянным за год разлуки «охладительного», и лежал теперь у ее ног. Мы остывали. Моя голова покоилась возле ее бедер, и своими нежными пальцами она теребила мне волосы. В распахнутое окно врывались слабые звуки ударов молотка, мутившие мою совесть напоминанием о так и не отданной строителям бутылке с водой.
– Мой пожарный, мой спаситель, – слетело с ее пересохших губ.
– А давай в следующий раз я буду хозяином? Просто – Хозяином, – попросил я.
– Это как?
– Ты будешь какой-нибудь девкой Аглаей или Прасковьей из крепостных, а я буду твой хозяин – граф или князь. А?
– Ишь, чего захотел, холоп! – собрав в кулак копну моих волос, она довольно чувствительно дернула за них, отчего лицом я оказался ровнехонько у ее лона.
Я потянул носом аромат ее тела и обомлел. Не поверил и потянул еще раз: от нее шел аромат… не может быть! «Слава победителю», второе дерево справа от туалета! Родная, любимая ты моя «слава»… я раздвинул ей бедра и запустил зубы в горячее, еще не отошедшее от прошлого «обводнения» лоно. Она застонала и изогнулась яблоневой ветвью, всем телом подаваясь вперед. Я же, вновь надев приготовленную мне на сегодня маску брандмейстера, принялся тушить «новые очаги возгорания». Такая у меня сегодня работа и, как поется в одной пыльной песне:
«Яблопад, Яблопад, если женщина просит…»
Пять палок для Таис
– Нет, в чем-то, конечно, та телка с телемоста права была – не было в Союзе секса. Потому говорю, что когда я своей Таис, мечте моей, светочу желаний моих первую палку кидал, то не ебал вовсе, не трахал паскудно, как проблядушку замужнюю, – я в астрал выходил, в космосе плавал, да в невесомости болтался. А все, бля, от чего? От секеса что ли вашего? От траха-перепихона невьебенного? Да ни хуя подобного. Ни в жисть. Я каждой клеточкой, каждым нервом тела моего молодого охуительного любил ее. Потому как сияла она для меня Андромедой, манила, звездой далекой во тьме жизни светила… и неча ржать, рожа ты пропитая. Исковеркали слово, пидоры, ни вздохнуть – ни пернуть! В те невозвратные времена слово «звезда» еще приличным было, со смыслом изначальным. И вот Таис для меня этой самой далекой и манящей была, – путь, стало быть, мне в ночи освещала. На подвиги звала. Дело ж как было… а! Ну, давай, Вадьк, говори свой тост по-бырому, и продолжу… спасибо, брателло, удружил… чтобы стоял и бабло было… классная речуга… так вот, я с твоего разрешения продолжу…
Я в те сраные годы подработку искал… не, ну как? Они ж, бля, как? Они ж застоем звались. А когда, скажем, у тебя в организме застой делается ты че, ты куда первым делом прешь? Это во вторую очередь к врачам, а сперва в сортир. И там, бля, сидишь и ждешь, когда вся эта хрень, что ты в себе взрастил и выпестовал – выйдет. Сидишь, сука, как последний мудак, и тужишься. А пока жопой толчок подпираешь, изображая ебицкой силы головную ступень отечественной ракеты «Союз», столь мощную, что башкой можешь расхуярить потолок в ватеркалзете аж до седьмого этажа, то думку думаешь, кумекаешь. Вот так и весь советский народ – усядется, кто где, и мозгу о мозгу тупит, колесиками шебуршит – как бы так изъебаться, чтобы, сука бля, на одну зарплату существовать, а еще на одну, поаккордно или там посдельно, жить красиво. Потому, как возможность пиздить из закромов миллионы государство придумало для отдельных граждан гораздо позже.
Так и я, семнадцатилетний пацан, когда на вечерку в Губку поступил, то решил на киностудии одной задрипанной перекантоваться. Работу нашел, я тебе честно скажу, ништяк: что ебать – оттаскивать, что ебаных притаскивать. Фильмотекарем стал. Как раз потаскать-то и пришлось. Нагружу на тачку яуфы с фильмами, брошу в проекторскую, а сам в зал шагаю, и те фильмы, что механикам кинул, сижу, глазами лопаю. А кино, не дашь соврать, тогда было чистое, тонкое, невинное. Ты скажи, Вадь, ты в нашем старом кино перепихон где видел? Чисто родниковая любовь одна. Правду сказать, и стерильного много перло, много. Я ж тогда олух был, бля. Все больше боевики мне давай. Но как с Таис ближе сошелся, так отучила она меня поебень разную, вроде Норрисов-хуерисов, Брюсов и прочих Вандамов, любить. И не жалею – мутотень это для души и мозга русского. Так что давай, Вадя, вздрогнем. Давай за кино, которого больше нет выпьем… нет… в мою днюху я банкую, тоже право имею тост сказать.
…Но перебил ты меня. Так вот. Неделю коробки с фильмами вожу, другую, и понимаю, что зудит что-то внутри, жить мешает. И дохожу до мысли, что это что-то – болт мой родной-любимый, папой и мамой сварганенный и вместе с остальными руками-ногами при рождении дареный. И понимаешь, бля, Вадьк, штука какая: утром поднимаюсь, на работу чешу, а в горле песня – «солнце красит нежным цветом стены старого Кремля…». Встаю с этим самым рассветом, а мне хорошо, но сам и в толк не возьму – от чего душа поет? Но, как бы, бля, все в ажуре пока, штаны еще не торчком, еще не рвутся. Но как только вахтеру студийному корочку под нос ткну, как турникет позади оставлю, да как первую партию на тележке механикам в просмотровую кину, так полтергейст начинается. Встает, сука, и стоит, как произведение научной мысли товарища Шухова на Шаболовке, и до конца смены никакими силами не уговорить мне его, чтобы сник, опустился до приличных размеров. А я мальцом ещё был. В интеллигентной советской семье рос, и на высоких идеалах воспитан… чего ржешь?.. Да, мне Родина и партия через бесплатное образование и дармовую медицину внушили, что рукоблудство – тяжкий грех. Даже думать боялся, а онанизм приравнивал тогда к измене отечеству с особо тяжкими последствиями. Во какой высокоидейный был! Оттого и бегал весь день по киностудии, как мудак, с оттопыренной штаниной. И никакие узкие джинсы фирмы «Райфл», на которые вся вторая зарплата ушла, не могли настроение моего шелудивого скрыть.
И что я заметил, какой для себя код Да Винчи открыл: если прохожу мимо там аппаратных, бухгалтеров или, скажем, кабинета директора – то моему похуй, он как бы остепеняется и в норму приходит. Но стоит появиться в монтажной, либо в озвучке засветиться – все, пипец! Привет памятнику герою-космонавту Гагарину, что на Калужской площади небо подпирает, или там, салют Церетели! Видел, небось, его шашлык на Тишинке. Во-от! Так и со мной. Такой штык-нож образуется. И это заметь, Вадь, при том, что, почитай, я каждый вечер еще в Губку несусь, и аки губка морская в себя знания впитываю. А там, Вадя, девок – море. Одна другой краше. Но не знаю, то ли потому, что нам в те времена знания вбивали, а не как сейчас в школах-институтах – по крупице раздают или вообще – размазывают, но живчик мой складывался, смирным становился, и все лекции не то спал, не то, затаив дыхание, слушал. Хуй его знает. Но едва я ногой перешагну порог студии – все по новой! Так что давай, брат Вадим, за знания выпьем. За тот гранит, о который мы свою эмаль поистесали… ух! Во! Хорошо потекла!..
Так вот эти самые знания и вывели меня к ней. Просек я, что у двери за номером семь, где озвучка соседствует с монтажной, у меня особый стояк образуется. Ну, бля, прям бери меня за мой горячий инструмент, товарищ Стаханов, или еще там какая трудовая блядь вроде Мамлакат Мамаевой, подключай к компрессору, и прокладывай моим молотобойцем новую ветку метро Солнцево – Лосиный остров. Такой у той двери отбойник у меня вырастал. А за семеркой этой сидела, как ты уже, наверное, догадался одна девушка. Правильно, моя Таис Афинская кружева целлулоида там плела, что-то там с кинопленкой колдовала. Ну, тогда уже она и не девушкой была, а женой какого-то высокого комсомольского хуя. Да и не Таис ее звали, а Мариной Игоревной Рустамовой. Но ты на фамилию не смотри. Выглядела она… м-м-м… вот ты на выставке достижений народного хозяйства давно был?.. Давно. А в павильон коневодство заглядывал?.. Было. Кобылиц там молодых видел?.. Не интересуешься? Понял. Тоже, стало быть, по другим кобылкам спец? Хорошо. Но я ж к чему – в ней порода чувствовалась: такая поступь, стать, масть. Спинка всегда ровная. Не идет – гарцует. Когда, бывало, со своей тележкой сзади пристроюсь, иду, обозреваю, как она каблучками по коридору цок-цок, цок-цок. А хвост на затылке влево-вправо, влево-вправо. Попка в джинсе в облипон маленькая, аккуратная, мелким маятником вжик-вжик, вжик-вжик. Засмотрюсь, залюбуюсь, и так, знаешь, захочется стать тем воробушком, который бы и шмяк-шмяк ее, голубушку, и бряк-бряк, что все на свете забуду и со всего размаху тележку с яуфами об угол стены и хуякну. Звон, шум, трах-бах! А она только оглянется, посмотрит через плечо, хихикнет, и дальше по своим делам чешет. Все, бля, понимала! Играла, сучара! А я стою, как обоссанный, глазами хлопаю и только болт мой выпирает, как нос корабля, и от волнения молнию штанов рвет.
Я когда ее впервые увидел, она на меня и не смотрела вовсе – просто мимо, шасть! И нет ее. Мираж. Эфир, бля. Я тогда только ее профиль едва сфоткал. Взглянул и сразу – Таис! Как ярлык приклеил. А все от чего? Когда работы нет, а в зале на экране разную поебень про жизнь села крутят, то я или задания учу, или так, читаю. Помню в то время штудировал я книжку писателя Ефремова и зачитывался до жжения в жопе жизнеописанием крутой афинской бляди Таис Афинской.
Совета Власьевна поощряла тех писателей, что жизнь взабугорье рисовали черной краской, а автор как раз и описывал падение нравов: клеймил разврат и проституцию. Видать, потому книгу и напечатали. А я в те годы серьезно на запрещенку подсел, с разных там БиБиСей не слезал, Солженицина уважал, Аксенова и Галича по «голосам» слушал. А для контраста решил и наших интеллектуалов гребаных почитать: чего они там мне о Западе напоют? И ты знаешь – нет! Не о Греции книжка-то оказалась. Вернее, о Греции, конечно, но о той, древней. Когда на мечах дрались, да на соревнованиях большой палец вниз опускать придумали. И веришь-нет, но вот какой мне советский пиздюк Ефремов эту самую гетеру Таис описал: невысокую, с фигуркой точеной, что резьба на гайке, с глазами, что хохляцкие вишни, с бровьми союзными, с губами… м-м-м… ни в сказке сказать! Вот такой она, когда из столовки выходила, мне и предстала. Не девочка – монпансье! …Тю, да ты, небось, и не знаешь, что это?! А я тогда, помню, всю очередь, что за антрекотом давилась, чуть не распугал. Засмотрелся на нее, а рефлекс сработал – мой-то шершавчик в кого-то впереди уперся уже. Хорошо еще, что это Федоровна из монтажки оказалась, а не какая-нибудь пизда сверху, из администрации. А Федоровна баба умная, и слава яйцам, – замужняя, а то бы не отлипла. «Я, – говорит она мне через плечо, – молодой человек, уверена, что вы скоро умрете». А она баба зычная, громко, на всю столовку произнесла. Чую, как ветер поднялся, народ ушами – хуяк-хуяк, словно крыльями замахал, кто, мол, там в очереди помирать собрался? А я весь уже синий стою. «Почему это?», – шепчу ей. «Это потому, – тихо отвечает, но так, что все, кто уже свои локаторы настроил, слышали, – что я ваш конец чувствую».
Знаешь, я такого ебицкого позора в жизни ни до, ни после, никогда не испытывал, как тогда.
Так что наливай. Выпьем за великого писателя фантаста Ефремова, что отчеканил в буквах и подарил нам столь классный женский образ…
…Уф! Хорошо потекла! Вот ты спрашиваешь, кто из нас первым шаг навстречу сделал? Пиздить не буду – не помню. Только знаю точно, что когда я с ней заговаривал, то беседа у нас, как ручей весенний текла, журчали – не остановить. С телками, из института, это только сейчас понимаю, я или наглым был, или тихоней прикидывался. Играл, в общем. А с ней самим собой был, естественным становился. Правда, поперву, когда в коридорах сталкивались, я все за коробки с фильмами прятался, чтобы она моего позора не углядела. Да куда там. Иной раз, когда пробегала и на ходу мне «привет» бросала, то уже тогда в ее глазах такой хитрый свет видел, словно она листала меня, как книгу, а, пролистав, как бы говорила: а не прячьте вы ваше достоинство, дорогой товарищ фильмотекарь, а уж всем-то все известно, и все-то я про вас знаю. Колдунья, бля. Вот те истинный крест – настоящая Афинская Таис. Ух! Боялся я тогда глаз этих. Красоты ее боялся. Хули – пацан. Мне семнадцать, ей – двадцать три. В сопливые годы это разница. Вот мужа ее взять. Она говорила, что ему тридцатник. Мне он тогда пердуном старым казался, лысым и толстым. А когда я его увидел, она его на закрытый просмотр притащила, то я чуть не прихуел: пацан вроде меня, ну, разве чуток покрепче, да ростом ниже.
Вот что ты сразу: чпокнул – не чпокнул?! Дай дораскажу. Тогда у нас ничего не случилось. Я с киностудии слинял через год, а пока доучивался, то все локти себе искусал: почему, мудак, телефон не взял? Все думал-решал, может, встретить, подойти? Но так и не решился. То ли новую какую встретил, то просто зассал – хэзэ. Но веришь-нет, а все семь лет, пока опять не повстречал ее, во всех точеных телках с кудрями и с хвостом на затылке, одну ее видел. Во, блядь, как меня тогда цепануло!
Так что давай, друг, выпьем за прогресс! За мобилы и за храбрость! За настоящую мужскую смелость!… Уф! Хорошо потекла!
…На чем я споткнулся? Ага. Уже, значится, перестройка во всю по стране, как тогда вещали, шагала. Топала прям. А не могу тебе не сказать, что на этом славном отрезке нашей с тобой общей истории я лишился девственности. Не проси, рассказывать не стану, кто мне целку порвал. В истории этой романтики нихуя. Скорее неприглядность одна. Не о том сейчас речь. Но в то лето восемьдесят восьмого, в котором все у нас с Таис и произошло, обхаживал я сразу двух бикс. Планы на них строил. Мечтал дуэтом их отодрать. Последних денег не жалел, по дискотекам водил, в кафе, рестораны. Одна, вижу, уже согласна, уже, бля, слюной исходит – когда, когда же вы придете… безумно я люблю… кстати, да – Татьяной звали. Вторая – ни в какую. Бывают, Вадь, такие бляди, что хоть кол на голове теши… ладно, отвлекся. И вот как-то выгуливаю их в Лужниках.
А партия то ли уже своей мохнатой жопой чуять что начала, то ли просто перебздеж показушный затеяла, но вдруг резко со всеми замиряться стала, со всеми странами дружить. И в качестве наглядной такой открытости придумали в Лужниках фестиваль показательной любви с народом Индии. Ну, хули ж – не только с Китаем мы братья навек?! И пока на всех площадках Лужи бомбейские циркачи нашим людям камасутру казали вкупе с брахмапутрой, сидел я, стало быть, со своими биксами на лавке возле самой крутой во всей эСэСэСэР олимпийской арены и эскимо за одиннадцать копеек за обе щеки уминал. Но только чую, что кусок не в то горло пошел. Поперхнулся. Глазам не верю. Идет. Нет – летит! Летит моя Таис через весь парк по аллее скорым аллюром. Метров за триста, слету сфоткал, – она! Я все про все забыл и с криком – Марина! – к ней.
Узнала. Остановилась, но едва, на секунду. Сказала лишь – говорить некогда, созвонимся. Достала визитку, протянула и сизым облаком – вжик! Только и видел. Смотрю вслед, кручу визитку и думаю: тот же хвостик на затылке туда-сюда, туда-сюда, та же поступь, как по подиуму, только плечи чуть округлились, да в бедрах раздалась. Но все же – она, Мечта моя! Моя Таис Афинская! Стою, как булавкой приколотый и в «ромашку» играю: звонить – не звонить… Почему? Потому, что так-то вроде она это, Таис моя, но в то же время – чужая. Другая совсем. Говорила, а глаза без искры, холодные. И вся из себя деловая, стремительная. Правда, был момент, после чего решил – позвоню. Она же, когда меня увидела, даже не удивилась, словно вчера расстались, а сразу имя вспомнила. А ведь семь долгих лет прошло. И ведь ничего меж нами не было. Лишь взгляды одни. Стало быть – помнила.
Домой счастливый пришел, чуть не на рогах. Про бикс и не вспомнил даже. А на завтра позвонил.
На свиданку несся – жених женихом: галстук надел узкий, джинсовую куртку «Ранглер». Ну, как же – с богиней встречусь!
И вот, гуляем мы уже рука под руку по городу нашему вечернему, яркому, светлому, улыбчивому. Вспоминаем родную киностудию и планы строим, потому, как впереди и навсегда – свобода, потому как полным ходом Перестройка шарашит, потому как сухой закон, в рот его ебать, уже как бы медным тазом поднакрылся, и все взад вертается. Гуляем, и догуливаемся до полных откровений: через два дня, говорит, муженек мой, что всю эту херомантию индийскую в Лужниках замутил, уезжает со своими индусами на их хаус, в Калькутты-Бамбеи, и меня с собой зовет. Но что ей Индия – духота и срач, и ни одного приличного белого парня, и что ехать сейчас ей как бы и не с руки, и не мог бы я скрасить ее одиночество в эти суровые месяцы разлуки с мужем.
Ну, за давностью лет я в точности и не помню всех слов – так сказала или нет. Но суть-то она примерно та. Та суть. И вот тут ты мне скажи… нет, погодь. Успеем еще орюмашиться. Ответь сперва.
Перед тобой выбор стоит: на одних весах – образ любимый, мечта несбыточная, цель недосягаемая, планка в семь метров, а на других – нить Ариадны в руках, стрелка указательная, выход, все к чему стремился – нате, получите! И, главное, без усилий и препятствий. Птица Счастья сама в руки прет. Вот что бы ты выбрал? Правильно. Мужик ты, Вадьк. Вот и мною тогда только болт мой рулил, одновременно и партией, и правительством был. А семь лет – не хер свинячий, из головы не выкинешь. Это все равно, как на Марс слетать. Представь, ты долгие годы готовишься. Тебя всякую хуету жрать заставляют. Гоняют по центрифугам до звездопада в глазах, крутят в каруселях до блевоты, стреляют тобой из катапульты, так что мозги раком, и как итог – ключ на старт. Отошла первая ступень, вторая. Есть отрыв! Поехали, бля! И еще три долгих года ты ежедневно ощущаешь невесомую весомость тела, что мимо Млечного Пути пиздяшит на скорости, кажется, двадцать кэмэ в секунду.
Ну, свезло, долетел. Ну, стукнул ты сапогом фирмы «Скороход» по пыльной марсианской поверхности, и что? Насри от радости в штаны. Ты же даже не поймешь, что – все! Нет мечты. Убил ты ее, бля. В прошлом она осталась. Стремиться-то не к чему. Тьфу! Это я сейчас понимаю – нельзя было замок разрушать, нельзя Солнечный остров ногой топтать. Да что говорить. Давай выпьем за путь к цели, за то, чтоб вечный бой, и покой нам только снился… хх-х, крепкая, чертюка… новую что ли открыл?.. сейчас, сейчас, близок уже конец… потерпи… к сути иду.
Погуляли мы с ней еще пару дней, рестораны, набережные пообтерли. А я, заметь, Вадим, события не тороплю. Это я с другими шустрый, помацал, и в койку. С ней – не-ет! Таис Афинская – звездочка моя ясная. Тонкая, хрупкая, не спугнуть бы… Но вот тонкости и хрупкости в ней поубавилось. Изменили ее годы. Проще, что ли стала, грубей. Раньше смех был, как родник журчал, сейчас же ржет чисто кобыла. Матом не хуже нас с тобой шпарит. Что-то на меня это как-то… В общем, блекнет образ, чахнет звезда. Но я терплю. Семь лет одним махом в сортир не смоешь. И к исходу второго дня она признается, что детей (они с мужем уже двоих успели настрогать) она к маме на дачу сплавила, и квартира ее в нашем полном распоряжении.
Тут-то вся моя темная сторона и всплыла, вся кобелиная сущность и сыграла. Вот он, мой Марс – один шаг до него. И шагнул. И сделал. И когда первую палку кидал, не трахал ее – нет. Любил безумно. Кончал, не поверишь, как в космос без скафандра выходил. В нирване плавал! Но этот мой кайф она быстро обломала. «Нахера ты мне, – плачет, – всю ляжку уделал?» Обиделась, стало быть, что я своих живчиков ей не подпустил, что вынул шершавого. Я ж последние два года все с девочками-целочками воспитательную работу проводил. И чтобы упырей не настрогать, если, конечно, резины нет, то выработал такую тактику. Видать, когда подступило, то подсознание сработало, мол, подо мной сейчас что-то чистое и светлое плещется, и дабы не осквернить, не испачкать, я его и вынул. Оказалось, зря. Ладно, говорю, потерпи чуток. Сейчас соберу волю в кулак, сделаю, как хочешь.
Вот тогда-то я и увидел свою, прежнюю Таис: глаза вспыхнули, загорелись. Улыбается, как тогда, на студии, аж мураши бегут. Халатик с плеч потянула, юркнула в койку и без разгона, без обмена вверительными грамотами такая про меж нами любовь началась, такие скачки-заезды, что мама не горюй! И до финиша тоже вместе добрались, с криками, воплями, словно с Останкинской башни без парашюта сигали. А она еще минут дцать потом похрюкивала от удовольствия, и все комплиментами меня осыпала. Я, помню, подумал тогда: это че ж, ее мужик после первой палки засыпал, что ли? Молодой был, глупый. Это сейчас я порой и до первой не дохожу, зевать начинаю. А тогда туда же – смеяться. Не знаю, может, повредил я чего ей когда вдувал, но у нее понос открылся – словесный. Щебечет – не остановить. Вечер памяти и воспоминаний у нас начался. Все, что у нас тогда с ней на киностудии было и чего не было – все мне со своей позиции поведала. Призналась, что как только меня увидела, сразу вхуячилась. Так прям и сказала – вхуячилась. Вообще, у нее че-то переклинило и материться она во сто крат чаще стала. А мне это у баб как-то не комильфо. Не люблю я этого. Да и образ ее подтачивает. А пока она мне все это излагала, то безотрывно ручкой своей нежной точеной афинской моего прикорнувшего бойца нежно поглаживала. А уродцу этому другого счастья и не надо. Это у большого артиста советского кино товарища Кикабидзе его богатство – года, а Эльдорадо моего витязя в тигровой шкуре – ласка и нежность. И едва она довспоминала до места, когда в студии на одном из просмотров села между мной и мужем и, пока фильм не дали, стала мечтать, чтобы мы ее оба оттюннинговали (во, Вадик, оказывается, у баб мысли какие в головах, в то время как ты изъебываешься, с какой стороны подступиться?!), как у меня такой стояк образовался, что скульптору Церетелли с его непотопляемым Колумбом-Петром еще срать да срать.
О тюнниге тебе мечтается, голуба? Сразу с двумя? Сейчас я тебе, афиняночка моя, покажу тюнниг, отдраю палубу, отполирую корму, а в качестве бонуса ты увидишь, как советские моряки-десантники вступали с врагом в смертельный рукопашный бой. И нежно так беру мою Таис и переворачиваю, как драгоценную пластинку группы «Битлз», что у нас в Совке звалась «Ебивроут». Переворачиваю так, чтобы не только всю ее крутобедрую окружность срисовать, а скорее, то, что выше. И вбиваю в нее свое орудие, и дохожу им куда-то там до чего-то самого важного, до чего, похоже, и не доходил до меня никто. Она стонет, верещит, головой мотает, отчего хвостик, о котором 7 лет мечтал, в который лицом зарыться да зацеловать хотел, из стороны в сторону швах-швах, швах-швах. На него глядючи, вспомнил, о чем мечталось. Ага, попалась, бабочка! Получи шмык-шмык-шмык-шмык. Заслужил воробушек бряк-браяк-бряк-бряк.
И доканифолил Таиску до таких песнопений, до такого ора, что я испугался даже – ну, точно соседи ментов вызовут, и голову ей в подушку стал придавливать. А она – ржать. Говорит, ее никто раньше не пытался одновременно трахнуть в прямом и переносном смысле. И вообще у нее после этой палки какое-то нехорошее веселье открылось. Суетиться принялась, на стол собирать стала. В закрома полезла. На столе торт появился, коньяк. Свечи зажгла. У, думаю, переборщил я, перестарался – этот сабантуй надолго и всерьез. Сели. Дерябнули по пятьдесят, и, как водится, в мемуары подались: она мне – как плохо жила без меня, я – про свою житуху.
Счастья, говорит, нихуя нет. Давно, еще со студии, у них с мужем все наперекосяк. А муж у нее – шишка большая, такого хер просто так бросишь. Рассказывает, плачется, но чую, вся речуга вокруг одной и той же мысли кружится, что если бы ей вдруг встретился мужик толковый, настоящий, то с мужем бы рассталась запросто. И в качестве примера своих подруг привела, которые уже все по второму замужнему кругу пошли, поменяли мужей. Тут я подумал, что неизвестно, кто кого еще поменял. Но в слух не сказал. Мне то что? Я сижу, пропускаю коньяк малыми дозами, но только в какой-то момент отвлекся. И смотрю – нет нигде моей Таис. Вот, вроде, только сейчас здесь за столом была. Отвернулся – нет ее. Испарилась. И только так подумал, как в самом паху жарко стало. И приятность образовалась. Ну, думаю, волшебница. Ну, затейница. А сам веселюсь: посмотрим, как быстро ты своими сладкими губками его расшевелишь? Ты ж, Вадь, понимаешь, это нефть да газ из закромов сосать-неперосать – неизвестно, сколько этого добра в недрах. А человеческий организм, он пределы имеет. А я что? Я не Бонд и не супермен какой, чтобы вот так сразу – только отстрелялся, и опять в бой. Потому как у меня полное егильетте орудия производство и вообще, по три палки в одни руки я по великим праздникам даю, а чтобы четыре… Рассуждаю себе так, бухая в одиночку, и только чую, как от ее язычка, от губ ее нежных все во мне затрепетало, заголосило и заколосилось, да так, что рюмка в руке ходуном ходит, а в голове ария композитора Алябьева «Соловей, мой, соловей». Так бы и пропел всю партию в одиночку до самого конца, если бы она не стянула меня зубами под стол.
Уложила спиной на ковер, оседлала и, фигурально выражаясь, пришпорила. Да! Я к своим двадцати четырем годам немало накувыркаться успел. Но такого конкура еще не видел. Ни до, ни после. Класс! В четвертый раз вместе в космос вылетали. Уже и я о соседях не думал, глотку не жалел. Даром, что стены в метр – сталинская кладка. А сам лежу, отдыхаю и тихо охуеваю. Это ж надо! Четыре палки кинул! Такого со мной еще не было. Да и не вечер еще. А она, как мысли мои прочла:
– Ты охуительный… автомат… молотобоец… кобель. Никогда не верила, что такое возможно.
– Да и я тоже, – отвечаю, а у самого уже, от этого ее «кобеля» как-то настроение совсем подвяло. Кисло мне разом как-то стало. От эпитетов ее, от разговоров про мужа, про жизнь. Хули ж ты плачешься – злюсь, – чего с жиру бесишься? На всем готовом живешь, мужик в жарких странах ради тебя потеет, зарабатывает, все зубы, небось, от напряжения поменял, а ты тут с ебарем лежишь-милуешься и намеки ему разные делаешь. И от мыслей этих трусы уже натягивать стал. Она увидела эти мои скорые сборы, удивилась.