Большие надежды Диккенс Чарльз
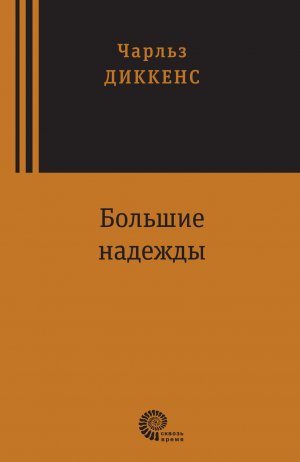
– И почему это дети всегда такие неблагодарные?
Все стали в тупик перед этой загадкой, и только мистер Хабл разгадал ее, сухо отрезав:
– Такими уж родятся уродами.
Все подтвердили вполголоса:
– Истинная правда! – и посмотрели на меня как-то особенно враждебно.
При гостях Джо (если только это возможно) значил в доме еще меньше, чем без них. Но по мере сил он всегда выручал и утешал меня, и за обедом давал мне как можно больше подливки, если таковая имелась. В тот день подливки было много, и Джо тотчас зачерпнул мне ее с полпинты.
Мистер Уопсл довольно строго отозвался о проповеди, которую мы слышали в то утро, и дал понять в общих чертах, какую проповедь произнес бы он сам в том мало вероятном случае, если бы двери церкви были открыты. Познакомив присутствующих с главными пунктами этого сочинения, он заявил, что, на его взгляд, и тема была выбрана священником неудачно, а это уж вовсе непростительно, потому что хороших тем, как он выразился, «хоть пруд пруди».
– Правильно, – сказал дядя Памблчук. – В самую точку попали, сэр! Тем действительно хоть пруд пруди, только надо суметь насыпать им соли на хвост. В этом вся штука. За темами недалеко ходить, была бы солонка наготове. – Немного подумав, мистер Памблчук добавил: – Взять хотя бы свинину. Чем не тема? Если вам нужна тема, повторяю, возьмите свинину!
– Совершенно верно, сэр, – отвечал мистер Уопсл. – Для малолетних… – я уже знал, что сейчас он приплетет меня, – …в высшей степени благодарная и поучительная тема. («Слушай хорошенько», – цыкнула на меня сестра.)
Джо добавил мне подливки.
– Свинья! – продолжал мистер Уопсл глубочайшим басом, указуя вилкой на мою смущенную физиономию, словно называл меня по имени. – Со свиньями водил компанию блудный сын. Прожорливость свиней приводится как дурной пример в назидание малолетним. («А сам только что расхваливал окорок, – подумал я, – какой он жирный да сочный».) То, что предосудительно в свинье, тем более предосудительно в мальчике.
– Или в девочке, – подсказал мистер Хабл.
– Ну разумеется, мистер Хабл, – согласился мистер Уопсл не без досады, – но девочек я здесь не вижу.
– К тому же, подумай, – сказал мистер Памблчук, внезапно наскакивая на меня, – как ты должен быть благодарен судьбе. Доведись тебе родиться маленьким визгливым поросенком…
– А он как раз и был таким, – убежденно заметила моя сестра.
Джо добавил мне подливки.
– Да, но я имею в виду поросенка четвероногого, – сказал мистер Памблчук. – Доведись тебе родиться свинушкой, был бы ты сейчас здесь, а? Как бы не так.
– Разве что в таком виде, – сказал мистер Уопсл, кивая на блюдо.
– Но я говорю не о таком виде, сэр, – с досадой возразил мистер Памблчук, не любивший, чтобы его перебивали. – Я хотел сказать, мог бы он тогда наслаждаться обществом старших, просвещать свой ум их беседой и купаться в роскоши? Я спрашиваю, мог бы или нет? Нет, не мог бы. А что бы тебя тогда ожидало? – снова наскочил он на меня. – Продали бы тебя за столько-то шиллингов, смотря по тому, какая этому товару цена на рынке, и мясник Данстебл поднял бы тебя с соломенной подстилки, прихватил бы левым локтем, а правой рукой отвернул бы полу, чтобы достать из кармана ножичек, и пролилась бы твоя кровь, и пришел бы тебе конец. Тут уж никто не стал бы воспитывать тебя своими руками. Где там!
Джо предложил мне еще подливки, но я побоялся взять.
– Он, должно быть, доставил вам немало хлопот, сударыня, – сказала миссис Хабл, преисполнившись сострадания к моей сестре.
– Хлопот? – отозвалась та. – Хлопот? – И пустилась перечислять все болезни, в которых я провинился, и все случаи моей злостной бессонницы, и все деревья и крыши, с которых я падал, и все пруды и канавы, в которых я чуть не утонул, и все мои синяки и ссадины, и сколько раз она молила Бога о моей смерти, а я упорно отказывался умирать.
Я склонен думать, что римляне изрядно раздражали друг друга своими носами. Поэтому, возможно, из них и получился такой непоседливый народ. Во всяком случае, римский нос мистера Уопсла так раздражал меня, пока оглашался список моих провинностей, что я готов был вцепиться в него и не отпускать, покуда его обладатель не взвоет. Но все, что я вытерпел до сих пор, не могло и сравниться с тем смятением, какое охватило меня, когда молчание, которое последовало за рассказом моей сестры и во время которого (как я мучительно сознавал) все смотрели на меня с гневом и отвращением, – когда это молчание было нарушено.
– А между тем, – сказал мистер Памблчук, ловко возвращая своих собеседников к предмету, от которого они отклонились, – свинина – в вареном виде, – право же, недурная вещь, а?
– Выпейте бренди, дядя Памблчук, – предложила моя сестра.
О господи, вот оно! Сейчас он почувствует, что бренди разбавлено, и скажет это, и все пропало! Обеими руками я крепко ухватился под скатертью за ножку стола и стал ждать, что будет.
Сестра отправилась за глиняной бутылью, принесла ее и налила мистеру Памблчуку, – кроме него никто не пил. Злодей повертел стакан в руках, поднял его, посмотрел на свет, поставил на стол, точно задался целью продлить мои мученья. А тем временем моя сестра и Джо быстро убирали со стола все лишнее, чтобы освободить место для паштета и пудинга.
Я неотступно смотрел на мистера Памблчука. Крепко обхватив руками и ногами ножку стола, я следил за тем, как этот презренный человек любовно оглядел стакан, поднял его, сладко улыбнулся, запрокинул голову и залпом выпил до дна. В следующее мгновение неизъяснимый ужас отразился на всех лицах: мистер Памблчук вскочил со стула, несколько раз перевернулся на месте в каком-то судорожном коклюшном танце и ринулся к двери; а затем мы увидели его в окно: явно лишившись рассудка, он прыгал, отплевывался и строил рожи одна страшнее другой.
Я крепко держался за ножку стола, между тем как сестра и Джо бросились к нему на помощь. У меня не оставалось сомнений, что я убил его, неведомо как и чем. Поэтому я даже испытал некоторое облегчение, когда его втащили обратно в кухню и он, окинув собравшихся таким взглядом, будто это они во всем виноваты, опустился на стул и выдохнул одно роковое слово:
– Деготь!
Второпях я долил в бутыль дегтярной воды! Я знал, что через некоторое время ему станет еще хуже, и так налег на ножку стола, что, уподобившись нынешним медиумам, даже сдвинул его немного с места.
– Деготь! – в изумлении повторила сестра. – Да как же туда мог попасть деготь?
Но дядя Памблчук, чувствовавший себя в нашей кухне полновластным хозяином, не желал и слышать этого слова или говорить об этом предмете и, отмахнувшись величественным мановением руки, потребовал горячего джина. Сестра, впавшая было в подозрительную задумчивость, тотчас захлопотала, – нужно было принести джин и горячую воду, смешать их с сахаром, добавить лимонной корочки. На какое-то время я был спасен. Я все не отпускал ножку стола, но теперь обнимал ее с чувством самой пылкой благодарности.
Скоро я настолько успокоился, что разжал руки и занялся пудингом. Мистер Памблчук занялся пудингом. Все занялись пудингом. Покончили и с этим блюдом, и под благотворным воздействием горячего джина мистер Памблчук снова повеселел. Во мне уже затеплилась надежда, что я переживу этот день, но тут моя сестра обратилась к Джо:
– Подай чистые тарелки, греть не надо.
В тот же миг я опять впился в ножку стола и прижал ее к груди, как друга детства и закадычного товарища. Я знал, что последует, и чувствовал, что на этот раз погиб безвозвратно.
– А на закуску, – сказала сестра, подарив гостей любезнейшей улыбкой, – я прошу вас отведать одного замечательного, редкостного кушанья, – это подарок дяди Памблчука.
– Отведать? Пусть лучше и не надеются!
– Я скажу вам, что это такое, – продолжала сестра, вставая. – Это паштет; вкуснейший свиной паштет.
Раздался ропот одобрения. Дядя Памблчук, всегда готовый признать свои заслуги перед ближними, произнес, можно даже сказать, игриво (принимая во внимание все обстоятельства):
– Что ж, рады стараться; давайте-ка посмотрим, что это за паштет.
Сестра вышла из кухни. Я слышал, как ее шаги направились к кладовой. Я видел, как мистер Памблчук вооружился ножом и как от нового приступа аппетита раздулись римские ноздри мистера Уопсла. Я слышал замечание мистера Хабла, что «свиным паштетом можно заесть что угодно, вреда не будет», и слова Джо: «Тебе тоже дадут, Пип». До сих пор не знаю, только ли мысленно я испустил пронзительный вопль, или его слышали остальные. Почувствовав, что мне больше не выдержать, что нужно спасаться, я отпустил ножку стола и сломя голову бросился к двери.
Но дальше порога я не добежал, потому что с размаху врезался в целую партию солдат с мушкетами, и один из них сказал, протягивая мне наручники:
– Ага, попался, ну теперь берегись!
Глава V
При виде отряда солдат, грохавших прикладами заряженных мушкетов о наше крылечко, все повскакали из-за стола, а миссис Джо, возвращавшаяся из кладовой с пустыми руками, застыла на месте, не закончив горестного восклицания: «О господи боже мой милостивый, куда же… девался… паштет?»
Взгляд миссис Джо был устремлен на меня и на сержанта, и эта новая угроза несколько прояснила мой ум. Сержант и был тем, кто заговорил со мной, и теперь он обводил взглядом гостей и хозяев, правой рукой любезно предлагая им наручники, а левую положив мне на плечо.
– Прошу прощенья, леди и джентльмены, – сказал сержант, – но как я уже докладывал этому юному франту (он мне ничего не докладывал!), я именем короля послан в погоню, и мне нужен кузнец.
– А позвольте узнать, зачем он вам понадобился? – спросила сестра, задетая за живое тем, что Джо кому-то нужен.
– Сударыня! – галантно ответил сержант. – От своего имени я бы сказал – ради чести и удовольствия познакомиться с его прекрасной супругой; от имени же короля скажу, что у меня есть к нему небольшое дельце.
Все поняли, что сержант за словом в карман не лезет, а мистер Памблчук даже произнес довольно громко: «Хорошо сказано!»
– Понимаете, хозяин, – продолжал сержант, подходя к Джо, в котором он тем временем распознал нужного ему человека, – у нас с этими наручниками промашка вышла, и теперь замок отказал и цепочка плохо работает. А они нам понадобятся сегодня же, так будьте добры взглянуть, в чем тут дело.
Джо взглянул и определил, что придется разжигать горн и работа займет часа полтора, а то и два.
– Вот как? Ну так принимайтесь за дело немедля, – сказал расторопный сержант, – помните, вы служите его величеству королю. Если понадобится помощь, мои люди к вашим услугам.
С этими словами он кликнул своих солдат, и они гуськом протопали в кухню и, составив ружья в углу, столпились у дверей, кто сцепив перед собой руки, кто прислонясь плечом к стене, поправляя ремни и подсумки, изредка открывая дверь и вытягивая шею, сдавленную высоким воротником мундира, чтобы сплюнуть во двор.
В то время я и не сознавал, что замечаю все это, потому что был сам не свой от страха. Но, сообразив наконец, что наручники предназначаются не для меня и что с появлением солдат паштет скромно отодвинулся на задний план, я стал понемногу собираться с мыслями.
– Виноват, который теперь час? – обратился сержант к мистеру Памблчуку, очевидно считая, что раз этот последний понимает толк в людях, он должен иметь понятие и о времени.
– Ровно половина третьего.
– Ну, это еще ничего, – сказал сержант, прикинув что-то в уме. – Даже если придется задержаться здесь часа на два, все равно успеем. Сколько от вас тут считается до болот? Наверно, не больше мили?
– Как раз миля, – сказала миссис Джо.
– Успеем. Начнем облаву с наступлением темноты. Таков приказ – перед самым наступлением темноты. Успеем.
– Беглые, сержант? – деловито осведомился мистер Уопсл.
– Да, – ответил сержант. – Двое. Есть сведения, что они еще на болотах, а пока светло, они не будут пытаться улизнуть оттуда. Из вас тут никому не попадалась на глаза такая птица?
Все, кроме меня, чистосердечно ответили в отрицательном смысле. Обо мне никто не подумал.
– Ничего, – сказал сержант, – они и не подозревают, как скоро окажутся в кольце. Ну, хозяин, вы, я вижу, готовы, а его величество король и подавно.
Джо, успевший снять сюртук, шейный платок и жилет и надеть свой кожаный фартук, первым прошел в кузницу. Один из солдат отворил ставни, другой разжег огонь, третий взялся за мехи, остальные стали кружком у огня, который разгорелся быстро и жарко. И пошел тут у Джо стук и звон, стук и звон, а мы все смотрели, как он работает.
Всеобщее увлечение предстоящей погоней так захватило мою сестру, что она даже расщедрилась – нацедила солдатам из бочки кувшин пива, а сержанту предложила стаканчик бренди. Но мистер Памблчук решительно заявил: «Дайте ему вина, сударыня, уж в вине-то не будет дегтя, за это я ручаюсь», после чего сержант поблагодарил его и сказал, что предпочитает напитки без дегтя, а потому, если не будет возражений, лучше выпьет вина. Когда ему поднесли, он провозгласил здоровье его величества, поздравил всех с праздничком и, одним духом осушив стакан, громко причмокнул губами.
– Ну как, сержант, недурное винцо? – спросил мистер Памблчук.
– Сдается мне, – отвечал сержант, – что это винцо вы сами и раздобыли.
– Почему же это вам так сдается? – спросил мистер Памблчук с самодовольным смешком.
– А потому, – отвечал сержант, хлопнув его по плечу, – что вы человек понимающий.
– В самом деле? – спросил мистер Памблчук с тем же самодовольным смешком. – Выпейте еще стаканчик!
– Только с вами. За нашу дружбу, – отвечал сержант. – Чокнемся! И еще разок! Вон как славно поют стаканчики! Ваше здоровье! Дай вам Бог прожить тысячу лет и чтобы вы всегда выбирали такие же отменные вина!
Сержант залпом осушил и этот стакан и, казалось, не прочь был выпить третий. Я заметил, что мистер Памблчук в пылу гостеприимства, видимо, совсем забыл, что принес вино в подарок, – он взял у миссис Джо бутылку и распоряжался ею, как радушный хозяин. Даже мне досталось немножко. Когда первая бутылка кончилась, он велел подать вторую и распорядился ею не менее щедро.
Глядя, как оживленно они толпятся в кузнице и как им весело, я думал – какой отличной закуской оказался для них мой беглый болотный знакомец! За обедом, до того как он доставил им столько развлечений, им было куда скучнее. И теперь, когда все только и мечтали о том, как «злодеи» будут изловлены; и словно вослед беглецам ревели мехи и тянулись языки пламени; и дым устремлялся в погоню за ними; и ради них стучал и звенел молотом Джо; и, угрожая им, метались по стене зловещие тени, а огонь то разгорался, то спадал, и красные искры гасли на излете, – детскому моему воображению смутно представлялось, что бледный день за окном побледнел от жалости к этим горемыкам.
Но вот Джо закончил свою работу, стук и гудение стихли. Надевая сюртук, Джо набрался смелости и предложил, не пойти ли нам вместе с солдатами – посмотреть на облаву. Мистер Памблчук и мистер Хабл отказались, их больше прельщало покурить трубочку в обществе дам; но мистер Уопсл сказал, что охотно составит компанию Джо, а Джо сказал, что, ежели миссис Джо позволит, он возьмет с собой и меня. Я уверен, что нас нипочем бы никуда не пустили, но самой миссис Джо до смерти хотелось узнать, чем кончится погоня. Она поставила лишь одно условие:
– Если мальчишке там голову разнесет пулей, я ее склеивать не буду, не надейся.
Сержант учтиво простился с дамами, а с мистером Памблчуком расстался как со старым другом, хотя я подозреваю, что без помощи живительной влаги он едва ли оценил бы достоинства этого джентльмена. Солдаты разобрали ружья и построились. Мистер Уопсл, Джо и я получили строгий приказ – держаться в арьергарде и не произносить ни слова, после того как мы выйдем на болота. Когда мы, поеживаясь от холода, бодрым шагом выступили в поход, я изменнически шепнул Джо:
– Хорошо бы мы их не нашли.
А Джо шепнул мне в ответ:
– Я бы шиллинга не пожалел, если бы им удалось удрать, Пип.
Больше никто из жителей деревни не пошел с нами: погода была холодная, неприветливая, дорога унылая, под ногами скользко; к тому же темнело, а дома люди грелись у камелька и справляли праздник. Тут и там на нашем пути удивленные лица поспешно приникали к освещенным окнам, но наружу никто не вышел. Дойдя до перекрестка, мы свернули прямо к кладбищу. Здесь по знаку сержанта сделали короткую остановку, и солдаты рассыпались среди могил и осмотрели церковную паперть. Они возвратились, не обнаружив ничего подозрительного, и мы вышли через боковые ворота на просторы болот. Восточный ветер стал хлестать нам в лицо мокрым снегом, и Джо взял меня на закорки.
Только сейчас, на пустынной равнине, где я побывал восемь-девять часов тому назад и видел обоих каторжников (как бы все удивились, когда бы узнали про это!), мне пришла в голову страшная мысль: а вдруг, если мы их найдем, мой арестант решит, что это я привел сюда погоню? Ведь он спрашивал, не обманул ли я его, и сказал, что я был бы никудышным щенком, если бы стал его травить. Неужели он подумает, что я и вправду щенок и обманщик и мог так подло предать его?
Но теперь это был праздный вопрос. Я сидел на закорках у Джо, а Джо брал одну канаву за другой, как охотничья лошадь, и покрикивал мистеру Уопслу, чтобы тот не отставал и, боже сохрани, не ткнулся в землю своим римским носом. Солдаты двигались впереди нас, растянувшись длинной цепью. Мы держались того же направления, по какому я шел утром, пока не заплутался в тумане. Сейчас туман либо еще не пал, либо его развеяло ветром. В красном зареве заката были ясно видны и маяк, и виселица, и холм с батареей, и дальний берег реки – все одинакового мутно-свинцового цвета.
Я напряженно всматривался вдаль, и сердце у меня стучало о широкую спину Джо, как кузнечный молот. Но никаких признаков беглых я не мог уловить. Сперва меня сильно пугало сопенье и тяжелое дыхание мистера Уопсла; но потом я привык к этим звукам и уже знал, что они не имеют отношения к предмету наших поисков. Один раз я вздрогнул от ужаса: мне показалось, что я все еще слышу скрежет подпилка; но то был лишь овечий колокольчик. Овцы поднимали головы и робко смотрели на нас, коровы, отворачиваясь от ветра и мокрого снега, провожали нас сердитыми взглядами, словно это мы принесли им непогоду, и боязливо шелестела трава в последних отблесках дневного света, – больше ничто не нарушало безотрадной тишины болот.
Солдаты все приближались к старой батарее, и мы шли следом, немного позади их цепи, как вдруг все стали: на крыльях дождя и ветра к нам донесся протяжный крик. Потом второй. Он возник далеко от нас, где-то к востоку, но был протяжный и громкий. Казалось даже, что кричат сразу два или три человека, так сбивчиво и неясно долетал до нас этот звук.
Сержант и ближайшие к нему солдаты вполголоса говорили об этом, когда мы с Джо подошли к ним. Прислушавшись, Джо (хорошо разбиравшийся в таких вещах) подтвердил их мнение, так же как и мистер Уопсл (ничего в таких вещах не смысливший). Сержант, будучи человеком решительным, отдал приказ: на крики не отвечать, но изменить направление и идти к востоку «беглым шагом». Тогда и мы повернули вправо, на восток, и Джо так ретиво поскакал вперед, что я крепко ухватился за него, чтобы не свалиться.
Теперь мы неслись во весь опор, так что даже Джо не удержался и крикнул мне разок: «Ох, и гонка!» Не разбирая дороги, мы мчались вверх и вниз по дамбам, перемахивали через ручьи, шлепали по воде, продирались сквозь жесткий камыш. Чем ближе звучали крики, тем ясней становилось, что кричит не один человек. Временами крик как будто стихал, тогда и солдаты застывали на месте. Когда же он раздавался вновь, солдаты бежали быстрее прежнего, и мы за ними. Скоро мы уже стали различать, что один голос кричит: «Убивают!», а другой – «Арестанты! Беглые! Стража! Сюда!» На минуту шум драки заглушил оба голоса, потом крик возобновился. И тут солдаты стрелой понеслись вперед, а вместе с ними и Джо.
Сержант первым добежал до места, двое солдат тотчас догнали его. Когда подоспели остальные, эти двое уже взвели курки.
– Оба тут! – задыхаясь, прокричал сержант, соскакивая в глубокую канаву. – Сдавайтесь, вы! Экие звери, черт бы вас взял! Да уймитесь вы, дьяволы!
Фонтаном взлетали брызги воды и комья грязи, сыпались проклятия и удары, и наконец еще несколько солдат, соскочив в канаву на помощь сержанту, вытащили порознь обоих каторжников – моего и другого. Они были все в крови и отчаянно отбивались и сквернословили, но я, разумеется, тотчас узнал обоих.
– Обратите внимание! – прохрипел мой каторжник, стирая с лица кровь драными рукавами и стряхивая с пальцев вырванные волосы. – Это я его задержал! Я передаю его вам! Обратите внимание!
– Нашел о чем разговаривать, – сказал сержант. – Едва ли тебе будет от этого польза, любезный, – ведь ты с ним одного поля ягода. Подать наручники!
– А я и не жду для себя пользы. Мне больше никакой пользы не надо, – сказал мой каторжник и хищно усмехнулся. – Я его задержал. Ему это известно. С меня и хватит.
У другого арестанта лицо совсем посинело, и, вдобавок к старому кровоподтеку на левой щеке, он весь был в синяках и ссадинах. Пока на него надевали наручники, он все силился заговорить и не мог и даже прислонился к одному из солдат, чтобы не упасть.
– Заметьте, служивый, он хотел меня убить, – были его первые слова.
– Хотел убить? – пренебрежительно повторил мой арестант. – Хотел и не убил? Я его задержал и сдал кому следует, вот что я сделал. Мало того, что я не дал ему уйти с болота, я его сюда приволок, немножко не доволок до места. Этот мерзавец, видите ли, благородный джентльмен. Так вы теперь мне спасибо скажите, что тюрьма получит обратно своего джентльмена. Убить его? Очень нужно руки марать, когда я мог сделать кое-что похуже – опять его засадить.
А тот все бормотал, задыхаясь:
– Он хотел… хотел меня убить. Будьте… будьте свидетелями.
– Вы меня послушайте, – сказал мой каторжник сержанту. – Я сам ушел с баржи, мне никто не помогал. Захотел и ушел. Я бы и на этом болоте не остался замерзать – вон, посмотрите, нога-то не закована, – кабы не узнал, что он тоже здесь. Допустить, чтобы он ушел? Чтобы он воспользовался моей хитростью да сноровкой? Чтобы опять согнул меня в бараний рог? Ну нет, шалишь! Да если б я сдох в этой канаве, – он указал на нее, неуклюже взмахнув скованными руками, – я б и то его не выпустил, так и держал бы до вашего прихода.
Другой арестант повторил, с содроганием оглядываясь на него:
– Он хотел меня убить. Если бы не вы, меня уже не было бы в живых.
– Врет он! – свирепо оборвал его мой каторжник. – Всю жизнь врал и до смерти не перестанет. Да вон, у него это на лице написано. Пусть-ка посмотрит мне в глаза. Вот увидите, не посмеет.
Тот пытался выдавить из себя презрительную усмешку, – хотя так и не мог унять дрожь, кривившую его губы, – посмотрел на солдат, окинул взглядом болота и небо, но от своего противника упорно отводил глаза.
– Вот вам, – продолжал мой арестант. – Видали мерзавца? Видали, как у него глаза шмыгают да стреляют по сторонам? Так же было и тогда, когда нас вместе судили. Ни разу на меня не взглянул.
У второго каторжника все кривились пересохшие губы, и глаза продолжали беспокойно бегать, но наконец он остановился взглядом на своем враге, проговорил: «Было бы на что смотреть» и с издевкой прищурился на его скованные руки. Тут мой каторжник совсем рассвирепел и рванулся вперед, но солдаты его удержали.
– Я ведь говорю вам, что он убил бы меня, если б мог, – сказал второй, и было видно, как он трясется от страха, а на губах у него выступили белые хлопья пены.
– Довольно разговаривать, – сказал сержант. – Зажечь факелы.
Один из солдат, несший вместо ружья корзину, опустился на колено и стал ее открывать, и тут мой арестант впервые огляделся и увидел меня. Я неподвижно стоял рядом с Джо, – он спустил меня на землю, еще когда мы только добрались до канавы. Поймав на себе взгляд каторжника, я умоляюще посмотрел на него и еле заметно развел руками и покачал головой. Я долго ждал этой минуты, чтобы попытаться уверить его, что я тут ни при чем. Я не мог бы сказать, понял ли он мое намерение; он только взглянул на меня как-то странно и тотчас отвернулся. Но если бы он смотрел на меня хоть целый час или целый день, лицо его не могло бы выразить более напряженного внимания.
Солдат, который нес корзину, скоро высек огонь, зажег несколько факелов и роздал их, оставив один себе. И до этого было почти темно, теперь же стало совсем темно, а потом тьма еще сгустилась. Прежде чем уйти с этого места, четыре солдата, став в кружок, дважды выстрелили в воздух. Вскоре в отдалении тоже зажглись факелы, одни – позади нас, другие – на дальнем берегу реки.
– Все в порядке, – сказал сержант. – Вперед, марш!
Мы прошли совсем немного, когда впереди три раза выстрелила пушка – так громко, что у меня словно что-то лопнуло в ушах.
– Это в твою честь, – сказал сержант моему каторжнику. – На барже уже известно, что тебя ведут. Не отставай, любезный. Сомкнись!
Их вели каждого под особым конвоем, поодаль друг от друга. Джо держал меня за руку, а в другой руке нес факел. Мистер Уопсл был бы не прочь воротиться домой, но Джо решил остаться до конца, и мы по-прежнему следовали за солдатами. Теперь под ногами у нас была твердая тропинка; она шла у самого края воды, кое-где отступая от нее в обход запруды с осклизлым шлюзом или с крошечной мельницей. Оглядываясь, я видел, как нас догоняют другие огоньки. С наших факелов капали на тропинку большие огненные кляксы, и я видел, как они дымятся и вспыхивают. А больше я ничего не видел, кроме черной тьмы. От смолистого пламени факелов воздух вокруг нас согревался, и это как будто нравилось нашим пленникам, с трудом ковылявшим каждый в своем кольце мушкетов. Мы не могли идти быстро, потому что оба они хромали и совсем обессилели; раза два-три нам даже пришлось остановиться, чтобы дать им передохнуть.
Так мы шли около часа, а потом увидели перед собой какое-то деревянное строение и пристань. Нас окликнул часовой, сержант ответил. Мы вошли. В доме пахло табаком и известкой, ярко пылал огонь, горела лампа, и была стойка для мушкетов, барабан и низкие деревянные нары, похожие на подставку от огромного катка для белья, где могли уместиться друг возле дружки не меньше десяти солдат. Лежавшие на них три-четыре солдата в шинелях не выказали особого интереса при нашем появлении: приподняв голову, они сонно посмотрели на нас и улеглись снова. Сержант с кем-то поговорил, записал что-то в книге, а потом того каторжника, которого я называю «другим», вывели под конвоем на пристань, чтобы первым отправить на баржу.
Мой каторжник больше ни разу не взглянул на меня. Пока мы были в доме, он стоял у очага, задумчиво глядя в огонь, или по очереди ставил ноги на решетку и задумчиво их разглядывал, словно жалея за то, что им так досталось в последние дни. Вдруг он повернулся к сержанту и сказал:
– Я хочу кое-что заявить касательно своего побега. Это для того, чтобы подозрение не пало на кого другого.
– Ты заявишь все, что тебе угодно, – сказал сержант, скрестив на груди руки и холодно глядя на него, – но не к чему это делать здесь. Тебе еще представится полная возможность и поговорить и послушать.
– Я знаю, только это статья особая. Человек не может жить без еды. Я по крайней мере не могу. Это я к тому говорю, что взял кое-какую снедь в той деревне, где церковь, вон что за болотами.
– Попросту говоря, украл, – сказал сержант.
– И сейчас скажу у кого. У кузнеца.
– Эге! – сказал сержант и уставился на Джо.
– Эге, Пип! – сказал Джо и уставился на меня.
– Еды было так, всякие остатки, и еще глоток спиртного, и паштет.
– Вы как, не заметили у себя дома пропажи паштета? – спросил сержант, наклоняясь к Джо.
– Жена хватилась его как раз перед вашим приходом. Ты ведь слышал, Пип?
– Вот как, – сказал мой арестант, хмуро подняв глаза на Джо и даже не взглянув в мою сторону, – это вы, значит, и будете кузнец? Ну, тогда не прогневайтесь, ваш паштет я съел.
– Да на здоровье… мне-то не жалко, – добавил Джо, вовремя вспомнив про миссис Джо. – В чем ты провинился, нам неизвестно, но, видит Бог, мы вовсе не хотим, чтобы ты из-за этого помер с голоду, бедный ты, несчастный человек. Верно, Пип?
Опять, как утром на болоте, в горле у каторжника что-то булькнуло, и он поворотился к нам спиной. Лодка тем временем вернулась, конвойные стояли наготове; мы вышли вслед за моим арестантом на пристань, сложенную из камня и грубо отесанных бревен, и видели, как его посадили в лодку, где на веслах сидели такие же каторжники, как он. При встрече с ним никто не проявил ни удивления, ни интереса, ни радости, ни сочувствия, никто не сказал ни слова, только чей-то голос в лодке рявкнул, точно на собак: «Давай греби!», и раздался мерный плеск весел. В свете факелов нам видна была плавучая тюрьма, черневшая не очень далеко от илистого берега, как проклятый Богом Ноев ковчег. Сдавленная тяжелыми балками, опутанная толстыми цепями якорей, баржа представлялась мне закованной в кандалы, подобно арестантам. Мы видели, как лодка подошла к борту и как моего каторжника подняли на баржу и он исчез. Тогда остатки факелов шипя полетели в воду и погасли, словно для него все навсегда было кончено.
Глава VI
Даже после того как обвинение в краже было столь неожиданно с меня снято, я ни минуты не помышлял о чистосердечном признании; однако мне хочется думать, что мною руководили и добрые чувства.
Когда миновала опасность, что мой проступок будет обнаружен, мысль о миссис Джо, сколько помнится, перестала меня смущать. Но Джо я любил – в те далекие дни, возможно, лишь за то, что он, добрая душа, не противился этому, – и уж тут мне не так-то легко было усыпить свою совесть. Еще долго (а в особенности, когда он хватился своего подпилка) меня мучило сознание, что надо рассказать Джо всю правду. И все же я этого не сделал – не сделал потому, что боялся показаться в его глазах хуже, чем был на самом деле. Страх, что я лишусь доверия Джо и отныне буду сидеть по вечерам у огня, устремив тоскливый взор на того, кто уже не будет мне товарищем и другом, накрепко сковал мне язык. Больное воображение твердило мне, что если я откроюсь Джо, то всякий раз, как он начнет теребить свои русые бакены, мне будет казаться, что он размышляет о моем прегрешении. Если я откроюсь Джо, то всякий раз, как он хотя бы мимоходом взглянет на поданные к столу остатки вчерашнего мяса или пудинга, мне будет казаться, что он думает, не побывал ли я в кладовой. Если я откроюсь Джо и когда-нибудь пиво покажется ему безвкусным или слишком густым, то я весь зальюсь краской от сознания, что он заподозрил в нем примесь дегтя. Короче говоря, я из трусости не сделал того, что заведомо надлежало сделать, так же как раньше из трусости сделал то, чего делать заведомо не надлежало. В то время я совсем не знал света и не подражал никому из многочисленных его обитателей, поступающих точно так же. Как истый философ-самородок, я нашел для себя этот путь без посторонней помощи.
Я стал клевать носом, как только мы отошли от плавучей тюрьмы, и Джо, заметив это, снова взял меня на закорки и нес до самого дома. Бедняга порядком измучился дорогой, ибо мистер Уопсл, который совсем выбился из сил, был в таком скверном настроении, что, будь двери церкви открыты, он, наверно, отлучил бы от нее всех участников нашего похода, начиная с меня и Джо. За отсутствием же такой возможности он упорно плюхался в грязь, да так часто, что если бы подобное поведение каралось смертью, то вещественных доказательств, обнаруженных на его брюках, когда он снял свой мокрый сюртук у огня в нашей кухне, с избытком хватило бы, чтобы отправить его на виселицу.
Я в это время стоял посреди кухни и шатался как пьяненький, потому что меня только что спустили на пол и потому что я успел крепко заснуть, а проснулся в теплой, светлой комнате, среди шума голосов. Когда я пришел в себя (чему способствовал чувствительный толчок между лопатками и ободряющее восклицание моей сестры: «Ох, до чего же несносный мальчишка!»), Джо только что кончил рассказ об удивительном признании каторжника, и все наперебой строили предположения насчет того, как он проник в кладовую. Мистер Памблчук, тщательно осмотрев наши владения, пришел к выводу, что он залез на крышу кузницы, оттуда – на крышу дома, а затем по трубе спустился в кухню на веревке, которую сплел из своих простынь, разрезав их на полосы. Мистер Памблчук говорил очень уверенно, а кроме того, мистер Памблчук разъезжал в собственной тележке, – и никому не уступал дороги, – а потому все согласились, что так оно и было.
Правда, мистер Уопсл, с раздражением усталого человека, громко выкрикнул: «Нет!», но поскольку у него не было своей теории и поскольку он был без сюртука, никто не стал его слушать; к тому же от заднего его фасада валил пар – он сушился, стоя спиной к огню, – а это отнюдь не внушало доверия.
Больше я ничего не слышал в тот вечер: сестра сочла мой сонный вид оскорбительным для гостей и, схватив меня за шиворот, препроводила в постель так властно, что могло показаться, будто на мне надето пятьдесят башмаков и все они разом громыхают о края ступенек.
Описанное мною выше состояние духа возникло еще до того, как я наутро встал с постели, и не покидало меня даже тогда, когда причина его была уже предана забвению и о ней перестали упоминать, кроме как в самых исключительных случаях.
Глава VII
В ту пору, когда я стоял на кладбище, разглядывая родительские могилы, моих познаний едва хватало на то, чтобы разобрать надписи на каменных плитах. Даже нехитрый их смысл я понимал не вполне правильно, считая, например, что в словах «супруга вышереченного» заключается почтительный намек на переселение моего отца в горнюю обитель; и если бы о ком-нибудь из моих умерших родственников было сказано «нижереченный», я, несомненно, составил бы себе о покойнике самое нелестное мнение. Не отличалось ясностью и мое восприятие догматов, изложенных в катехизисе; так, например, я прекрасно помню, что, обещая «следовать оным путем во все дни жизни моей», я воображал, будто должен всегда ходить по деревне одной и той же дорогой и, боже упаси, не сворачивать с нее ни вправо у мельницы, ни влево у мастерской колесника.
Со временем мне предстояло поступить в подмастерья к Джо, пока же я еще не дорос до этой чести, миссис Джо считала, что со мной нечего миндальничать. Поэтому я и в кузнице помогал, и если кому-нибудь из соседей потребуется, бывало, мальчик гонять с огорода птиц или выбирать из земли камни, эти почетные дела поручались мне. Однако, дабы не уронить достоинства нашего семейства в глазах соседей, на полке над кухонным очагом была водружена копилка, в которую, как о том было широко оповещено, опускались мои заработки. Я готов предположить, что они в конечном счете предназначались на погашение государственного долга; во всяком случае, надежды самому воспользоваться этими сокровищами у меня не было.
Двоюродная бабушка мистера Уопсла держала у нас в деревне вечернюю школу; другими словами, эта старушенция, располагавшая весьма ограниченными средствами и неограниченным количеством всяких недугов, ежедневно от шести до семи часов вечера отсыпалась в присутствии десятка юнцов, с которых брала по два пенса в неделю за возможность любоваться сим поучительным зрелищем. Она снимала небольшой домик, в верхней комнате которого жил мистер Уопсл, и нам внизу бывало слышно, как он изливал свои чувства в возвышенных и грозных монологах, временами топая ногою в потолок. Считалось, что раз в три месяца мистер Уопсл устраивал школьникам экзамен. На самом же деле все сводилось к тому, что мистер Уопсл, отвернув обшлага и взъерошив волосы, декламировал нам монолог Марка Антония над трупом Цезаря. Затем следовала ода Коллинза[1] «Страсти», причем больше всего мистер Уопсл мне нравился в роли Мщения, когда бросал он оземь меч кровавый свой и, грозным взором всех испепеляя, войну, и мор, и горе возвещал. Лишь много позже, когда я на опыте узнал, что такое страсти, я сравнил их с впечатлениями от Коллинза и Уопсла и должен сказать – сравнение оказалось не в пользу этих джентльменов.
Кроме упомянутого просветительного заведения, двоюродная бабушка мистера Уопсла держала (в той же комнате) мелочную лавочку. Она никогда не знала, какой товар есть в лавке и что сколько стоит; но в одном из ящиков комода хранилась засаленная тетрадка, служившая прейскурантом, и с помощью этого оракула Бидди производила все торговые операции. Бидди была внучкой двоюродной бабушки мистера Уопсла. Кем она приходилась мистеру Уопслу, я не берусь определить, – эта задача мне не по разуму. Она была сирота, как и я, и, подобно мне, воспитана своими руками. Самым примечательным в ней казались мне ее конечности, ибо волосы ее всегда взывали о гребне, руки – о мыле, а башмаки – о дратве и новых задниках. Впрочем, это описание годится только для будних дней. По воскресеньям Бидди отправлялась в церковь преображенная.
Главным образом собственными силами, и уж скорее с помощью Бидди, чем двоюродной бабушки мистера Уопсла, я продрался сквозь алфавит, как сквозь заросли терновника, накалываясь и обдираясь о каждую букву. Потом я попал в лапы к разбойникам – девяти цифрам, которые каждый вечер, казалось, меняли свое обличье нарочно для того, чтобы я не узнал их. Но в конце концов я с грехом пополам начал читать, писать и считать, правда – в самых скромных пределах.
Однажды вечером я сидел в кухне у огня и, склонившись над грифельной доской, прилежно составлял письмо к Джо. С нашей памятной гонки по болотам прошел, очевидно, целый год, – снова стояла зима и на дворе морозило. Прислонив к решетке очага букварь для справок и промучившись часа полтора, я изобразил печатными буквами следующее послание: «мИлы ДЖО жылаю теБе здаровя ДЖО я Скоро буду теБя учит и Мы будим так раДы ДЖО а када я буду у ТИбя пдмастерем тото будиТ рас чуДесна Остаюсь слюбовю ПиП».
Никакой необходимости сноситься с Джо письменно у меня не было, потому что он сидел рядом со мной и мы были одни в кухне. Но я передал ему свое послание из рук в руки, и он принял его как некое чудо премудрости.
– Ай да Пип! – воскликнул Джо, широко раскрыв свои голубые глаза. – Ты, дружок, стал у нас совсем ученый, верно я говорю?
– Нет, куда мне! – вздохнул я, с сомнением поглядывая на доску; теперь, когда она была в руках у Джо, я увидел, что строчки получились совсем кривые.
– Да у тебя тут есть Д, – удивился Джо, – и Ж, и О, да какие красивые. Вот и выходит, Пип, Д-Ж-О, ДЖО.
Я не помнил, чтобы Джо хоть раз прочел что-нибудь, кроме этого короткого слова, а в прошлое воскресенье в церкви, нечаянно перевернув молитвенник вверх ногами, я заметил, что Джо, сидевший со мной рядом, не испытал от этого ни малейшего неудобства. Решив тут же выяснить, с самого ли начала мне придется начинать, когда я буду давать Джо уроки, я сказал:
– А ты прочти дальше, Джо.
– Дальше, Пип? – сказал Джо, внимательно вглядываясь в мое послание. – Раз, два, три. Да тут, Пип, целых три Д, и Ж, и О, и Д-Ж-О – Джо!
Я нагнулся к Джо и, водя пальцем по доске, прочел ему письмо с начала до конца.
– Поди ж ты! – сказал Джо, когда я кончил. – Ученый ты у нас, право ученый.
– Как ты напишешь «Гарджери», Джо? – спросил я скромно-покровительственным тоном.
– А я его не буду писать, – сказал Джо.
– Ну а ты представь себе, что пишешь.
– Этого никак не представишь, – сказал Джо. – А я, между прочим, чтение тоже очень уважаю.
– Разве, Джо?
– Очень уважаю. Дай мне хорошую книжку либо газету хорошую и посади у огонька, так мне больше ничего не нужно. – Он задумчиво потер себе колено и продолжал: – А уж как увидишь Д, и Ж, и О, да скажешь: «Вот оно Д-Ж-О, Джо», – тогда читать и вовсе интересно.
Из этого я заключил, что образование Джо, так же как применение силы пара, находится еще в зачаточном состоянии.
– А ты разве не ходил в школу, когда был маленький, Джо?
– Нет, Пип.
– А почему ты не ходил в школу, когда был маленький?
– Почему? – переспросил Джо и, как всегда, когда впадал в задумчивость, стал медленно помешивать угли, просунув кочергу между прутьев решетки. – А вот послушай. Мой отец, Пип, был любитель выпить, проще сказать – пил горькую, а когда, бывало, напьется, то бил мою мать безо всякой жалости. Лучше бы он так молотом по наковальне бил, – так нет же, все ей доставалось, все ей, да еще мне. Ты, Пип, слушаешь меня, понимаешь, что я говорю?
– Да, Джо.
– По этой самой причине мы с матерью несколько раз от отца убегали. Вот мать наймется где-нибудь на работу и скажет, бывало: «Джо, теперь ты с Божьей помощью и учиться пойдешь», и отдаст меня в школу. Только отец у меня был предобрый человек, и никак ему было невозможно жить без нас. Вот он узнает, где мы находимся, да и соберет народ, да такой шум поднимет перед домом, что хозяевам невтерпеж станет, они и говорят: «Уходите вы подобру-поздорову» – и выгонят нас на улицу. Ну, он тогда ведет нас домой и бьет пуще прежнего. И понимаешь, Пип, – сказал Джо, переставая мешать угли и устремив на меня задумчивый взгляд, – ученью моему это здорово мешало.
– Еще бы, бедный Джо!
– Только ты помни, Пип, – сказал Джо, строго постучав кочергой по решетке, – каждому надо воздавать по справедливости, чтобы никому обидно не было, и я так скажу, что отец мой был предобрый человек, понял ты меня?
Я не понял, но промолчал.
– То-то и есть, – продолжал Джо. – Однако ж кому-то надо варить похлебку, не то похлебка не сварится, понятно, Пип?
Это я понял и так и сказал.
– По этой самой причине отец слова против того не вымолвил, чтобы я шел работать; я и пошел работать, по той же части, что и он, – только он-то ни по какой части ничего не делал, – и работал я на совесть, это ты можешь мне поверить, Пип. Скоро я уже мог его содержать и содержал до самых тех пор, пока его не хватил покалиптический удар. И было у меня такое желание, чтобы у него на могиле значилось, что хотя не без грехов он свой прожил век, читатель, помни, он был предобрый человек.
Джо произнес это двустишие так выразительно и с такой явной гордостью, что я спросил, уж не сам ли он это сочинил.
– Сам, – ответил Джо. – Единым духом сочинил. Точно подкову одним ударом выковал. Со мной сроду такого не бывало – я даже себе не поверил, – сказать по правде, просто диву дался, как это у меня вышло. Так вот, я и говорю, Пип, было у меня такое желание, чтобы это вырезали у него на могильной плите; но стихи денег стоят, как их ни вырезай – крупными буквами или мелкими, – и дело не выгорело. Похороны и без того недешево обошлись, а те деньги, что остались, нужны были для матери. У нее здоровье сильно сдало, совсем была никуда. Она, бедная, ненамного его пережила, пришло время и ее косточкам успокоиться.
Голубые глаза Джо подернулись влагой, и он потер сначала один глаз, потом другой самым неподходящим для этого дела предметом – круглой шишкой на рукоятке кочерги.
– Остался я тогда один-одинешенек, – сказал Джо. – А потом познакомился с твоей сестрой. Имей в виду, Пип, – Джо посмотрел на меня решительно и твердо, словно знал, что я с ним не соглашусь, – твоя сестра – видная женщина.
Я невольно отвел глаза и с сомнением покосился на огонь.
– Что бы там люди ни говорили, Пип, будь то среди родных или, к примеру сказать, в деревне, но твоя сестра, – и Джо закончил, отбивая каждый слог кочергой по решетке, – вид-на-я женщина.
Не в силах придумать лучшего ответа, я сказал только:
– Я рад, что ты так считаешь, Джо.
– Вот и я тоже, – подхватил Джо. – Я тоже рад, что я так считаю, Пип. А что немножко красна да немножко кое-где костей многовато, так неужели мне на это обижаться можно?
Я глубокомысленно заметил, что если уж он на это не обижается, то другим и подавно нечего.
– Вот-вот, – подтвердил Джо. – Так оно и есть. Ты правильно сказал, дружок. Когда я познакомился с твоей сестрой, здесь только и разговоров было о том, как она тебя воспитывает своими руками. Все ее за это хвалили, и я тоже. А уж ты, – продолжал Джо с таким выражением, будто увидел что-то в высшей степени противное, – кабы ты мог знать, до чего ты был маленький да плохонький, ты бы и смотреть на себя не захотел.
Не слишком довольный таким отзывом, я сказал:
– Ну что говорить обо мне, Джо.
– А как раз о тебе и шел разговор, Пип, – возразил Джо с простодушной лаской. – Когда я предложил твоей сестре, чтобы, значит, нам с ней жить и чтобы обвенчаться, как только она надумает переехать в кузницу, я ей тут же сказал: «И ребеночка приносите. Бедный ребеночек, говорю, Господь с ним, для него в кузнице тоже место найдется».
Я расплакался и, бросившись Джо на шею, стал просить у него прощенья, а он выпустил из рук кочергу, чтобы обнять меня, и сказал:
– Не плачь, дружок! Мы же с тобой друзья, верно, Пип?
Когда я немного успокоился, Джо снова заговорил:
– Вот такие-то дела, Пип. Так оно и обстоит. И когда ты начнешь меня обучать, Пип (только я тебе вперед говорю, я к ученью тупой, очень даже тупой), пусть миссис Джо лучше не знает, что мы с тобой затеяли. Надо будет это, как бы сказать, втихомолку устроить. А почему втихомолку? Сейчас я тебе скажу, Пип.
Он снова взял в руки кочергу, без чего, вероятно, не мог бы продвинуться ни на шаг в своем объяснении.
– Твоя сестра, видишь ли, адмиральша.
– Адмиральша, Джо?
Я был поражен, ибо у меня мелькнула смутная мысль (и, должен сознаться, надежда), что Джо развелся с нею и выдал ее замуж за лорда адмиралтейства.
– Адмиральша, – повторил Джо. – То есть, я имею в виду, что она любит адмиральствовать над тобой да надо мною.
– А-а.
– И ей не по нраву, чтобы в доме были ученые, – продолжал Джо. – А уж если бы я чему-нибудь выучился, это ей особенно пришлось бы не по нраву, она бы стала бояться, а ну, как я вздумаю бунтовать. Вроде как мятежники, понимаешь?
Я хотел ответить вопросом и уже начал было: «А почему…», но Джо перебил меня:
– Погоди. Я знаю, что ты хочешь сказать, Пип, но ты погоди. Слов нет, иногда она здорово нами помыкает. Слов нет, она и на тумаки не скупится, и на голову нам рада сесть. Уж когда твоя сестра начнет лютовать, – Джо понизил голос до шепота и оглянулся на дверь, – тут, кто не захочет соврать, всякий скажет, что она сущий Дракон.
Джо произнес это слово так, будто оно начинается по крайней мере с трех заглавных Д.






