Всегда, всегда? (сборник) Рубина Дина
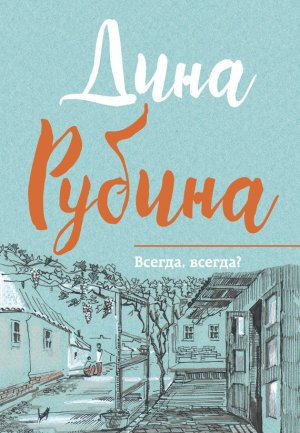
– Но у него же работа, какие-то дела, друзья…
– Какие друзья?! – простонала Галина Николаевна. – Послать к черту всех друзей, когда на считаные дни приехала любимая женщина! А он в первый же день потащил вас на какой-то идиотский день рождения, к каким-то чужим людям… Бог мой, а когда же вдвоем побыть, поговорить, когда друг другу в глаза поглядеть!
– Оставьте, Галина Николаевна, – устало сказала Лина. – Это – жизнь, а вы все роли в каких-то пьесах вспоминаете… Он не герой-любовник, он обыкновенный человек, у него масса забот и обязательств…
– Перед всеми, только не перед вами! Бедная девочка… Был бы жив Володя… – Голос ее осекся, наступила тишина, и через мгновение она прокашлялась и высморкалась.
Нюре надо было пройти на балкон, белье развесить, но проходить пришлось бы через спальню, а она не решалась появляться там сейчас. Так и сидела на краешке ванны, бессмысленно глядя, как капают из крана нерешительные капли.
«Конечно, у их папаша – главбух… Они свому Сережке дочку министра хотят, – думала Нюра, и сердце ее заходилось от возмущения и острой жалости к своему ребенку – худенькому, кудрявому, глупому и беззащитному. – Им моя Валька неподходящая… Ниче-о-о… Пусть им ее живот глаза колет, пусть на свово внука по соседству любуются… Не дам аборт делать, не дам! Родим по закону и фамилию ихнюю напишем, и будут каждый месяц как по расписанию платить, сволота важная!»
– Да, – наконец тихо проговорила Лина. – Да, я чувствую, что надо нам объясниться… К чему тогда эти письма, мучительные телефонные разговоры, просьбы приехать… Я поеду к нему сегодня и…
– Вы поедете! Поедете на очередное унижение. Он даже не позвонил, а вы собираетесь ехать… Не пущу!
Нюра воспользовалась паузой, подхватила таз с бельем и открыла дверь спальни.
– Галинниколавна, – сказала она, – вот вроде все. Развешу, и обедать можно.
– Ну прекрасно, – кивнула Галина Николаевна. – Спасибо, Нюра.
Кормила Галина Николаевна всегда отменно. Первого наливала глубокую тарелку до краев, над кастрюлей не замешкивалась глубокомысленно, как иные жены народных и заслуженных, а клала щедрый кусок мяса. И второго – от пуза, да в придачу на стол и селедочку подавала, и грибков. И печеное всегда у нее водилось. А главное – ставила на стол перед Нюрой большой фужер синего стекла и наливала – до краев! Нюра и за обедом болтала не переставая:
– Галинниколавна, я ведь кухню немецкую взяла, знаете? У композитора – носатый такой, знаменитый. Ну, знаете, его песни эта поет… патлатая, как ее…
– Дорого отдали?
– Да нет, даром, считай… Они финскую кухню взяли, а я, значит, за эту вцепилась. Красивая – десять прыдметов. Яшичек красный, яшичек серый.
Лина почти не ела. Она сидела, напряженно прислушиваясь к телефону в спальне, и, хоть слушала Нюру и кивала, взгляд ее теплых карих глаз был рассеян.
– Смотрите, тетя Галя, – негромко бросила она, кивая на газету, лежащую сбоку от нее, на подоконнике. – Государственную премию получил… – и назвала фамилию известного писателя.
– Ну что ж, он заслужил, – откликнулась Галина Николаевна. – Вы знаете, Линочка, они ведь с Володей дружили в молодости…
– Да, вы рассказывали.
– Но потом он оказался замешанным в одной некрасивой истории, а Володя – вы же знаете его категоричность – был большой специалист по порче отношений. Ну и разошлись… – Она помолчала, вспоминая. – Мы жили тогда у Никитских Ворот, в крошечной комнатушке. Володя писал свою первую пьесу, денег не было ни гроша. Боже, что за время было чудесное, голодное, счастливое! Володя, помню, ходит, ходит по комнатушке этой, попишет немного и снова ходит. Потом вдруг бросится на диван, руки за голову заломит и восклицает трагически: «Почему я так много работаю?! Ну почему я так много работаю?! Потому что мне лень остановиться».
Лина, тихо улыбаясь, не сводя глаз, смотрела на Галину Николаевну, и Нюра подумала, что этих двух людей связывает нечто большее, чем родственные отношения.
– Слышь, – неожиданно для себя сказала Нюра Лине. – А давай мы замуж тебя выдадим.
Лина засмеялась и сказала:
– Давайте.
– Я женихов много знаю! – горячо и всерьез заговорила Нюра. – Я ж людям убираю… Вот Матвейлеонидыча, академика, сын недавно разошелся. Хороший жених. Красивый… только немного лысый.
– Нюра, оставьте, – сказала Галина Николаевна, хмыкнув.
– Нет-нет! – возразила Лина. – Очень интересно! Продолжайте, Нюра, значит – красивый и лысый… А сам он тоже академик? Или еще только профессор?
Нюра чувствовала подвох, хоть Лина и смотрела на нее ясными глазами, без тени улыбки, но остановиться уже не могла.
– Не, он кандидат… Леонид Матвеич, Леня, значить… Хороший, очень умный, добрый.
– Так, Леня. А чего это он с женой разошелся – умный, добрый?
– А понимаешь, – доверительно проговорила Нюра, несколько даже понизив голос. – Она брылась. А он не знал, – и торжественным взглядом окинула оторопевших Галину Николаевну и Лину.
– То есть как – брилась? Бороду, что ли? – в замешательстве спросила Галина Николаевна.
– Не, она вся волосата была. И ноги, и руки, и спина, и…
– Ну будет, Нюра, за столом-то…
– До самой свадьбы брылась. А наутро – это мне мать его, Елизавета Прохоровна, рассказывала – наутро он выходит из комнаты, убитый как есть, смурый-смурый и говорит: «Мам… ты мне дай еще одно одеяло… Она колется… Не могу с ей спать». Мать так и села: как – колется? «Вот так, – говорит, – как обезьянка…»
Лина как-то странно закрутила головой, замычала и выскочила из кухни. Вскоре из кабинета послышался ее громкий и серьезный голос:
– Не над чем смеяться, между прочим. Бедняги оба…
Минут через пятнадцать она вышла из кабинета и показалась в дверях кухни. Нюра как взглянула, так и оставила полную ложку в тарелке.
Лина переоделась, видно, собралась уходить. Не было блеклой голубой косынки, просторного хозяйского халатика. Густые клубы волос цвета тяжелого старого серебра вились вокруг головы, лицо было бледно, припудрено, губы тронуты темной помадой. И вся она, плотно схваченная тонким черным джемпером, черными брюками, черным велюровым пиджачком, в котором плечи ее казались надменными, строгими, хрупкими, была похожа на старинное украшение из благородного серебра в черном бархатном футляре.
– Ну, я пошла, – сказала она.
Галина Николаевна всплеснула руками и воскликнула:
– Лина! Вы все-таки собрались? После всего! Вы с ума сошли, я не пущу вас!
Лина молча надевала сапоги – остроносые, на высоком каблуке, не торопясь заправляя в них брюки.
– Я… я вас любить не буду!.. – беспомощно, по-детски закончила Галина Николаевна.
Лина усмехнулась невесело:
– Будете, тетя Галя. Куда вы денетесь…
Она подошла к Галине Николаевне – высокая, на каблуках, тонкая, положила обе руки на ее старческие плечи и негромко проговорила своим голосом чуть расстроенной виолончели:
– Уж небо осенью дышало, тетя Галя, уж меньше становился день… – и вдруг сказала длинную фразу на каком-то чужом языке…
– Это кошмар!.. Вы, конечно, останетесь там ночевать.
– Ну, я надеюсь, меня не выгонят.
– Возьмите на всякий случай деньги на такси. Вдруг придется возвращаться вечером одной.
– Вы полагаете, меня все-таки могут выгнать? – весело спросила она.
– Ох, Лина, Лина…
Лина надела пальто – тоже черное, обмотала шею черно-красным полосатым шарфом.
– Нюра! – сказала она из прихожей. – Прощайте. Спасибо вам.
– Мне-то за что? – откликнулась Нюра, немного оторопелая. – Вам дай бог…
Уже в дверях Лина неожиданно повернулась и сказала, придерживая дверь:
– Я вот думаю – а как она спину брила? А, Галина Николаевна? Вот где трагедия!..
– Идите наконец, ненормальная! – махнула рукой расстроенная Галина Николаевна.
Дверь захлопнулась. Слышно было, как на лестничной клетке простучали по кафельному полу Линины каблучки, и все стихло.
Галина Николаевна приплелась на кухню, села на табурет напротив Нюры – та допивала чай – и тихо сказала себе:
– Хоть бы она десятку нашла в кармане… Ведь не заметит, такая рассеянная…
Нюра вздохнула, зачерпнула вишневое варенье и опустила ложку в чай. Она опять подумала о своей Вальке.
– Непутевая? – сочувственно спросила она Галину Николаевну, кивая на дверь.
– Кто? – Та смотрела на Нюру, не понимая.
– Ну… племяшка… или кто она вам?
– Нюра! – удивленно воскликнула Галина Николаевна. – Вы что? Это же Лина! Вы не узнали? Вы же так любите на ее портрет смотреть…
Нюра тихо ахнула и откинулась на стуле.
– Вот те на… – медленно проговорила она. – А я-то весь день думала – где ее видела? Не признала…
Теперь ей уже было непонятно: как же, в самом деле, она не узнала Лину? Может быть, потому, что на портрете та смотрит вбок, ускользающим взглядом, а живая, настоящая заглядывает прямо в глаза?
Нюра пожала плечами и повторила:
– В косыночке этой… веснушки… така молоденька… Не признала.
– Молоденька… – с горечью сказала Галина Николаевна. – Ей уже под тридцать, Нюра. У нее уже Андрюшка на будущий год в школу пойдет… С мужем рассталась давно… – И еще раз тихо добавила: – Под тридцать… А счастья не было и нет.
– Ишь ты… – вздохнула Нюра понимающе и тронула Линину книгу на подоконнике – черно-белую. – Не по-русски чего-то написано.
– По-английски. Это Торнтон Уайлдер, писатель такой…
– Ишь ты, – еще раз удивилась Нюра, – так прямо и шпарит?
– Лина преподает язык в институте.
– Вот те и девочка, – подытожила Нюра… – Ладно, хорошо у вас, однако идти пора… Позвоню только кое-кому… Можно, Галинниколавна?
– Ну конечно, Нюра, – рассеянно кивнула та, продолжая думать о своем. Представляла, как Лина едет сейчас в метро – в черном пальто, черной шляпке, шарф черно-красный вокруг шеи обмотан, вокруг шеи… А может, вспоминала лицо своего молодого Володи, с рассыпанными на лбу темными волосами, с ухмылкой веселой и этим: «Почему филь-де-перс? Почему не филь-де-грек?»
Нюра порылась в своей хозяйственной сумке, достала красную записную книжку, всю исписанную – ой-ой – какими-то адресами, и уже на пороге спальни обернулась вдруг и спросила:
– Галинниколавна, а портретик-то кто с ее делал? С Лины-то?
– Брат. Он художник.
– А-а… – протянула Нюра. – Ну, тогда понятно… От брата не скроешься. Брат родной – он все видит. Ему улыбайся не улыбайся.
– Да, – сказала Галина Николаевна. – Очень талантливый художник, но тоже, знаете, Нюра, свои капризы, свой характер. Эти таланты обычно такие тяжелые люди.
– Эт мы знаем! – заверила ее Нюра, навидавшаяся на своем веку «талантов».
– Вот Лина и тянет двоих своих мужиков – брата и Андрюшку. Да еще диссертация на шее, никак закончить не может… – И спохватилась: – Ну, звоните, Нюра, звоните!
Через минуту Нюра уже кричала в трубку своим смешным тонюсеньким голоском:
– Софьмарковна, вы обои-то возьмете? На Войковской… Краси-ивыя обои-то… Красные, с золотым… Ой, краси-ивыя!
Вечером, сидя у телевизора, Галина Николаевна услышала, как отпирают входную дверь. Она устремилась в прихожую. Там стояла Лина – опаленная морозцем, припорошенная снегом, как-то странно, безудержно, болезненно веселая.
– Лина?.. – растерянно пробормотала Галина Николаевна и умолкла.
– Он на тренировке, – громко, внятно, как глухонемой, объяснила ей Лина, не раздеваясь. Словно она пришла сюда только затем, чтобы объявить это.
– На какой тренировке? – тихо спросила Галина Николаевна.
– Ка-ра-те! Это сейчас очень модно. – Она засмеялась. – Вот записка: «Я на тренировке. Заночую у Афанасия. Завтра звякну, не скучай, целую». – Ее тонкая рука судорожным движением сильных длинных пальцев смяла записку и сунула в карман пальто.
– У кого? – зачем-то спросила Галина Николаевна, хотя ей было абсолютно все равно, где он будет ночевать.
– У Афанасия, – охотно, живо объяснила Лина. – Тренировка кончается поздно, в одиннадцать, а от Афанасия ближе утром на работу. Точка.
Она заплакала, опустилась на банкетку в прихожей и стала медленно разматывать шарф.
Галина Николаевна бросилась на кухню, схватила чашку, накапала в нее валерьянку.
– Линочка, детка, выпейте… – Рука, держащая чашку, дрожала.
Лина опрокинула жидкость в рот движением, каким Нюра опрокидывала содержимое фужера, и, вынув из кармана десятку, сказала:
– С чего это вы взялись содержать меня, гражданка Монте-Кристо? Я и сама богатая женщина. У меня, если хотите знать, до отъезда еще четвертак остался, – она подняла на Галину Николаевну заплаканные глаза и улыбнулась.
Галина Николаевна опустилась рядом с ней на банкетку, хотела сказать, что все перемелется и должно же, в конце концов, все у Лины образоваться, но проговорила упавшим голосом:
– Лина, Лина… Вот вы уедете в среду… и опять – такая тоска…
В Мытищах Нюра вышла из вагона электрички, подхватила хозяйственную сумку, отягощенную продуктами, и медленно пошла по знакомой дороге к автобусной остановке.
На углу, в световой трапеции фонаря, моросил мелкий суетливый снежок.
Почему-то именно здесь, почти дома, возле длинного серого забора, Нюре всегда казалось, что вот она свалится сейчас прямо на дороге, свалится, раздавленная грузом целодневной усталости, и останется лежать в блаженном безразличии к проезжающим машинам, к клиентам, записанным на завтра, к собственным детям – Коле, Вальке…
Она глубоко вздохнула, крепче ухватилась за ручки тяжеленной хозяйственной сумки и подумала: «Ниче-о, может, все добром еще кончится. Чего это я вскинулась, не узнав толком? Может, они по-людски все захотят… Ниче-о, Валька-Валек, ниче-о…»
На фонарном столбе сидела лохматая носатая ворона и над чем-то мрачно хохотала. Ворона была похожа на одного известного композитора, у которого Нюра убирала регулярно через среду.
– Сколько вы заплатили Нюре? По таксе? – спросила Лина.
– Добавила рубль, – сказала Галина Николаевна, – она сегодня хорошо поработала.
Они пили чай на кухне. Лина, в голубой косынке, в хозяйском халатике, сидела на кушетке, уткнувшись подбородком в приподнятые колени, и медленно листала подсунутый Галиной Николаевной старый журнал мод.
– А у нас сейчас такая благословенная, такая ясная осень, – мечтательно проговорила Лина, отрываясь от картинки с казенными женщинами. – Небо – синий омут, такое гордое, высокомерное, ни к чему отношения не имеет… Платаны еще не облетели… – И потом тряхнула головой и сказала, виновато улыбаясь: – Вообще-то у них и в самом деле строго с этими тренировками. Говорят, если пропустить одну, то исключают из секции.
Галина Николаевна вскочила, нервно заходила по кухне, говоря, что Лина неисправима, что она погубит, растопчет свою молодость и что она должна поставить в этой истории красивую точку.
А кутерьма снежинок за окном становилась все сумбурней. Сухие белые крошки снега бились о стекло настойчиво и исступленно, словно хотели ворваться в дом, вмешаться, внести ясность… Может, знали что-то такое, что неведомо было людям. Или наоборот – не знали ничего, а просто безудержно и смятенно хотели жить, жить, не загадывая наперед о своей судьбе, не ведая ее.
1983
Яблоки из сада Шлицбутера
В те годы я часто летала в Москву.
Почему-то мне было необходимо глотнуть керосиновых вихрей Домодедова, домчаться на экспрессе в город, представлявшийся мне тогда центром мироздания, и с неделю примерно заниматься чепухой: слоняться по редакциям, заскочить раза два в какой-нибудь не лучший театр на случайный спектакль, вечерами околачиваться в прокуренном Доме литераторов и напоследок истечь потом в давильне ГУМа, выполняя заказы друзей и соседей… Словом, зачем-то вычеркнуть неделю из своей тихой и толковой жизни.
Перед одним таким сумасшедшим набегом на Москву, когда весна переполнила мой южный город страстью рвущихся почек, когда не стало вдруг сил на ежедневное проживание в моей убогой келье времен первой оттепели и я срочно взяла билет на послезавтра, – перед поездкой позвонил мне знакомый литератор, парень свойский и приятный.
– Ты, говорят, в Москву летишь? – спросил он без акцента. Он и писал на русском языке, но странное дело: на бумаге узбекский акцент оживал и озорно витал над утомительно правильными фразами.
– Лечу! – крикнула я в трубку, вся уже устремленная в бестолковый гул Домодедова, в жадную радость ночных московских разговоров.
– Не в службу, а в дружбу, а… – сказал он. – Занеси мой рассказ в один журнал. А?
– Делов-то, конечно, занесу… – В те годы я охотно бралась выполнять любые поручения, сил было немерено. – Что за журнал?
– А знаешь, оказывается, есть журнал на еврейском языке. Хочу им один свой рассказ предложить.
От неожиданности я замялась.
– Понимаешь… – торопливо заполнял неловкую паузу мой знакомый, – их должно заинтересовать… Рассказ – не буду кокетничать – гениальный. На еврейскую тему… – И, поскольку недоуменная пауза на моем конце провода все длилась, он пояснил: – Это про нашего соседа, сапожника, дядю Мишу. Я ведь в махалле вырос, у нас там кто только не жил. Сосед, дядя Миша, смешной такой мужик, еврей… Их должно заинтересовать. Это на тему дружбы народов. Сейчас, сама знаешь, придают большое значение… интернационализм, то-се…
– Понятно, – сказала я наконец. – Но разве журнал выходит не на языке идиш?
– Переведут! – вдохновенно заверил он. – Это в их интересах! Там такой махровый интернационализм!.. Переведут. Скажешь, расходы за мой счет.
– Ладно, – сказала я и, не удержавшись, осторожно добавила: – Неожиданная, признаться, сторона твоего творчества… Чего это ты?
– Захотелось, – доверчиво объяснил он. Парнем он был бесхитростным.
Я прочла этот рассказ в самолете. Отчасти из-за любопытства, отчасти из-за того, что забыла прихватить какое-нибудь чтиво, а мне во время полета необходимо отвлекаться. Дело в том, что обычно в середине пути, где-нибудь над Аральским морем или пустыней Каракумы, когда бортпроводница убирает поднос с едва укушенным огурцом желчного цвета, а дремота морит заложника Аэрофлота и мотает его бедную голову по продуманно неприютной спинке кресла, в этот самый момент одна дикая мысль с наивной простотой и шизофренической ясностью посещает меня. Как это, в сущности, странно, думаю я, непостижимо… Так высоко… Я, еще земная до земной дрожи в коленях, до земной тошноты в груди, – как я смею появляться здесь до срока и глядеть в круглое оконце живыми чуждыми глазами на этот слепящий покой? Что мне нужно? Земной пустяк: переместиться как можно быстрее из одного края страны в другой. Зачем? За земными пустяками… Как же я смею, думаю я, греметь, сотрясать, рвать в клочья тупым земным орудием эту юдоль другой моей жизни? Как смею я так нагло забегать вперед и срывать глупой шкодливой рукой это покрывало?
…Словом, в самолет я беру обычно хороший детектив. А в тот раз, забыв дома книгу, волей-неволей потянула из сумки красную папку с рассказом ташкентского прозаика и довольно быстро прочла его. Этот рассказ «на еврейскую тему» оставлял довольно живое впечатление. Написан был он в форме монолога. Сапожник-еврей забегает на минутку к своему соседу, узбеку. Несколько фраз на бытовые темы, и – слово за слово – сапожник вспоминает всю свою жизнь, трагикомичную, как это водится у подобных персонажей, и делится с другом-соседом своими бедами, в частности такой тяжкой бедой, как отъезд беспутного сына в Израиль.
На этом месте я поняла, что с рассказом все будет в порядке, его напечатают. Я аккуратно завязала тесемочки на красной папке, спрятала ее в сумку и наклонилась к иллюминатору. Самолет, содрогаясь, висел над глазурованной равниной облаков, выпирающей там и тут слепящие под солнцем сахарные головы. Это хорошо, подумала я машинально, это надо запомнить – сахарные головы облаков…
Да, я не сомневалась, что рассказ моего знакомого опубликуют, и именно в еврейском журнале.
Любопытное то было время: изображать евреев в текущей литературе считалось не то чтобы запретным, но нежелательным, а лучше сказать, не совсем приличным. Если сравнение перевести в плоскость кожно-венерологическую (а оно почему-то просится именно в эту плоскость), то так примерно: не сифилис, нет, но неприятный некий грибок.
Во всяком случае, в одном популярном журнале как раз в эти годы целомудренный редакторский карандаш переправил в моем рассказе балбеса Семку Бухмана на балбеса Петьку Сидорова.
По врожденной дотошности некоторое время я пыталась выяснить мотивы национального перерождения героя и решила, что объяснить это можно всяко: например, попыткой редактора заверить читателей, что Бухманы в нашей местности не водятся; а может, попыткой спасти репутацию автора, которого кто-то из читателей мог незаслуженно заподозрить в симпатиях к Бухману, хоть и балбесу. Наконец, это можно было расценить как намек: мол, не хватало Бухману быть ко всему еще и балбесом.
В другом рассказе редакторская рука, не дрогнув, вычеркнула имя Лазарь, тем самым отказав персонажу в самом факте существования. Лазарь приказал долго жить, зато в мое гражданское мировоззрение влилась дополнительная струя иронии.
И только в одной ситуации герою позволялось быть евреем: когда он клеймил тех предателей и подлецов, которые, бросив Родину, уезжают в Израиль. Тут у героя открывались безбрежные возможности для монологов, диалогов и эпилогов, тут он узлом завязывался, чтобы доказать свою преданность отчизне, свою ненависть к изменникам и свое заветное желание как можно меньше самому быть евреем, и если Родина позволит, то и вовсе отвести от себя эту неприятность.
Словом, ту эпоху уже назвали эпохой застоя, и я, чувственно воспринимая мир, представляю себе некое огромное, неопрятное, лежачее тело общества, по жилам которого вяло течет застойная кровь, бессильная снабжать сосуды мозга для полноценной деятельности.
Конечно, в нынешнюю прекрасную эпоху повальной гласности дело обстоит иначе. Например, недавно в одном передовом журнале, широко внедряющем идеи демократизации в различные слои общественного сознания, мне предложили даже поменять в рассказе Петрова на Шапиро! Но… характер ли портится с годами, усталость ли, побеждая молодую иронию, точит душу – только я не приняла столь дорогого подарка. Тогда, уже в гранках, два молодых, смышленых и очень прогрессивных редактора переплавили неприкаянного Петрова-Шапиро в нейтрального Хабибулина…
О, отечество мое!..
Редакторские манипуляции с фамилиями героев невольно напоминают мне историю переименования одной нашей семейной вещицы, а именно – глиняного дракона с клыками и вываленным, как у забегавшейся таксы, языком; дракона с интимной домашней кличкой Сашка Ибрагимов.
Ибрагимов крепко стоял на телевизоре четырьмя приземистыми, как у таксы, лапами, под одну из которых – левую заднюю – обычно подсовывали нужные бумаги: рецепты, справки, а также трешки и пятерки на хозяйственные нужды.
Ибрагимов довольно долго носил звучное тюркское имя, пока мой сын не вступил в полосу освоения непечатных выражений. Это была довольно тяжелая полоса в жизни семьи, когда за диванами и шкафами то и дело обнаруживались нацарапанные на обоях словеса. «Заведи тетрадь, – в сердцах посоветовала я своему второкласснику, – и пиши в ней на здоровье!» Тетрадь он завел, но непечатные вопли души иногда вырывались из тетрадного плена на волю. Однажды, вытирая с Ибрагимова пыль, я обнаружила на задней левой лапе чернильную надпись: «Сукин с.».
– Ты глуп, – горько сказала я паршивцу, – можно было толковее зашифровать, например – «С. сын».
Стоит ли говорить, что бедный Ибрагимов сразу переименовался в Сукина Эса, тем самым приобретя турецко-китайский колор. Со временем он вообще плавно перетек в латиноамериканского, а то и мексиканского, если не испанского Сукинеса:
– Куда я справку ту подевал, из жэка?
– Посмотри под Сукинесом…
…Весна в тот год – буйная, душная – навалилась на Москву слишком рано и грубо, как после свадьбы жених, одуревший от ожидания. Волоча тяжелую сумку к остановке рейсового экспресса, на ходу расстегивая пуговицы дубленки, я кляла погоду, себя, а заодно и родителей, уговоривших меня надеть этот чертов тулуп: «Москва тебе – не Азия, там как ударят заморозки…»
Сейчас уже не помню, кто привез дубленку из степных просторов Краснодарского края, который, как известно, славится животноводством. Дубленка оказалась хитрой, с двойным дном: сверху – восхитительно натуральная, из мягкой, хорошо выдубленной замши, она выглядела довольно элегантно. Снизу же, то есть изнутри, то бишь со стороны меха, – меха не было. Вместо благородной овчины сноровистые артельщики вшили подкладку из какого-то начеса, откровенно смахивавшего на вату. Венчал все это хозяйство воротник из искусственного меха с наивной блесткой, и когда воротник поднимался, он окружал мою голову достаточно пошлым ореолом романтичности.
У меня даже есть фотография, где я снята в дубленке с поднятым воротником, вполне удачная фотография, «характерная», на фоне осенних деревьев, я там похожа то ли на чилийскую патриотку в неблагоприятных условиях подполья, то ли на белогвардейскую контру перед расстрелом, исторически оправданным. Во всяком случае, несколько лет эта фотография предваряла мои публикации, даже заграничные. А если еще добавить, что недавно дубленку целую зиму носила в Москве англичанка Розамунда Барнет, неосмотрительно приехавшая в Россию на зиму глядя в твидовом пиджаке, – можно сказать, что сей тулуп имеет свою задушевную историю.
Сейчас, зимами, дубленка висит в углу прихожей: я надеваю ее, когда нужно съездить за картошкой на Бутырский рынок…
Но в тот год легендарная дубленка была только куплена, и, хотя за три месяца зимней носки вата на ее подкладке уже свалялась в грязные комья, сверху все выглядело вполне респектабельно.
Задача заключалась лишь в том, чтобы в присутственных местах сидеть, аккуратно запахнув полы, а в гардеробах игнорировать гримасы гардеробщиц, имеющих скверную привычку бросать на барьер одежду подкладкой вверх…
…Подкатил автобус. Кондукторша с красной сумой на толстом животе обилетила уморенных банным теплом пассажиров, автобус вырулил на шоссе, разогнался, посыпались в окне березки-спичечки, и – воронка московской жизни завертела меня, втянула, всосала и выбросила только через неделю, после особенно длинного, морочного и никчемного дня, начатого в Доме литераторов, а завершенного где-то на задворках Измайлова, в тесной и захламленной квартирке модного режиссера, на день ангела которого привели меня друзья…
…Утром, натягивая свитер, пропахший вчерашним сигаретным дымом, морщась и чихая, я думала: ну, довольно свинства, целая неделя сдохла, хвост облез, и за каким рожном надо было сюда приезжать – неясно.
Укладывая вещи в сумку, я наткнулась на папку с рассказом ташкентского прозаика и тогда только вспомнила, что должна еще заскочить в какой-то (черт бы его драл, а заодно и меня, с моими обещаниями!) еврейский журнал, значит, вылететь сегодня едва ли удастся.
Не переставая чертыхаться, я обзвонила московских приятелей – никто понятия не имел, где находится эта редакция. Наконец кто-то вспомнил улицу… Да, кажется, там, номера только не знаю, иди и смотри на вывески…
Напялив все ту же дубленку, с сумкой потащилась я на аэровокзал за билетом.
Женщина в окошечке кассы растерянно полистала мой засаленный трепаный паспорт, то и дело вскидывая глаза от фотографии на мое лицо, не в силах, видимо, поверить, что ветхий этот документ принадлежит не пенсионеру, последний десяток лет воюющему с нарсудами и райсобесами, а молодой особе со свежими щеками.
Увы, это так: нет во мне почтения к документу. Нет почтения – ни к самому документу, ни к этому социальному институту как таковому.
Тут не могу удержаться от искушения рассказать о моем друге Лутфулле, замечательном узбекском поэте, который уже тридцать пять лет живет без паспорта. Когда я об этом рассказываю, меня спрашивают обычно:
– Как так? Потерял?
– Почему – потерял? – с тайным восторгом возражаю я. – Вообще не получал.
– То есть как это? – спрашивают меня. – А как он Аэрофлотом летает?
– А он не летает, – отвечаю я вдохновенно, – он живет в пригороде Ташкента, пишет талантливые стихи и выращивает редкие сорта винограда.
– Но позвольте, позвольте! – уже раздражаясь, говорят мне. – А прописка, а…
– Да какая там прописка! – перебиваю я, симулируя радостный наив. – Он живет в доме, построенном еще дедушкой, с тремя своими братьями и пятнадцатью племянниками.
– Ну это вы бросьте! – желчно восклицают собеседники с паспортами и пропиской. – Так не бывает… приличный человек, стихи издает… Кроме того, существует районный участковый, который обязан…
– Да какой там участковый! – с презрительным упоением выпеваю я. – Участковый – это дядя Рауф, отчим двоюродной сестры жены старшего брата Лутфуллы… – И клянусь, не знаю, что больше мне нравится: поэтический талант моего друга или его существование вне социума…
Неожиданно просто купив билет на вечерний рейс и уже предчувствуя ледяную тоску высоты в середине полета, я сдала свою сумку в камеру хранения и, с красной папкой под мышкой, вышла в томительно солнечный полдень. В сущности, дел у меня не осталось в Москве никаких, разве что пристроить чужой рассказ в еврейский журнал. Я нырнула в метро «Аэропорт» и, минут через двадцать вынырнув на нужной станции, побрела по солнечной стороне улицы, вглядываясь в вывески.
Проклятая дубленка тяжелым компрессом обнимала меня со всех сторон, снять ее совсем было опасно, коварный апрельский ветерок продувал подворотни. Расстегнуть же ее и вовсе оказалось немыслимым – подкладка уже напоминала то ли измыленную мочалку, то ли бороду престарелого козла, то ли свалявшиеся внутренности ватного одеяла.
Я шла, вяло передвигая ноги (безумная московская неделя плюс весенний авитаминоз, утепленный дубленкой), и так же вяло соображала – как представить в редакции рассказ моего знакомого.
Во-первых, необходимо сразу объяснить, что писатель – узбекский, это очень важно, как укрепление связей между народами. В то же время нужно уточнить, что написан-то рассказ на русском языке, а то они испугаются возни с двойным переводом. И уж совсем обязательно сразу сказать, что в рассказе преобладает еврейская тема, а то зачем им вся эта музыка… Сложность заключалась в том, чтоб эту галиматью заключить в одну сжатую фразу.
Я брела по улице и шлифовала в уме одну-единственную фразу, в которую, как в складной металлический метр, улеглась нужная информация.
«Здравствуйте, – скажу я непринужденно, – вот, привезла вам рассказ узбекского писателя на русском языке на еврейскую тему».
Да, именно так. Просто, спокойно, ничем не выдавая, что я тоже литератор, это им ни к чему. Никакой я не литератор, совсем наоборот. Бухгалтер, например. Меня попросили, я завезла. Отдам рукопись и пойду вон из Москвы.
Отыскав наконец нужную вывеску, я толкнула дверь и вошла в помещение редакции. За темным сыроватым предбанником показалась сумрачная комната, довольно просторная, нечто вроде холла, с двумя шкафами образца казенной мебели начала века и огромным пустым столом, забрызганным чернилами и изрезанным, похоже, еще ножичками нерадивых гимназистов. Стояло несколько стульев, и ни одного парного, будто собрали их по разным домам.
Со стены на меня смотрел грустный человек, плохо написанный масляными красками. Человек был похож на нашего соседа Даню Моисеевича, нудного, медлительного и настырного старика. Он подслеповат, когда обращается к вам, говорит, уперев взгляд в землю, но вдруг поднимает глаза (а они расфокусированы, стары и беспомощны), и кажется, что смотрит он не на вас, а куда-то в века: одним убегающим взглядом в века прошлые, погромные, дымящие крематориями, другим – в века будущие, еще, может быть, более страшные. Взгляд – эпический, библейский, ужасающий; взгляд Господа на Содом и Гоморру; в это время насморочным голосом он изрекает какую-нибудь глупость вроде: «Не знаете, соседушка, прекратятся когда-нибудь в ЖЭКе безобразия с горячей водой?»
Подойдя к портрету, я прочла, что это – Менделе Мойхер-Сфорим. Вообще-то надо почитать что-нибудь из еврейской литературы, подумала я смущенно, свинство, конечно, с моей стороны…
На углу стола стопкой лежали гранки на языке идиш. Я искоса оглядела рубленый шрифт – эти чудные топорики, крученые веревки бичей, – шрифт, перешедший в идиш из древнееврейского – сурового, как выветренные скалы, шелестящего ветрами тысячелетий, свистящего хлыстами вековых гонений, сдавленного поминальными воплями языка Библии, до начала нынешнего столетия пребывавшего в летаргическом сне молитвенных песнопений… Поверх этой пачки лежала записка, придавленная красным карандашом и им же написанная: «Шлицбутер! Вы скандалили, что гранок не дождешься, так ради бога!..»






