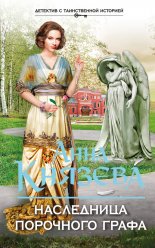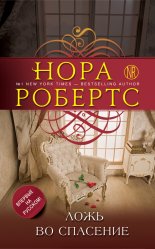Козетта Гюго Виктор
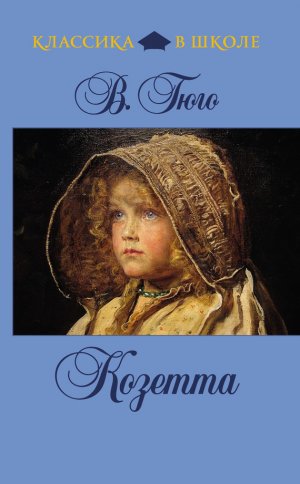
Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетали даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве позади Наполеона.
Глава 12
Гвардия
Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловом Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерии Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Л обо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала – вступающая в бой гвардия.
Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.
Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот самый момент – а было восемь часов вечера, – тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий ярко-багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.
Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван – все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили; но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, и целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших позади плетней, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и началась беспримерная резня. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики: «Спасайся кто может!» – вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возраставшим градом снарядов, теряя все больше людей с каждым своим шагом. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.
Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» – крикнул он Друэ д’Эрлону. Под этим сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы заполучить в живот все эти английские ядра!» Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!
Глава 13
Катастрофа
Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер.
Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно – у Гугомона, Ге-Сента, Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» раздалось: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дю-рюта мечутся в замешательстве, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток – это бегство; друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и рассеиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман – перед Ванделером, Лобо – перед Бюловом, Моран – перед Пирхом, Домон и Сюбервик – перед принцем Вильгельмом Прусским. Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!» – теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и по мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса – все запружено этой обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, – царит один невообразимый ужас. Там – Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там – львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!
В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение; но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома по правую сторону дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, угрожавший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери одной женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась резней побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.
Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная ни что сказать, ни что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Hoc erat in fatis[10]. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо – это тот стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека необходимо было для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал Бог.
В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в думы, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед, – великий лунатик, влекомый этой погибшей мечтой.
Глава 14
Последнее каре
Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступающих, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого и лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.
В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине у подножия склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало бороться. Командовал им незаметный офицер по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь на мгновение, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к этим затихающим мрачным громовым раскатам.
Когда от всего легиона осталась лишь горсть людей, когда их знамя превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял некий священный ужас перед этими полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся толпились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В сумеречной темноте они слышали, как заряжают орудия; зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам всех английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль – по словам одних, а по словам других – Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, крикнул, взволнованный: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»
Глава 15
Камброн
Из уважения к французскому читателю это слово, быть может самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не должно повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.
На свой страх и риск мы преступим этот запрет.
Итак, среди этих исполинов был титан – Камброн.
Крикнуть это слово и затем умереть, что может быть величественнее? Ибо желать умереть – это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.
Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это Камброн.
Поразить подобным словом гром, который вас убивает, – это значит победить!
Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог этой победе тем грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников – это непостижимо!
Это оскорбить молнию. В этом эсхиловское величие.
Слово Камброна подобно звуку, сопровождающему образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; это избыток смертной муки, вызвавший взрыв. Кто же победил?
Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он дошел до бешенства, ему предлагают это посмешище – жизнь. Как не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а позади этих ста тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли свои пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, – и остался один Камброн; чтобы протестовать, остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом этой величайшей и жалкой победы, перед этой победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, больше того, изнемогая под гнетом численности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это – значит быть победителем!
В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел «Марсельезу», – это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свое свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, – этого было бы недостаточно, – он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.
В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали недвижимо, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу агонии. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон-Сен-Жан, на промокшей от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.
Глава 16
Quot libras in duce?[11]
Сражение при Ватерлоо – загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона – это паника[12], Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснительные примечания сбивчивы. Одни запинаются, другие что-то невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; один Шарас – хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся – уловил своим острым взглядом характерные черты этой катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.
В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.
Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера – значит, лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо не более как бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном – Байрон. Нашему веку присуще широкое возникновение идей; в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их прирожденным свойством, оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в девятнадцатом веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так вздувается после грозы ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели – эти игроки – могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, и воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.
Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.
Водружать там льва не стоило.
Впрочем, Ватерлоо – это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги – это противоположности. Никогда Бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего и очной ставки более необычайной. С одной стороны – точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая предписанные правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой – интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, нечеловеческое чутье, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон – это Барем войны, Наполеон – ее Микеланджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.
Один и другой кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши – тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера – тот прибыл.
Веллингтон – это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатишестилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея все против себя и ничего за себя, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на все объединенные силы Европы и самым нелепым образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, распылил одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.
Чтобы получить настоящего Вурмсера, было бы достаточно выбелить волосы Веллингтона.
Ватерлоо – это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем.
Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоо – это Англией, английской твердостью, английской решимостью, английским темпераментом. Самое великолепное, что было в этой битве, – это, не во гнев ей будь сказано, сама Англия. Не ее полководец, но ее армия.
Веллингтон с поразительной неблагодарностью заявляет в своем письме к лорду Батгерсту, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была «отвратительной армией». Что думает об этом мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоо?
Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона – это умалить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Эти серые шотландцы, эти конные гвардейцы, эти полки Метленда и Митчела, эта пехота Пакка и Кемпта, эта кавалерия Понсонби и Сомерсета, эти горцы, играющие на волынке под картечью, эти батальоны Риландта, эти только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Риволи, – вот кто велик. Веллингтон был стоек, в этом его заслуга, и мы этого не оспариваем; но самый незаметный из его пехотинцев и кавалеристов был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стоили своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоо вместо фигуры одного человека возносила к облакам статую, символизирующую народ.
Но наши слова возмутят эту великую Англию. Несмотря на свой 1688-й и наш 1789 годы, она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ. Как народ он добровольно подчиняется лорду, признавая его своим господином. Как рабочий он позволяет презирать себя; как солдат он позволяет бить себя палкой.
Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина.
Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоо – это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугомоне, оэнская дорога, Груши, не слыхавший пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Бюлову, – все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проведено.
В итоге, следует это отметить, в битве при Ватерлоо преобладала резня, а не бой.
Из всех битв, подготовленных согласно принятым правилам, Ватерлоо отличалось наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили, у Веллингтона полмили; по семьдесят две тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня.
Был сделан подсчет, и установлено следующее соотношение. Потеря людьми при Аустерлице: у французов четырнадцать процентов, у русских тридцать процентов, у австрийцев сорок четыре процента; при Ваграме: у французов тринадцать процентов, у австрийцев четырнадцать; под Москвой: у французов тридцать семь процентов, у русских сорок четыре; при Бауцене: у французов тринадцать процентов, у русских и пруссаков четырнадцать; при Ватерлоо: у французов пятьдесят шесть процентов, у союзников тридцать один. Общий итог потерь для Ватерлоо – сорок один процент. Сто сорок четыре тысячи сражавшихся; шестьдесят тысяч убитых.
Поле Ватерлоо ныне дышит тем покоем, который присущ земле – этой бесстрастной опоре человека, и оно похоже теперь на любую равнину.
Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман, и если там окажется какой-либо путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит, подобно Вергилию на мрачных Филиппских полях, то им овладевает галлюцинация, он словно присутствует при этой катастрофе. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня: исчезает искусственный курган-памятник, пропадает лев, поле битвы вновь обретает свой настоящий облик; колышутся на равнине ряды пехоты, на горизонте стремительно проносится конница; потрясенный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную перекличку громов; ему слышится хрипение в глубине могилы, смутный гул призрачной битвы. Вот эти тени – гренадеры; вон те мерцающие огоньки – кирасиры; этот скелет – Наполеон; тот скелет – Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжает сшибаться и бороться, и овраги обагряются кровью, и дрожат дерева, и до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты, Мон-Сен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, покрытые роями истребляющих друг друга привидений.
Глава 17
Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?
Существует весьма почтенная либеральная школа, которая отнюдь не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо – лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, было полной неожиданностью.
В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это Европа – против Франции; Петербург, Берлин, Вена – против Парижа; это status quo[13] – против дерзанья; это штурм 14 июля 1789 года путем атаки 20 марта 1815 года; это сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, – такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо – в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, а после Ватерлоо – в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол форейтора, а на шведский – сержанта, используя неравенство для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом; а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, – оратора. Фуа повержен наземь у Гугомона – и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспосабливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком – внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушающим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная победа была в свою очередь побеждена свободой.
Одним словом, бесспорно лишь одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан наклонялось над Францией, словно над своей добычей, – все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи, она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.
Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы отнюдь не было преднамеренной его целью. Контрреволюция была поневоле либеральной, так же как Наполеон благодаря сходному феномену был поневоле революционером. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.
Глава 18
Восстановление священного права
Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.
Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало в варварские времена. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого – контрреволюция, не хватило дыхания, оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то Империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания; но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем – это ночь. Но когда эта ночь исчезла, казалось, наступило затмение.
Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в девятнадцатом веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз non pluribus impar[14] вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.
Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В Венсенском рву поднялась из глубины надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в тот самый месяц, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился маленький четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был заточен в тюрьму, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».
Этот 1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая и нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так змеи меняют кожу.
Наполеон одновременно и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ – это пушечное мясо, так влюбленное в своего канонира, – искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», – сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он – да умер? – воскликнул солдат. – Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась какая-то огромная, зияющая пустота.
И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз!» – как было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо[15].
Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда – Свобода. Молодое поколение обратило к нему свой восторженный взор. Странное явление: увлекались одновременно и этим будущим – Свободой, и этим прошедшим – Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу, а Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх этот внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала Св. Елены.
Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.
Вот что такое Ватерлоо.
Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской богоматери.
Глава 19
Поле битвы ночью
Вернемся – этого требует наша книга – на роковое поле битвы.
18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера, она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно проследить иногда это ужасное сообщничество ночи.
Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.
Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного – обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.
Изречение «Sic vos non vobis»[16] как нельзя более удачно применимо к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жан был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено, Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.
Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть у войны своя устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть у нее, признаемся в том, и свое уродство. Одна из самых невероятных его форм – это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.
Кто совершает это? Кто подобным образом порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиною славы? Некоторые философы, в том числе и Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, говорят они, и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем – герой, ночью – вампир. Они, мол, имеют некоторое право слегка обшарить того, кого собственной рукой превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов – на это неспособна одна и та же рука.
Достоверно лишь то, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, и особенно солдаты современные.
За каждой армией тянется хвост, и вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в тех сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры – весь этот сброд волочился во время похода вслед за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация не ответственны за них. Они говорили по-итальянски – и следовали за немцами; говорили по-французски – и следовали за англичанами. Именно один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски натарабарско-пикарском наречии, и обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на самом поле битвы при Серизоле в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» – явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж; дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.
Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали.
Зловеще светила луна над этой равниной.
Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о которых мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж.
На нем была блуза, смахивающая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался назад. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было, очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. От времени до времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться в том, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».
Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.
Внимательно вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоящей у нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л’Алле, небольшую повозку маркитанта, с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.
Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Пусть обагренная кровью лежала внизу земля, луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. В лугах ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые корой от падения, тихо покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густые кустарники. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.
Издали смутно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.
Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом на горизонте, напоминая развернутое рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.
Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце содрогается от ужаса.
Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, – и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться за что-нибудь, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»
Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали в уровень с краями ложбины, как плотно утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной – такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной этому месту стороны – со стороны женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.
Ночной бродяга, виденный нами мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал какой-то отвратительный смотр этим мертвецам. Он шагал по крови.
Вдруг он остановился.
В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и людских останков выступала рука, освещенная луной.
На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.
Бродяга нагнулся, присел на мгновение на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.
Собственно, он не встал, а остался на коленях, в неловкой и испуганной позе, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при свершении некоторых действий.
Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.
Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.
– Гляди-ка! – сказал он. – Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милее выходец с того света, чем жандарм.
Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.
– Вон оно что! – пробормотал бродяга. – Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!
Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился заруку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок во тьме дороги если не бездыханного, то, во всяком случае, потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если это слово употребимо здесь, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.
На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.
Бродяга сорвал этот крест, исчезнувший тут же в одном из глубоких тайников его шинели.
Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.
Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.
– Спасибо, – пробормотал он слабым голосом.
Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.
Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышался шум шагов: вероятно, приближался какой-нибудь патруль.
– Кто выиграл сражение? – чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.
– Англичане, – ответил грабитель.
Офицер продолжал:
– Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе.
Это было уже сделано.
Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:
– Карманы пусты.
– Меня ограбили, – сказал офицер, – жаль. Это досталось бы вам.
Шаги патрульных слышались все отчетливее.
– Кто-то идет, – прошептал бродяга, собираясь встать.
Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:
– Вы спасли мне жизнь. Кто вы?
Грабитель быстро, шепотом, ответил:
– Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды, как знаете.
– В каком вы чине?
– Сержант.
– Ваша фамилия?
– Тенардье.
– Я не забуду ее, – сказал офицер. – А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.
Книга вторая
Корабль «Орион»
Глава 1
Номер 24601 становится номером 9430
Жан Вальжан был опять арестован.
Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся лишь тем, что приведем здесь две краткие заметки, опубликованные газетами того времени несколько месяцев спустя после поразительного происшествия в Монрейле-Приморском.
Эти заметки несколько кратки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало «Судебной газеты».
Первую заметку мы заимствуем из газеты «Белое знамя». Она датирована 25 июля 1823 года:
«Один из округов Па-де-Кале явился ареной довольно необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад благодаря новым способам производства возобновил старинный местный промысел – выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил одновременно округ. В благодарность за его заслуги его избрали мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой вклад, превышавший полмиллиона, который он нажил, впрочем, как говорят, вполне законно, из доходов от своего производства. Узнать, куда спрятал он эти деньги, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».
Вторая заметка, несколько более подробная, взята из «Парижской газеты» от того же числа:
«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции; он переменил свое имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста от потрясения скончалась. Этот негодяй, обладающий геркулесовской силой, нашел способ бежать, но спустя три-четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между деревней Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался этими тремя-четырьмя днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он запрятал эти деньги в таком месте, которое было известно лишь ему одному, и захватить деньги не удалось. Как бы там ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Барского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —
- Приходят из Савойи каждый год
- И сажею забитый дымоход
- Искусно в вашем доме прочищают.
Этот бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора было установлено, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, в бесконечном милосердии своем, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же направлен в Тулон на галеры».
Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, и среди них «Конституционалист», изобразили это смягчение приговора как торжество партии духовенства.
Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал зваться номером 9430.
Чтобы уже более не возвращаться к этому вопросу, заметим, однако, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все то, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось; не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался тот жестокий дележ, неизбежный при жизненном крушении выдающегося человека, тот роковой распад процветающих дел, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили страну, другие оставили ремесло. Отныне все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; всюду возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал – и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания сразу сменился духом борьбы, сердечность – черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора – взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.
Само государство заметило, что где-то кого-то не стало. Менее чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление в феврале 1827 года.
Глава 2,
В которой прочтут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом
Прежде чем продолжить нашу повесть, будет кстати рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.
В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа – это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто почитает все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфер-мейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в глуши леса, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы – огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый – приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты замечаешь, что этот человек – обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, – просто-напросто торчащие у него за спиной навозные вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и умираешь в течение недели. Второй способ – наблюдать за ним, дождаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты уже умрешь в течение месяца. Наконец, третий способ – совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года.
Поскольку все три способа равно имеют свои неудобства, то второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, но ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают удачу, нередко, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если доверять преданию и особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Этот Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.
Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (потому что это делается именно ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» – твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Вот обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:
- Fodit, et in fossa thesauros condit opaca
- As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque[17].
Как будто и доныне там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает ни слова, но следует принять во внимание, что Трифон жил в двенадцатом веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты – до Карла VI.
Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и в прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрывать ружья вам в лицо.
Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этой самой деревушке заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В той местности ходили слухи, будто Башка был когда-то на каторге; он состоял под наблюдением полиции, и так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за пониженную плату на починку шоссейной дороги между Ганьи и Ланьи.
На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтительный, слишком смиренный, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Поговаривали, что он, видимо, связан с разбойничьей шайкой, его подозревали и в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяницей.
А заметили за ним вот что.
С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил в лес со своей киркой. Его встречали под вечер на самых пустынных лужайках, в самой дикой лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал чужих глаз и что в его поступках кроется какая-то тайна.