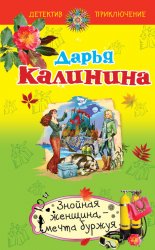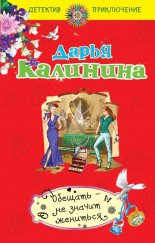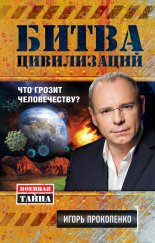Исповедь старого дома Райт Лариса

– Это еще что?
– Телефон мой. Захочешь поболтать, позвони. Я все-таки могу дать несколько ценных советов.
– Спасибо, наслушалась: либо переспать с известным режиссером, либо держаться подальше от театральных вузов.
– Ты все-таки позвони.
– Смотри не застрелись до этого.
Анна все-таки сунула карточку в карман плаща и поспешила к метро.
Забавный тип. Самонадеянный, конечно, но зато сумел ее приободрить. Во всяком случае, отвлек от грустных мыслей, это точно. Что она делала? Сидела на скамейке, рыдала и все еще читала Чехова. И никак не могла понять, почему этот отрывок из «Цветов запоздалых» председатель комиссии назвал не до конца прочувствованным. Аня столько раз репетировала дома: ложилась на кушетку, расстегивала несколько пуговок на платье и томно шептала: «Я люблю вас, доктор!» – а дама из комиссии, имени которой она даже не знала (тоже мне, актриса погорелого театра!), назвала это «нелепым жеманством». Правда, известный артист, что сидел рядом с ней, заявил, что «басня была вполне недурственной», но дама тут же парировала, что недурственной она может быть на семейной кухне, а не на сцене, где любое произведение должно становиться посредством великолепной актерской игры вершиной литературного творчества. Девушка как раз придумывала сто пятидесятый достойный ответ на эти обидные слова, когда перед ней возник забавный юноша. Она и не думала плакаться в жилетку, но слово за слово, и она уже думала больше о нем, чем о проваленном экзамене. Интересно, у него случайно так вышло или сработал навык хорошей режиссуры: только что она кляла на чем свет стоит членов комиссии, а теперь переключила свой гнев на него, а жгущая ладонь бумажка с телефоном занимала все ее мысли.
Звонить, не звонить? Анна ходила по квартире кругами. То хватала карточку и засовывала ее в лежавшую у телефона визитницу, то перекладывала на свой письменный стол, то возвращала в карман плаща («Скоро осень, потом зима, плащ перекочует в дальний платяной шкаф, а с ним и бумажка до лучших времен»), то снова выкладывала на видное место. Наконец, разозлилась на себя («Да что это со мной, в самом деле?! Слишком много чести!») и решительно отправила бумажку в мусорное ведро.
И в ту же секунду – звук ключа в замочной скважине, скрип открывающейся двери, аромат сладких, кружащих голову духов, звонкий надменный голос:
– Ты дома? Ну-ка, иди сюда.
– Да, я здесь. Привет. – Аня вышла в коридор.
– Снимешь? – С пуфика девушке поочередно протянули ноги, обутые в элегантные сапожки. – Уф, я так запарилась!
– Лето на дворе, – Анна отставила чудо из светлой замши в сторону.
– А когда их носить, как не летом? Ты не представляешь, как я устала. – Женщина легко вскочила с пуфика и встала перед зеркалом, театрально приложила левую ладонь к виску. – Голова идет кругом. На студии все просто с ума посходили. Хотят меня видеть сразу в трех картинах, да еще и Андрон с этим своим воскресным приемом. Нет, я, конечно, счастлива, что он стал академиком, но, скажу тебе по секрету, он мог бы им стать и без меня. Я к этому отношения не имею и сидеть в компании этих скучнейших ученых совершенно не хочу. Но придется, моя дорогая, придется. Такая уж судьба у жены академика. – Женщина небрежно погладила Аню по голове: – Ну-ка, ты что пригорюнилась? Тебе-то на этом мероприятии присутствовать необязательно. Я, кстати, видела отца, он будет ставить одну из трех картин. Он о тебе спрашивал. Так что в воскресенье как раз можешь отправиться к нему. Ну, там кино, кафе… Какая там у вас обязательная программа?
Об обязательной программе Аня, в отличие от собеседницы, имела прекрасное представление. «Кино с Людочкой. Кафе с Танечкой. Ты, Анютка, пока посиди у меня, если хочешь. Малыш, ты еще ждешь? Представляешь, мы тут в кафе встретили N-ского, он всех тащит в Дом кино, ему недавно отвалили премию и требуется обмыть. Так что не злись на папу, засунь ключ под коврик. Что? Остаться ночевать, а завтра проведем день вдвоем, как хотели? Малыш, ну ты же уже не совсем малыш. Должна понимать: я приду не один… И потом, завтра – уже не сегодня, правда? Так что давай-ка дуй домой и созвонимся, ладно?» Очередного звонка приходилось ждать целую вечность.
– А на прием ведь еще одеться надо, и прическа… Представляешь, я сейчас заглянула в «Чародейку», так Татьяна в отпуске. Сорвалась, чертовка, даже не предупредив. И что мне теперь делать?
– Ты прекрасно выглядишь.
– «Прекрасно» – это не роскошно. А у академика должна быть роскошная жена. А где, кстати, он сам? – Женщина оторвалась от зеркала.
– Не знаю. Наверное, на работе. Я сама только что пришла.
– Понятно. Вы, значит, все где-то гуляете. И это как раз в тот день, когда у Маши выходной. Значит, я должна после тяжелого дня вставать к плите, браться за пылесос, утюжить рубашки…
– Обед Маша приготовила вчера, квартиру убрала, рубашки Андрону погладила, так что выйди из образа угнетенной трудом Золушки.
– Как ты разговариваешь?!
– Просто надоела театральщина.
– Театр, моя милая, надоесть не может. Ладно, пойду перекушу что-нибудь. Никто ведь не предложит погреть и подать.
– Ты ничего не хочешь у меня спросить?
– А надо?
– Ну, как все прошло.
– А что проходило-то?
– Я вообще-то поступить сегодня пыталась. Я ведь тебе говорила!
– Да? Ну, значит, я забыла. Прости. Ну и как? Поступила?
– Нет.
– Видишь, поэтому я и запамятовала. Я же говорила: все это пустое. Дурь и блажь. Какая из тебя актриса? Все, я сейчас умру с голоду.
Женщина скрылась в ванной, зашумела вода. Аня юркнула на кухню, из последних сил пытаясь сдержать слезы, кинулась к помойному ведру, вытащила бумажку, метнулась в свою комнату. Щелканье пальца по клавишам:
– Привет, это Анна. Ну, сегодня в сквере…
– А-а-а… Видишь, я еще жив.
– Скорее слышу. Ты помочь обещал.
– Я готов.
– И-и-и?
– Хватай как можно больше литературы и дуй ко мне. Высотку на Котельнической знаешь? Второй подъезд, я встречу.
– У тебя что, в твоих хоромах книг нет? – Девушка растерялась. Ответ прозвучал неожиданно резко:
– Сейчас нет. – И уже мягче: – Так придешь?
– Приду. А что приносить?
– Приноси свое любимое, там разберемся.
Вместо плаща – ветровка, вместо лодочек на каблуках – стоптанные кроссовки, волосы, утром распущенные по плечам, собраны в тугой хвост и скрыты под кепкой. Ничего от чеховской Маруси.
– Ты просто Гаврош, – Андрон, столкнувшийся с девушкой в дверях, удивленно приподнял брови. – Куда, на баррикады? – Он вопросительно взглянул на тяжелые коробки в ее руках.
– Практически.
– И что будешь защищать?
– Честь и достоинство.
– Ага. Ну, это дело хорошее. Тебе помочь?
Но Аня уже за порогом. Только крикнула в ответ:
– Сама справлюсь!
– Сама справлюсь, спасибо, – вежливо откликнулась Анна на предложение девушки подождать почтальона.
– Зря. Тяжесть-то какая! Он бы на багажник велосипеда поставил и довез бы вам. А хотите, оставляйте, он попозже привезет.
– Нет-нет! – испугалась Анна. Как можно оставить такую ценность? Она подхватила коробки и вышла на улицу, окликнула собаку: – Пойдем!
– Подождите, – девушка выскочила за ней и смущенно проговорила: – Я забыла спросить: а зачем вам все это?
– Зачем? – Анна поставила коробки на землю, разогнулась и ответила. Нет, не девушке. А кому-то далекому, только ей одной ведомому. – Защищать буду.
– Что? Что защищать?
Но Анна уже снова с коробками. Повернулась спиной и пошла восвояси. И девушка уже не слышала, как чуть шевелятся в такт тяжелым шагам губы странной посетительницы:
– Честь и достоинство. Честь и достоинство. Честь и достоинство.
6
Достоинства свои Аля подчеркивала не зря. Упорство и старание рано или поздно должны быть вознаграждены, кому-то везет уже в этой жизни, кому-то, возможно, в следующей. Алю же удача накрыла своим крылом не просто быстро, а буквально сразу же. Ей не пришлось годами обивать пороги студийных кабинетов и с надеждой во взгляде протягивать ассистентам по актерам свои самые удачные фотографии. Буквально с третьих проб она вернулась с предложением пусть небольшой, но заметной роли второго плана и письмом к руководителю курса с просьбой закрыть глаза на пропуски занятий студентки первого курса Панкратовой. Записку хоть и со скрипом, но приняли к сведению – и Аля отправилась в свою первую в жизни киноэкспедицию.
Условия съемок были, конечно, далеки от тех, что нарисовала себе в воображении девушка, мечтавшая о жизни, как у экранных див: номер в провинциальной гостинице приходилось делить не только с коллегой, пока такой же далекой от звездного статуса, но и с клопами. Вставать заставляли рано, потому что доверенная Але роль требовала сложного грима, а ложиться, напротив, рано не удавалось, так как отогревавшаяся алкоголем на осенней площадке съемочная группа устремлялась в гостиницу не за отдыхом, а за продолжением банкета.
Аля от коллектива не отставала, однако и с массой не сливалась. От предложенной рюмки не отказывалась, но до беспамятства никогда не напивалась, над скабрезными шутками посмеивалась, но поводов шутить над собой не давала. Сплетни выслушивала с интересом, не одергивая болтунов, но и в унисон с ними не пела. Ухаживания мужской половины экспедиции принимала, казалось бы, благосклонно, но никого не выделяя и не давая поводов для ревности и выяснения отношений. За ней закрепилась репутация умницы и красавицы с легким характером. Никто и предположить не мог, что характер этот был тщательно продуман и отрепетирован для того, чтобы как можно быстрее избавиться от соседства не только с клопами, но и с второсортными актрисульками, от недвусмысленных предложений именитых и не слишком киноперсонажей и от подъемов в угодное режиссеру, а не ей – Алевтине – время.
Месяцы жизни с образованным человеком и его призыв к чтению не прошли для девушки даром. Книги учат людей мыслить, и Алино увлечение литературой помогло ей перевоплощаться в обличье, нужное людям. В кресле гримера сидела покорная Гризельда Боккаччо, в гостинице кутила с приятелями крыловская Стрекоза, объяснения в любви выслушивала то еще невинная сестра Керри Драйзера, то бесстрастный Онегин, то Медной горы хозяйка.
Такая политика беспрерывной игры принесла плоды. Из экспедиции Аля вернулась с двумя новыми записками для руководителя курса (партнеры не желали видеть рядом с собой на съемочной площадке никого другого и успели протолкнуть ее в очередные киногруппы), с благодарственным письмом в деканат от режиссера (который был доволен не столько ее актерской работой, сколько разыгранной перед ним невинностью, что удержала его от очередного адюльтера), с двумя предложениями руки и сердца и с воспалением придатков, которое, по утверждению врачей, при отсутствии серьезного лечения грозило оставить ее без потомства.
Аля считала врачебный прогноз скорее благоприятным, чем пугающим. Ей – молоденькой, амбициозной девушке с запятнанной душой – дети казались хлопотной обузой на пути к успеху. Поэтому времени на анализы и процедуры она попосту не тратила, лечилась спустя рукава и, услышав вердикт «Беременность крайне маловероятна», испытала гораздо больше облегчения, чем расстройства. К тому же огорчение было вызвано лишь тем, что обоим кандидатам в мужья пришлось отказать, хотя один из них оказался неожиданно перспективным (молодой, но уже известный оператор вполне мог оказать необходимое содействие начинающей актрисе). Однако оба претендента мечтали не только об Алиной благосклонности, но и о настоящей семье, где о них бы заботились и рожали детей. Это не входило в Алины планы: ей самой нужна была опека, она, и только она, должна была стать ребенком в своей семье.
Поняв, чего она хочет, девушка, однако, не бросилась сломя голову воплощать желания в жизнь. Аля просто решила не размениваться по пустякам, а терпеливо ждать своего счастья. Счастьем же ей представлялся человек немолодой, предпочтительно уже с детьми и, конечно, влиятельный в артистических кругах: режиссер, драматург, писатель, а еще лучше министр (Фурцева?). Одна беда: министры по киноэкспедициям не ездили, писатели и драматурги хотели принимать восхищение, а не дарить его, а известные режиссеры, естественно, оказывались женаты. И хотя многие из них были не прочь предложить (да и предлагали) Але посильную помощь в обмен на ее благосклонность, она никогда не торопилась соглашаться, а бывало, и грубо отказывала, если не видела в предложенной сделке выгоды.
К концу обучения в Алином послужном списке имелись четыре удачные картины, несколько предложений от ведущих московских театров и столько же намеков от художественных руководителей этих театров.
– Любишь кататься, люби и саночки возить, – заявил один из них. – Все покупается, все продается.
– У всех цена разная, – бесстыже усмехнулась она в ответ. – Я стою дорого.
И упорхнула в Ленинград сниматься в какой-то грандиозной военной киноэпопее, которой все критики заранее прочили оглушительный успех. «При таком прогнозе я могу надеяться, что в скором будущем смогу попасть в любой стоящий театр с парадного входа, а не с дивана в кабинете худрука, – думала молодая актриса, засыпая под стук колес скорого поезда. – В конце концов, несколько месяцев можно провести и без столицы. Ленинград ничем не хуже всех тех городков, в которых мне приходилось околачиваться неделями в ожидании натуры. Нет, ничем не хуже».
Ленинград оказался гораздо лучше любых ее представлений. Уже на следующий день после приезда она твердо знала, что чеховское «В Москву! В Москву!» – это блажь тех, кто никогда не был в этом сказочном царстве дворцов и каналов, и что она никогда и ни за что не хотела бы отсюда уехать.
Впервые в жизни Аля влюбилась. Влюбилась так, что все остальное сразу перестало иметь значение. Она готова была сниматься в любом фильме, если он ставился на «Ленфильме», готова была умолять режиссеров и сулить им что угодно за право быть принятой в труппу не только БДТ и Александринки, но и какого-нибудь малоизвестного ленинградского театра. Аля была очарована рябью воды, что, казалось, сутками напролет отражала настроение города: то тихое, умиротворенное, то бурное, переполненное страстями прошлого. Девушку восхищала величавая осанка многочисленных мостов, упругими стрелами соединяющих набережные, ее поражала грандиозность колонн здания, что называлось на бумаге музеем, а в народе по-прежнему Казанским собором. Ее впечатляли дворцы, хранящие за своими фасадами секреты своих прежних хозяев… В общем, Аля сочла этот королевский город достойным своей персоны и во что бы то ни стало решила в нем задержаться.
Решить легко – сделать гораздо сложнее. Съемки не могли продолжаться вечно, новых предложений от «Ленфильма» не поступало, а труппы ленинградских театров не жаловались на отсутствие талантов и распахивать свои объятия перед юной «почти москвичкой» не спешили. Алей все сильнее овладевали смутное беспокойство и чувство неуверенности в завтрашнем дне. Возвращение в Москву без каких-либо явно обозначенных планов на будущее означало угрозу распределения в провинцию, о чем уже заболевшая звездной болезнью девушка не могла думать без содрогания. А думать приходилось.
– Уедешь, а мы останемся! – насмехались над ней лошади Клодта на Аничковом мосту.
– Я буду царствовать здесь, а ты станешь примой Урюпинска, – ехидно улыбалась с афиши знаменитая актриса.
– Мы свои, местные, с папой-генералом и пропиской в кармане, – читала она во взглядах выпускниц ЛГИТМиКа. – Если и придется уезжать, то не больше чем на три года. А ты? Ну, не всем же в столицах рождаться.
И отравляющие существование письма:
«Как чудесно было бы, Аленька, если бы тебя распределили к нам поближе. Конечно, в районе театра пока нет, но в Пензе, говорят, хороший. Председатель был там несколько раз. Говорит: «Спектакли чудесные, душу на части рвут». Так что это по твоей части. Ты ведь у нас настоящая звездочка. Взглянуть бы на тебя хоть одним глазком! Понимаю, времени у тебя нет: режиссеры рвут на части. Только и видим тебя что на экране. А направили бы тебя в Пензу, глядишь, и виделись бы почаще, и в театр бы у нас был повод сходить. Ты уж похлопочи там на комиссии, чтобы уважили нашу просьбу. И пиши, ладно? Мама».
Если бы и стала хлопотать Аля о чем-либо, то уж точно не о направлении в Пензу.
«Аленька, милая, почему ты не пишешь? Неужели так загружают ролями, что некогда черкнуть родителям пару слов? Если так, то надо обратиться к Фурцевой и попросить разобраться с режиссерами, которые так бесчеловечно обращаются с артистами. Я вот что подумала, дочка: зря мы с отцом так переживали и расстраивались из-за твоего поступка, людям в глаза не могли смотреть после твоего исчезновения. Мы ведь всегда надеялись на то, что ты будешь продолжать жить достойной жизнью советского человека и трудиться во славу светлого коммунистического будущего нашей страны. Актерство представлялось нам занятием мелким и бесполезным. Однако сейчас я думаю, что и в этой профессии возможно добиться больших высот, если создавать образы честных, порядочных, сильных женщин, а не профурсеток, вроде твоей Вали из последней картины. Я, конечно, понимаю, что любовь украшает человека, но советская женщина должна больше всего на свете любить Родину и не забивать себе голову бессмысленными страстями. Надеюсь, ты станешь разборчивей. Где ты теперь снимаешься? Мама».
– Где надо, там и снимаюсь, – только и ответила Аля. И не на бумаге, а у зеркала. И не с доброй дочерней улыбкой, а с перекошенным от негодования и злости лицом.
«Алюша, так и не дождались от тебя весточки. Недавно нам в клуб привозили «С тобой в разведку». Чудная картина! Нас с отцом просто переполняла гордость. Твоя Нюра – воплощение чести и отваги. Именно такими – смелыми, бесстрашными – представлялись мне партизаны. Бывало, стою в тылу у станка на заводе, слушаю вести с фронта и все думаю: как только женщины решаются вместо того, чтобы укрыться где-нибудь вдали от бомбежек, лезть в самое пекло и шнырять под самым носом у треклятых фашистов? И не я одна тогда удивлялась. А теперь, на тебя посмотрев, удивляется и весь наш колхоз. А девчата маленькие все, как одна, хотят теперь быть как Алевтина Панкратова. Так что популярность у тебя, дочка, неслыханная. Я думаю, что по окончании распределения ты можешь даже не оставаться в Пензе, а смело возвращаться и организовывать у нас в клубе кружок театральной самодеятельности. Председатель, я уверена, даст добро и выбьет тебе хорошую ставку, а от желающих учиться у тебя, естественно, отбоя не будет. Что скажешь? Целую, мама».
Что тут скажешь? Аля сказать не могла ничего. Она уже не злилась и не раздражалась, только хохотала, как сумасшедшая, перечитывая абсурдное предложение матери. И чем веселее и беззаботнее был ее смех в первые дни после получения письма, тем больше грусти и обеспокоенности слышалось в нем, когда перечитывала она эти строки соседке по гостиничному номеру в Ленинграде.
– Ты? В пензенский театр? Ой, держите меня! – притворно хваталась за живот коллега по съемочной площадке.
– Смешно, правда? – пренебрежительно дергала плечом Аля, боясь признаться в том, что с каждым днем перспектива оказаться на далекой от столичного театра сцене становилась все реальнее.
Вид дворцов, мостов и каналов повергал ее теперь в уныние, коридоры «Ленфильма» навевали усталость, щебет молодых актрис вызывал раздражение. Слишком сильным оказалось сожаление от того, что в скором времени придется со всем этим расстаться. Она больше не бродила по улицам, не покупала в кондитерской конфет, чтобы гонять чаи со съемочной группой, не вчитывалась в имена актеров на афишах ленинградских театров, не пыталась примерить город на себя, чувствуя, что он ускользает в зыбком тумане белых ночей. Аля почти поверила, что судьба повернулась к ней спиной. Но вдруг:
– Сегодня съемки до четырех, потом все свободны, – объявил помощник режиссера, не забыв добавить в интонацию заветную нотку интриги.
На интриги брат-актер падок. И вот уже помрежа рвут на части вопросами:
– С чего такая милость?
– За чье здоровье свечку ставить?
– Главный вспомнил о том, что артисты – тоже люди?
– А дорабатывать придется? Я в выходной не могу, у меня спектакль.
– Не у тебя одного.
– Нет, у него, видите ли, планы, а мы побоку.
– А меня, вообще, из театра только на день отпустили. Сказали: «Что там играть-то: «Кушать подано». Полчаса – все дела». А если перенесет теперь сцену? Что мне тогда делать?
– Тогда – не знаю, – откликнулся наконец помреж, – а сейчас – бежать во Дворец культуры имени Первой пятилетки.
– Да что я там забыл-то?
– «Таганка» приехала! – Помреж не скрывал торжества. И тут же со всех сторон:
– «Таганка»?
– «Таганка»!
– Какой состав?
– И Высоцкий? А Высоцкий?
– А что привезли?
– Какая разница, все равно билетов не достать.
– Значит, наш режиссер на спектакль отправится.
– А как же? Ему-то контрамарочку отстегнули.
– Эх, мне бы хоть одним глазком…
– А я двумя посмотрю, – торжественно объявил помреж, взметнув вверх правую руку с двумя зажатыми в ней бумажками.
– Билеты… Билеты… Билеты… – на одном дыхании прокатилось завистливое эхо.
– Два. Один…
– Продашь? Продай мне! Сколько хочешь?
– А почему сразу тебе? Я бы тоже не отказалась.
– А давайте жребий бросим…
– Ох, я такая неудачливая…
– Слышь, Серега, продай! Как человека, прошу!
Серега только улыбался загадочно, потом отреагировал:
– Билет не продается, а дарится безвозмездно. – Быстро подошел к Але, протянул: – Держи!
– Мне?!
Аля почувствовала, как сердце заколотилось в предвкушении неимоверного, почти непостижимого счастья. «Таганка» в те годы была мечтой всех и каждого, а уж студенты театральных вузов дневали и ночевали у порога знаменитого театра, лишь бы заполучить вожделенный билетик. Аля дневать и ночевать не могла, потому что много снималась, а когда наконец оказывалась в Москве, вынуждена была сидеть за учебниками и репетировать курсовые работы, чтобы догнать свою мастерскую и не вызвать неодобрение руководителя, который и так был недоволен вечно отсутствовавшей студенткой. И что же? Получается, если гора не идет к Магомету… «Таганка» сама приехала к ней, и отказаться, несмотря на упадническое настроение, невозможно.
Настроение вмиг улучшилось, Пенза снова стала призрачно далекой, занудный помреж Серега, которого Аля прежде избегала, оказался довольно милым, а злые глаза завистливых коллег – добрыми. Казалось, весь мир радуется вместе с ней и категорически запрещает возвращать вожделенный билет.
Билет лежал в маленькой дамской сумочке – лакированной с золотыми веточками-застежками, под названием «ридикюль», что ее хозяйка, Алина соседка по комнате, выговаривала с почтенным придыханием. Сама Аля крутилась у зеркала: укладывала локоны и рассматривала макияж так придирчиво, будто собиралась на самые важные в жизни пробы. Нет, она и не помышляла проникнуть в святая святых и понравиться кому-то из ведущих актеров или (почему бы и нет?) самому Любимову. «Таганка» казалась ей настолько нереально волшебным театром, что хотелось выглядеть достойной этого волшебства, окунуться в миг, когда иллюзия превратится в реальность, стать принцессой, случайно попавшей на бал.
Происходящее в фойе Дворца культуры имени Первой пятилетки на бал походило мало. Актеры, одетые революционными матросами и красными командирами, что-то воинственно выкрикивали и, отбирая у зрителей билеты, протыкали бумажки штыками винтовок. Публика крутила головами одновременно и боязливо, и восхищенно. Перешептывались:
– Какая находка!
– Отличное воссоздание атмосферы!
– Высоцкому так идет бушлат!
– Говорят, он снова будет сниматься у Хейфеца здесь, на «Ленфильме».
– А что за картина?
– Пока не знаю, вроде по Чехову что-то. Я слышала, что пригласили Даля, Терехову и Максакову[2].
Сказочное настроение Али на какие-то секунды помрачнело: «Других пригласили, а про нее забыли. А она бы тоже могла и по Чехову, и с Высоцким». Но грустные мысли быстро были вытеснены новыми всеобщими вздохами восхищения:
– Демидова!
– И Золотухин, Золотухин!
– Где? Где?
– Да вот же, с винтовкой.
– А у Хмельницкого лента пулеметная.
– Точно. И гитара. А почему гитара не у Высоцкого?
– Да они же все поют.
– Я думала «Доброго человека…» привезут, а тут…
– Вам не нравится? По-моему, очень смело. На злобу дня, так сказать.
– А Брехт не на злобу дня? Доброта в современном мире – понятие устаревшее. И потом обидно: Москва бурлит, Москва кипит, обсуждает, а у нас винтовки со штыками.
– Ну, нам тоже есть что обсудить: «Мещане» в БДТ или «Пигмалион» в Ленсовете. Фрейндлих просто…
– Да «Пигмалиону» уже десять лет скоро стукнет! Смотрите, Филатов в бескозырке!
Аля вспомнила красавицу-актрису, чей исполненный достоинства взгляд провожал ее с театральных афиш, и почему-то стало обидно и за нее, и за весь театральный Ленинград, и за самих ленинградцев, рвущихся посмотреть на московских актеров, как на небожителей, хотя в их родном городе могли встретиться таланты и равные по силе, и даже более яркие, чем столичные.
Двери в зал распахнулись, артисты, поддерживавшие революционную обстановку в фойе, начали грозными окриками подгонять публику к партеру и амфитеатру. Людская река потянулась к креслам, помреж Серега решительно схватил Алю за руку, чтобы их не раскидало по разным берегам, но девушка руку выдернула и стремительно «поплыла» против течения. Ей захотелось уйти, она почувствовала, что очарование волшебства исчезло. Она хотела проникнуть в сказку, а оказалась… Аля вдруг живо представила себе антракт, во время которого зрители станут обсуждать не постановку, не игру актеров, а их внешний вид и личные проблемы:
– Играет превосходно, с надрывом, но ощущается какая-то потрепанность, надлом.
– Говорят, он употребляет.
– Да что вы?!
– И не только алкоголь.
– А что же еще? Я не понимаю. Нет, вы объясните.
– А вы слышали, что N ушла от А к Б, а потом вернулась, но он не смог простить, и теперь они разводятся, а на сцене продолжают играть любовь?
– Неужели? Какая прелесть!
Аля всех этих прелестей слышать не хотела. И это нежелание во сто крат пересилило внутренний голос, требовавший увидеть игру великих и уверявший, что не стоит обращать внимание на сплетников, которых везде пруд пруди. Аля об этом знала, но плавать в одном с ними пруду не хотела даже ради Высоцкого, Филатова и Демидовой.
Она бросилась к выходу.
– Вас проводить? – перегородил ей путь уже немолодой элегантно одетый мужчина.
Девушка окинула его взглядом: лет сорок пять – пятьдесят, одет с иголочки, пахнет хорошим одеколоном, явно прибалтийским, улыбка располагающая, теплая, вот только глаза… глаза настороженные, прохладные и смотрит мимо Али, будто охватывает взглядом все фойе и пытается запечатлеть происходящее в памяти, словно на фотографии. Но вот двери в зал захлопнулись, поглотив в сумраке кресел отчаянно пытавшегося выплыть вслед за Алей помрежа, и незнакомец посмотрел прямо на девушку. В глазах мелькнуло и участие.
– Если подождете буквально минуту, я вас провожу.
Аля хотела пробормотать «Спасибо, не надо», или «Не стоит», или еще какой-нибудь вежливый отказ, но он продолжал смотреть на нее, и не было в его взгляде ни просьбы, ни мольбы, ни даже вопроса, один суровый приказ, который она просто обязана была исполнить. И она не решилась ослушаться. Кивнула, встала рядом, поежилась под отчего-то ставшими неодобрительными и одновременно жалостливыми взглядами гардеробщиц, буфетчицы и даже уборщиц. Ожидание не затянулось. В двери дворца решительно скользнул мужчина, похожий на нового Алиного знакомца как две капли воды. Он был помоложе и повыше, но серый костюм сидел на нем так же безукоризненно и пахло от него тем же тонким прибалтийским запахом и опасностью. Мужчины коротко кивнули друг другу. Вновь прибывший прошел в глубь фойе и прислонился к колонне, а Аля услышала обращенное к ней сухое и резкое:
– Пойдемте!
Всю дорогу до гостиницы он засыпал ее вопросами о съемках и актерах, о разговорах на площадке, о высказываниях режиссера и других членов съемочной группы, а Аля, отвечая мимоходом безобидную околесицу, размышляла о своем. О том, кто неожиданно повстречался на ее пути, она догадалась уже через полквартала странных проводов, но, вопреки общепринятому желанию поскорее избавиться от такого провожатого, почувствовала неожиданный интерес. Он хочет использовать ее в своих целях – что ж, она может быть ему полезной. Но, как говорится, баш на баш.
– Вы оставьте мне свой телефон, – сказала она, прощаясь. – Я, если вспомню что-нибудь интересное, позвоню.
Изумленный взгляд, вскинутые брови – он привык к людской нелюбви. Но телефон оставил, даже два. По первому, явно рабочему, Але на следующий же день отозвалась женщина со стальным голосом и объявила, что она «дозвонилась в приемную товарища Артемьева», а вот по второму в течение дня не отзывался никто, и только вечером раздался отрывистый, деловой баритон вчерашнего знакомого:
– Слушаю! Говорите!
Говорить Аля не стала. Не стала ни в тот раз, ни через неделю, ни через десять дней, но звонить продолжала регулярно, проверяя, не раздастся ли на другом конце провода женский голос. Ей отвечал резкий, раздраженный мужской. И через две недели, когда перспектива объятий пензенской драмы стала слишком навязчивой, Аля решилась:
– Я бы хотела встретиться. Это Алевтина Панкратова. В командировку дня на три? Встретиться с вашим коллегой? Нет-нет, я бы предпочла с вами. Да, конечно, подожду до четверга. Да, в центре города будет лучше. Хорошо, просто погуляем.
Аля уже понимала, что тогда, две недели назад, наряжаясь на спектакль «Таганки», она действительно собиралась на самые важные в своей жизни пробы. И она их провалила. Разве так – короткая юбка, вызывающие локоны, яркая помада – должна выглядеть сама скромность и целомудрие, с которой не стыдно и по улице пройтись, и друзьям представить? Сейчас, когда она выпросила у судьбы второй шанс, партию следовало разыграть безукоризненно.
Женщина со стальным голосом, восседавшая в приемной, оказалась именно такой, какой Аля себе ее представляла: очки, пучок, неказистый костюм, полное отсутствие косметики, тонкие, плотно сжатые губы и никакого интереса к молоденькой уборщице, в которую Аля перевоплотилась в клозете закрытого ведомства. Впрочем, для обладательниц глаз с поволокой, отменного бюста, который грозил разорвать и без того слишком вольное декольте, жалостливо рассказывающих, что она потеряла ключи от квартиры и «папа-полковник» (фотографию которого Аля увидела пять минут назад на Доске почета) будет очень недоволен, если его дочь по милости бдительной охраны станет разгуливать под дождем в ожидании конца рабочего дня, – для таких девиц охрана не могла не сделать исключения. Через десять минут после искусно разыгранной сцены Аля, облачившаяся в синий халат и старые, залатанные чулки и вооружившаяся ведром и тряпкой, уже вертелась вокруг дамы с пучком и безостановочно зудела:
– Кабинет бы убрать. Мне бы кабинет убрать!
– Я же ясно выразилась, – щеки бесцветной дамы грозили приобрести свекольный оттенок, – Юрий Николаевич в командировке. В кабинете прибрано, и без его разрешения…
– У вас свое начальство, у меня свое. Пыль, она всюду проникает – и через окна закрытые, и через двери заколоченные. А ну как на меня проверку напустят, что тогда? И уволят ведь по вашей милости, а меня на руках двое младшеньких после смерти родителей остались. – Аля шмыгнула носом и провела грязной рукой по вмиг покрасневшим глазам. – Чем я их кормить стану? Ну что вам стоит кабинет открыть, а? Я ж одна нога здесь, другая там: пыль смахну, пол освежу, и готово. Вы постойте со мной, посмотрите, если не доверяете.
– Ладно.
Женщина встала из-за стола, держа спину настолько прямо, что, казалось, та сломается при любом неосторожном движении. Спину, однако, держали уродские широкие каблуки и предостерегали ее от перелома. Каблуки застыли на пороге кабинета, прислонив спину к косяку двери. Плотно сжатые губы и цепкие глаза неотрывно следили за перемещениями девушки и тряпки. Аля и сама не знала, что хотела найти в кабинете, какую зацепку, какую помощь. Быстро стреляла глазами по сторонам, не забывая орудовать шваброй. Ее внимание привлек томик Тургенева, неожиданно затесавшийся среди собрания сочинений Ленина, неизменного «Капитала» и, конечно же, Конституции. Под портретом Брежнева стоял комод с незатейливыми статуэтками и несколькими курительными трубками. На маленьком столике у торшера лежала прикрытая «Правдой» книга. «Марина Цветаева», – прочитала Аля, смахивая со столика пыль. Тургенев, Цветаева, трубки – хорошие детали для успешной реализации плана, но того единственного, бьющего прямо в цель элемента Аля пока не видела. Она взялась за письменный стол хозяина кабинета – и вдруг…
– Какая красивая! – Она повертела в руках фотографию женщины, осторожно обтирая тряпкой рамку.
Губы надзирательницы сжались еще плотнее, потом процедили:
– Поставь на место, пока не разбила.
– Конечно, конечно. – Аля выпустила снимок, отвернулась, отложив в памяти темные, чуть раскосые глаза, светлые волосы, высокие скулы и волевой подбородок. – А кто это? – спросила почти небрежно.
– Много будешь знать… Давай заканчивай, некогда мне!
– Только со шкафа смахну. Она, знаете, на маму мою чем-то похожа. Та тоже красавицей была, пока ее болезнь проклятущая не доконала. – Алю нисколько не смущал момент похорон собственной живой и вполне здоровой матери. – Вот не поверите: если в профиль посмотреть, так прямо вылитая мама, – новый всхлип и движение грязных рук по глазам.
– Эта женщина тоже умерла, – голос секретарши потеплел. Почему-то многие считают, что лучшим утешением в переживаниях может стать рассказ о чужом тоже свалившемся на кого-то горе. Аля склонна была считать, что от трагедии отвлекают положительные эмоции, но мнение очкастой дамы в данный момент играло ей на руку. – Жена Юрия Николаевича. Ее уже десять лет как нет.
– Такая молодая! – Аля решила, что имеет полное право снова подойти к портрету. Взяла фотографию, повертела в руках.
– Да, – сухо произнесла секретарь, оказавшись рядом с Алей. Она тоже смотрела на снимок, и в холодных глазах ее, как показалось девушке, на мгновение мелькнула жалость. – Рак, – отрывисто добавила женщина и потом чуть более нежно: – Юрий Николаевич так убивался.
– Я тоже до сих пор не могу оправиться от смерти родителей.
– Вот и он все никак забыть не может, – в голосе неожиданно послышалось отчаяние. – Столько лет прошло, а он…
«Классический пример влюбленности в шефа», – догадалась Аля.
– У меня-то забот много, не погрустишь особо. Брат с сестрой еще маленькие, о них заботиться надо.
– А ему заботиться не о ком. Она ему и женой была, и ребенком. «Зачем, – говорил, – мне дети, если у меня Светланка есть?» Надышаться на нее не мог, если бы только пожелала, он бы и звезду для нее достал.
– А она? Она его любила?
– Да я-то откуда знаю! – неожиданно разозлилась женщина. – Давай выметайся, хватит лясы точить!
Аля послушно покинула кабинет. Она узнала более чем достаточно. Объект ее интереса был одинок, нелюдим и безнадежно влюблен в давно покойную супругу – отличный материал для достижения собственных целей.
Перед назначенной встречей Аля провела целый час в кресле гримера. Не потому, что сходства было так сложно достичь, а потому, что образ она собиралась воспроизводить много дней подряд и требовала от художника подробнейшей инструкции, что, как и в какой последовательности наносить. После того как у актрисы не осталось ни малейших сомнений в своих способностях, она отправилась в костюмерную «Ленфильма», откуда под расписку забрала черную юбку-карандаш ниже колена, черную же кашемировую водолазку, высокие сапоги и короткий жакет из светлой замши, – все то, во что была одета женщина со снимка. В номере девушка переоделась и придирчиво себя осмотрела: новые пробы обязаны были закончиться полным ее триумфом.
Триумф не заставил себя ждать.
– Простите, меня сложно узнать, – сказала она, подходя к скамейке, на которой до этой минуты безучастно восседал человек, встречу с которым по собственной воле не назначил бы ни один нормальный актер. Человек взглянул на нее и онемел. Аля же безмятежно продолжала: – Для роли перекрасили, придется теперь так походить (на ней был парик, но съемочных дней осталось совсем немного, и уж тогда ничто не помешает отправиться в парикмахерскую).
– Вам очень идет, – выдавил он, нервно сглотнув.
– Спасибо. Пройдемся?
– Конечно, – он встал со скамейки и осторожно взял ее под руку.
И они пошли. Она говорила, говорила, говорила…
– Есть предложение сыграть Асю. Не могу решиться. Уже стольких великих переиграла, а на Тургенева не решаюсь. Знаете, он ведь мой любимый писатель. По-моему, нет никого более трогательного и проникновенного.
Он ничего не отвечал, только осторожно пожимал ее локоть.
– Так быстро летит время. Смотрите, уже темнеет, а небо какое красивое, – продолжала Аля как ни в чем ни бывало, – помните, как у Цветаевой: «Облачко, белое облачко с розовым краем выплыло вдруг, розовея последним огнем…»
– «Я поняла, что грущу не о нем, и закат мне почудился – раем», – подхватил он, уже прижимаясь к ней все теснее и не сводя с ее лица восторженных глаз. – Может, зайдем в кафе? Становится прохладно.
Аля не кокетничала и не робела. Она старательно играла в естественность: