Логика. Том 1. Учение о суждении, понятии и выводе Зигварт Христоф
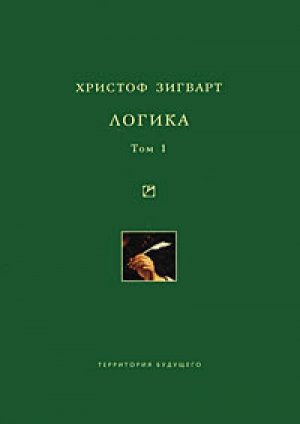
Генрих Майер
ХРИСТОФ ЗИГВАРТ. БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Пятого августа 1904 года Христоф Зигварт скончался от тяжкой сердечной болезни. Ему не суждено было самому выпустить в свет уже законченное третье издание своей «Логики». Так задача эта выпала на долю автора этих строк. Быть может, позволительно предпослать этой книге, которая поистине составляет жизненный труд ее автора, несколько слов по поводу ею научного возникновения и действия.
Родился Христоф Зигварт 28 марта 1830 г. в Тюбингене. Он происходит из семьи, которая начиная с XVI столетия дала герцогству, а позднее королевству Вюртембергскому целый ряд духовных лиц, чиновников и университетских преподавателей. Его отцом был философ H. C. W. Sigwart, в 1816–1841 гг. профессор философии в Тюбингене, затем вплоть до своей смерти, последовавшей в 1844 г., прелат и генерал-суперинтендант в Штутгарте. Это был в высшей степени плодовитый и в свое время, как историк философии, высоко ценимый писатель, который – так характеризует правильно сын научное положение отца – «в своем ясно рассудительном образе мыслей стал, конечно, в резкую оппозицию к гегелевской философии и поэтому являлся для ее учеников как представитель отжитой точки зрения». Вместе с отцом Зигварт прибыл в 1841 г. в Штутгарт и здесь в течение пяти лет посещал гимназию. Шестнадцати лет он поступил затем как питомец института в Тюбингенский университет, чтобы изучать здесь философию и теологию.
В Тюбингене тогда настало для теологии золотое время. Это было время расцвета тюбингенской школы. Ferdinand Christian Ваш, основатель школы, стоял на вершине своего влияния. David Friedrich Strauss на десятилетие опередил своей книгой «Жизнь Иисуса» учителя, критические работы которого оказали на него все же возбуждающее действие. Еще не прекратилось влияние того движения, которое было вызвано революционной книгой тюбингенского помощника преподавателя в институте. И уже сам учитель приступил к своим составившим эпоху исследованиями о древнейшем христианстве. Серьезный, преисполненный воодушевления за свое дело исследователь, которому не чужды были также и ноты иронии, производил глубокое впечатление на молодых теологов. Об этом в прекраснейшей форме свидетельствуют те «воспоминания», какие Зигварт написал для своих семейных в последние годы своей жизни. Он сам испытал продолжительное влияние со стороны этого мужа и его образа мыслей. Преимущественно Бауру обязан он тем критическим пониманием истории и тем историческим методом, о каких свидетельствуют его позднейшие историко-философские работы. Но в историке Бауре его прежде всего привлекал именно философ, тот философский дух, с каким основатель тюбингенской исторической школы умел проникать в историю. Здесь, конечно, вместе с тем уже тогда зачалась его критика. Баур был гегельянец и охотно говорил, даже в изложении истории догматов, о самодвижении идеи и об ее имманентной диалектике. Но «абсолютная философия» уже утратила добрую долю своего очарования. Также и в Тюбингене вот уже несколько лет как исчезло воодушевление Гегелем. Таким образом, гегельянский элемент в бауровском взгляде на историю вызывал юных студентов на противоречие. Сам Зигварт уже в те годы – первоначально под влиянием тюбингенского теолога Ландерера – энергично принялся за изучение Шлейермахера. Но это не было все же отклонением от Баура. Ведь и он также вышел от Шлейермахера, и в кругу его мыслей нашли себе выражение также и шлейермахеровские идеи.
Наряду с Бауром в духе учителя действовал целый ряд талантливых учеников. Зигварт ревностно слушал отчасти также и их. Самый значительный среди них, Эдуард Целлер, с которым Зигварт позднее вступил в дружеские, сердечные отношения, перешел в Берн уже во время его первого семестра. Но косвенно Зигварт был все же его учеником. От одного из товарищей по университету он сумел раздобыть себе лекционные записки Целлера по истории греческой философии. Я нашел их среди оставшегося от Зигварта наследства.
Мало привлекательного находил Зигварт у официальных представителей философии. В Фихте отталкивало его «претенциозное тщеславие», с каким этот последний «преподносил почти что тривиальные вещи». Выше ценил он Keiff’а, который, «находясь особенно под влиянием Фихте (старшего), привлекал строго систематическим построением мыслей и острой диалектикой». Между тем сильнее, нежели специальные философские лекции, пленяли его другие вещи. В то время в университете он положил основание тем необыкновенно богатым и многосторонним знаниям, какие впоследствии весьма пригодились для его методологических исследований.
С особенной любовью, вынесенной уже из школы, он занимался математикой, астрономией и физическими науками. И впоследствии он всегда охотно вновь возвращался к ним. Но когда извне последовало приглашение целиком посвятить себя естественным наукам, он не мог решиться на это. Решающую роль в этом отказе сыграло – об этом свидетельствуют заметки из пятидесятых годов – то, что он понимал, что если кто приступает ныне к изучению естественных наук, тот должен заглушить в себе философскую склонность и целиком уйти в исполненную отречения частичную работу эмпирического исследования. А его самого ведь больше влекло к философии.
Весною 1851 г. Зигварт покинул университет. После сравнительно продолжительного путешествия, во время которого он побывал во Французской Швейцарии, в Южной Франции, Англии и Шотландии, он был в течение нескольких лет преподавателем в учебном заведении тайного советника Эйлерса в Freiimfelde у Галле. Затем он занимался педагогической деятельностью еще раз в течение нескольких лет. И впоследствии он не считал этого пути через школу за обременительный путь. Преподавательская деятельность в средней школе казалась ему наилучшей подготовкой к призванию преподавателя в высшей школе.
Еще в Freiimfelde Зигварт закончил сочинение о Pico de Mirandula, за которое в декабре 1854 г. он получил в Тюбингене степень доктора философии. Одновременно он подготовил к печати работу на соискание премии о теологии Цвингли, которую он выполнил, еще будучи студентом. Весной 1855 г. он вернулся в качестве помощника учителя в тюбингенский институт. В качестве такового он преподавал вместе с тем в университете. Так, он прочел лекцию о Шлейемахере, а затем другую – о главных направлениях новейшей антропологии. Из первой лекции возникли затем статьи о теории познания и психологии Шлейермахера, которые появились в 1857 г. в «Jahrbcher fr deutsche Theologie».
Их автор снова вернулся, таким образом, к занятиям своих студенческих годов. Для человека, вышедшего из теологии, этот предмет мог, конечно, быть довольно близким. Но он вернулся к Шлейермахеру все же в силу более глубоко лежащего мотива. Исход движения 1848 г. совершенно уничтожил значение гегелевского идеализма, и в реакционное время пятидесятых годов рушились также последние остатки философской романтики. Для немецкой философии тем самым настало время глубочайшего упадка. Когда-то оттесненные назад противники романтической спекуляции приобрели теперь, конечно, почву Школа Гербарта стала теперь силой. Шопенгауэр нашел в те годы столь долго не появлявшееся и столь страстно желанное признание. Но философией дня был материализм. В философских кругах начинало уже пробуждаться понимание того, что немецкая философия нуждается в новом критическом основоположении. Но к этому еще не пришли. В таком положении Зигварт хватается за диалектику Шлейермахера.
В своих сочинениях он добивается, конечно, прежде всего исторического понимания Шлейермахера. Но едва ли возможно ошибиться на счет того, что все старание автора направлено к тому, чтобы под руководством этого учителя снова приобрести твердую философскую почву. И это не случайность, что с особенным старанием он вскрывает в теории познания Шлейермахера «кантовскую» сторону. То, что в существенном она «покоится на предпосылках
Два года спустя в статье «Zur Apologie des Atomismus» он дает дополнительный вклад к истории материализма. Он стремится утвердить здесь, вопреки теологам, право атомизма и всего механического понимания природы. Однако в то же время он старается показать, что естественно-научные теории никогда не смогут вторгнуться в пределы научной теологии. Он приближается, таким образом, к точке зрения «спекулятивных текстов». Он прямо и указывает также на них. Конечно, у него весьма мало общего с руководителями этого движения Вейссе, Йог. Гот. Фихте. Однако он весьма близко соприкасается с наиболее значительным и наиболее своеобразным среди них, с Германом Лотце. Но и по отношению к нему он также является самостоятельным. И при том не только в отдельных вопросах. У Лотце господствующая мысль – это апологетическая цель: примирить потребности сердца с результатами науки. Зигварт, напротив, преследует критико-познавательную точку зрения. Он прежде всего стремится определить логический характер, значимость и ценность связанных с механическим пониманием природы теорий; так приходит он к своему отрицательному приговору о материалистической метафизике. Та же самая критико-познавательная тенденция приводит его к тому, чтобы оградить сферу права теологии от неправомерных вторжений. И в консервативном или, его угодно, скептическом стремлении оберегать при случае также и право старого по отношению к слишком радикальным и слишком уверенно выступающим гипотезам он становится на сторону той позиции, какую занимает «теология примирения». Для него самого, однако, все осталось при шлейермахеровской . От Лотце уже тогда отделяло его то, что было в его мышлении кантовского.
Зигварт намеревался по защите диссертации занять кафедру философии в Тюбингене. Но внезапный упадок сил нарушил его планы. В 1859 году он отправился в Blaubeuren в качестве преподавателя. Однако уже спустя немного лет, осенью 1863 г., он был приглашен в Тюбинген занять освободившуюся благодаря уходу Фихте кафедру. Осенью 1865 г. он стал ординарным профессором.
Литературные работы этих и последующих лет движутся сплошь в исторической области. Еще в Blaubeuren Зигварт выступил против несправедливого суждения Либиха о Бэконе. Либих возражал, и спор длился еще некоторое время. Великий химик был в этом случае прав: традиционное понимание, усматривавшее в Бэконе не только пролагающего пути методолога и натурфилософа, но вместе с тем и экспериментирующего естествоиспытателя в нынешнем смысле, – это понимание было несостоятельно. Но критику недоставало понимания исторических предпосылок, из которых только и можно было оценить такого мыслителя, как Бэкон. Зигварт ограничил нападки Либиха той мерой, какая соответствует исторической истине. – Его ближайшие работы имеют своим предметом «краткий трактат» Спинозы, который был найден незадолго до этого. Результаты этих работ ныне в различных пунктах уже превзойдены. Несмотря на то, эти исследования сохранят основоположное значение для исследований о Спинозе.
Также и впоследствии Зигварта всегда вновь влекло к историческим занятиям. И при том он особенно охотно останавливается на том переходном времени, когда подготовлялась современная наука. Так, он трактует об Агриппе из Неттесгейма, о Феофстрате Парацельзе, о Джордано Бруно, о Томасе Кампанелле, о Иоганнесе Кеплере и Якове Шегке (Schegk). Это образы, которые мастерски умеют схватить колорит времени, также и по форме это небольшие художественные произведения, совершенно освобожденные от ученого аппарата, который все же применяется с точной добросовестностью историка. Зигварт вообще в высокой мере обладал даром рисовать эпохи и характеры. И можно было бы, пожалуй, сожалеть, что он не стал вполне историком философии.
Но немецкому философу в то время была поставлена более важная задача. В то время серьезно стали работать над новым обоснованием философии. Уже психология готова была развиться в настоящую эмпирическую науку. С начала шестидесятых годов далее зачалось мощное движение, которое, примыкая к Канту, стремилось создать для самой философии теоретико-познавательное обоснование. К этой работе примкнул теперь также и Зигварт. Правда, ни в более узком, ни в более широком смысле он не принадлежит к «кантианцам», к которым он все же стоял близко по своему научному прошлому. От переоценки Канта, которая, конечно, была понятна как естественная реакция против прежнего пренебрежения, его предохраняла уже острота его исторического понимания, от которого не ускользнули исторически обусловленные элементы кантовского мышления. Но, наконец, тут было одно более глубоко лежащее соображение, которое повелело ему идти своей собственной дорогой. Теоретико-познавательное исследование ведь снова приводит к метафизическим проблемам, разрешение которых всегда должно оставаться гипотетическим. А Зигварт не противник метафизики, и он становится затем решительно на почву реалистической теории. Но все это такие вопросы, с которыми философия, к счастью, встречается лишь в конце своего пути. Здесь, разумеется, они должны появиться: последние основания мышления и познавания кроются в метафизическом мраке. Но ближайшей и настоятельнейшей работой, которая вместе с тем единственно только в состоянии привести философию во внутреннюю связь с особыми науками, является исследование самого логического мышления, как оно, руководимое своей имманентной нормой истины, в науке находит свое наиболее совершенное применение. Это приводит дальше к установлению предпосылок, основных понятий, методов и теорий научного познания и в конце концов к критическому уяснению всего целого нашего знания, – и только это уяснение открывает взгляд на высшие принципы природной и духовной действительности. Но тем путем, на котором достижима эта цель, может быть лишь психологический анализ функции мышления и рефлексии над методами фактической науки.
Из таких соображений возникла «Логика» Зигварта. В течение работы он вступил в тесное соприкосновение с представителями теории познания, вышедшими от Канта. Навсегда ценными основными мыслями кантовской критики познания он воспользовался с благодарностью. Во всяком случае, Зигварт был одним из тех мужей, которые приняли наиболее выдающееся участие в критическом обновлении немецкой философии.
В 1873 г. вышел в свет первый том, а в 1878 г. второй том труда Зигварта. Можно сказать, что с появлением этой «Логики» для истории дисциплины наступила новая эпоха. Это было осуществлением давно назревшей реформы. Правда, и до этого не было недостатка в различных реформаторских попытках. Так, Тренделенбург и Ибервег пытались насильно вернуть назад, к аристотелевской метафизике традиционное развитие, которое вылилось в формальную логику, логику мышления, ограничившегося самим собою, отвратившегося от действительности. Наиболее решительно английские логики – прежде всего Дж. Ст. Милль и затем В. Стэнли Джевонс, с которым Зигварт часто сходится в учении об индукции, – стали приводить в связь логику с положительными науками. Подобными же стремлениями руководится «Логика» Лотце, которая появилась в свете вскоре после первого тома «Логики» Зигварта. Но нигде старое не было в действительности преодолено, нигде логическое мышление не было вместе с тем схвачено в своей глубине и не прослежено через всю область егогосподства. Лишь Зигварт, с одной стороны, кладет в основу логики глубокую психологию мышления, а с другой – принципиально и последовательно строит ее «с точки зрения учения о методе». Тем самым он открыл новые пути.
Книга имела для науки универсальное значение. Таково и было ее действие. Не только философы научились из нее – и они научились из нее большему, нежели об этом можно судить по обычному изложению истории, интересующемуся только «системами», – ни одна из философских дисциплин не избежала определяющего влияния этой «Логики». Но и для положительных наук немалое значение имеет то критическое уяснение их основных принципов, которым они обязаны глубокому и осторожному анализу этого методолога; во всяком случае, значение это больше того, какое принадлежит какой-либо системе философии природы или духа. И у многих из ученых и исследователей этих дисциплин именно благодаря Зигварту пробудились понимание и интерес к общим предпосылкам, я мог бы сказать: к философской стороне их работы.
В ближайшие годы следуют меньшие работы, которые ведут дальше исследования «Логики». Так, в особенности юристами с благодарностью встреченная статья: «Begriff des Wollens und sein Verhlthis zum Begriff der Ursache», ценный вклад в аналитическую психологию хотения. Далее юбилейное сочинение «Vorfragen der Ethik», которое равным образом стремится постигнуть путем психологического анализа сущность морального стремления. И наконец, исследование «Die Impersonalien», которое, с логической точки зрения, устанавливает отношение к проблеме, много обсуждавшейся также и филологами. Общий результат этих работ нашел себе применение в значительно расширенном втором издании «Логики». Главным образом обращают здесь на себя внимание новые исследования по методологии психологии и исторических наук. Со времени выхода в свет первого издания в психологии многое было сделано и было не мало споров о психологических теориях. Равным образом и логика наук о духе получила с тех пор новые, глубоко захватывающие импульсы. Зигварт в свою очередь высказывается также по всем этим вопросам.
Уже в первом, а еще более в этом втором издании снова бросается в глаза та консервативная тенденция, которая к новым теориям относится, по-видимому, скорее с недоверием, нежели благожелательно, которые излюбленным предрассудкам приносит, по-видимому, в жертву научные интересы. Так можно было бы истолковать отношение Зигварта к эмпиристическому учению о познании и этике, его полемику против психофизического параллелизма, его решение по вопросу о свободе воли, его суждение об экспериментальной психологии, его осторожность по отношению к известным современным стремлениям в области исследования наук о духе. Так же можно истолковать, наконец, телеологическое направление его мышления и указание на идею Бога, которой заканчивается «Логика». Поистине Зигварт преклоняется только перед фактами, только перед фактической действительностью. Именно психические факты делают для него более приемлемым дуалистическое учение о взаимодействии, нежели параллелистическую теорию. В природе психических объектов усматривает он границы для их экспериментального исследования. Своеобразный характер отдельных кругов фактов служит для него верховной методической директивой для научного работника. С этой точки зрения он энергично выступает в защиту собственного права и самостоятельности наук о духе, по отношению к естественным наукам, и ничто не кажется ему более ошибочным, нежели преждевременное перенесение естественно-научных методов и теорий на область психологического и исторического исследования. Перед фактами склоняется он даже там, где они противостоят очевидным гипотезам. Так, детерминизм он признает методическим требованием психологии – и все же он не может согласиться с ним, так как с этой теорией, по-видимому, не согласуются неоспоримые особенности фактической волевой жизни. Уважение перед фактами обостряет в то же время его взор к относительности нашего познания. Отсюда – неустанное старание о разграничении фактов и гипотез, отсюда – нерасположение к слишком поспешным обобщениям и построениям, скептическая сдержанность по отношению к сменяющимся мнениям дня, даже если эти последние облекаются в костюм «точности»; отсюда – антипатия к никогда ничем не затрудняющейся поверхностности, которые все знает и нигде не усматривает уже проблем; отсюда, наконец, также и ясно выраженное сознание границ нашего знания вообще. Но по отношению ко всему целому человеческого познавания и хотения у нашего методолога невольно возникает мысль о том, что в последней основе мира, к которой обратно приводит также и логика, должно действовать нечто вроде силы целеставящего хотения. Адекватным познанием эта телеологически – теистическая вера не хочет быть, и она притязует также лишь на значимость и ценность постулата. Но на заднем плане и теперь стоит та же критическая . Но в этом смысле Зигварт утверждает право своего убеждения с выдающейся объективностью философа, который стоит выше ограниченности односторонних спекуляций.
Второе издание «Логики» вышло в свет в 1889 и 1893 гг. С тех пор Зигварт – конечно, встречая в течение сравнительно долгого времени помеху со стороны болезни – продолжал работать в том же самом направлении, и результаты этой работы отчасти могли найти себе применение в третьем издании «Логики». Но вплоть до времени своей последней болезни он носился с широкими литературными планами. Именно он занимался психологическими вопросами, и у него была мысль, в свою очередь, вмешаться в психологическое движение современности. Целый ряд статей имеется в готовом виде, а также и отдельные части его лекций вполне готовы для печати. Но он не мог решиться выпустить их в свет. Пусть будет так: он взял со своих домашних слово, что они не опубликуют ничего из его литературного наследства.
Как преподаватель, Зигварт развил необычайно плодотворную деятельность. В его самолюбие, правда, не входило образовать школу. Однако немало имеется таких людей – и не только философов по специальности, – которые с благодарностью признают, что они на всю жизнь получили от него определяющие импульсы к своей собственной работе. Но чрезмерно велико число тех, которые обязаны ему пониманием и интересом к философским вещам. И многие спешили издалека, чтобы послушать его. Кто хотя бы однажды видел его на кафедре, у того останется в памяти образ этого мужа: интересная голова, значительное, умное лицо, одинаково выражающее как мыслителя с проницательным умом, так и энергично выраженную индивидуальность, брызжущие жизненностью глаза, необычайно подвижная игра мимики и жестов, так характерно отражающая внутреннюю работу мысли и невольно захватывавшая слушателя. Сама лекция живо, ясно, прозрачно построена, неумолимо острая в ходе мысли; в целях облегчения понимания выражения нередко варьирует – и все же ни одного лишнего слова; стилистически тонкая и благородная, в адекватности выражения она дает как раз прообраз того, о чем говорит; она направляет мысль всегда к конкретному, наглядно изображая ее на примерах, она всегда старается спуститься до уровня слушателей – и все же никогда не тривиальна. Правда, то, что философ не преподносил студентам готовой системы, а напротив, вводил их в самые проблемы, рассматривая и освещая их всесторонне, – это обстоятельство кое-кому тотчас же не нравилось. Но едва ли кто из проникнутых серьезным стремлением мог в течение долгого времени устоять перед влиянием его педагогического искусства.
Что за человек был Зигварт – об этом мне нечего здесь говорить. Его жизнь была тихой жизнью ученого. При том высоком представлении, какое он имел о задачах университетского преподавателя и ученого, его работа доставляла ему полное удовлетворение. И все же он меньше всего был односторонним ученым. Правда, он не чувствовал себя призванным действовать в широких кругах. Однако этот исполненный характера муж довольно часто имел случай служить общественному интересу и за пределами своего призвания. И там, где дело шло о том, чтобы выступить ради блага своего университета и ради дела науки, – там он никогда не оставался позади. Он принимал ревностное участие в делах управления высшей колы, а также с преданностью отдавался тем задачам, какие лежали на нем, как на инспекторе тюбингенского «института».
У него не было недостатка во внешних знаках признания. Трижды получал он из-за пределов своей родины приглашения – сперва от Вюрцбургского, затем от Лейпцигского и, наконец, от Берлинского университетов. Богословский факультет в Тюбингене и юридический факультет в Галле наградили его степенью почетного доктора, Берлинская и Мюнхенская академии избрали его членом-корреспондентом. Также и со стороны своего отечественного правительства он получил целый ряд отличий. Наконец, когда он покидал свою должность, король наградил его чином тайного советника с титулом «его превосходительство». Зигварт искренне радовался этим почестям, которых он не домогался, – однако со спокойствием философа.
Перечень литературных работ Христо фа Зигварта (за исключением рецензий и более мелких статей в журналах и сборниках)
Ulrich Zwingli und der Charakter seiner Theologie, mit besonderer Rcksicht auf Picovon Mirandula. 1855.
Schleiermachers Erkenntnisstheorie und ihre Bedeutung fr die Grundbegriffe der Glaubenslehre. Jahr, fr deutsche Theologie, II, 267 и сл. 1855.
Shleiermachers psychologische Voraussetzungen, insbesondere die Begriffe des Gefhls und der Individualitt. Jahrb. Fr deutsche Theol. II, 829 и сл. 1857.
Zur Apologie des Atomismus. Jahrb. fr deutsche Theol. IV, 269 и сл. 1859.
Schleiermacher in seinen Beziehungen zum Athenum der beiden Schlegel, und Geschichte des Klosters Blaubeuren. Blaubeurer Seminarprogramm. 1861.
Huldreich Zwingli, Leben und Auswahl seiner Schriften in der Evang. Volksbibliothek herausg. von Klaiber. Stuttgart, 1862.
Ein Philosoph und ein Naturforscher ber Franz Bacon v. Verulam (gegen Liebig). Preuss. Jahrb. 1863.
Noch ein Wort ber Franz Bacon von Verulam. Eine Entgegnung. Там же. 1864.
Eine Berichtigung in Betreff Bacons. Beilage zur Allg. Zeitung vom 20 Mrz, 1864.
Spinozas neuentdeckter Tractat von Gott, dem Menschen und dessen Glckseligkeit. Erlutert und in seiner Bedeutung fr das Verstndniss des Spinozismus untersucht. Gotha, 1866.
Benedict de Spinozas kurzer Tractat von Gott, dem Menschen und dessen Glckseligkeit. Ins Deutsche bersetzt, mit einer Einleitung, kritischen und sachlichen Erluterungen begleitet. Tbingen, 1870.
Beitrge zur Lehre vom hypothetischen Urteil Programm. 1870.
Temperamente, статья в Pdagogische Encyclopdie von Schmid, т. IX. 1873.
Логика, 1-e изд. 1873 и 1878; 2-е изд. 1889 и 1893; 3-е изд. 1904. Английский перевод Helen Dendy, просмотренный автором. Лондон, 1895.
Giordano Bruno vor dem Inquisizionsgericht. Programm. 1879.
Der Begriff des Vllens und sein Verhltniss zum Begriff der Ursache. Programm. 1880.
Обе последние вещи в просмотренном виде включены в Kleine Schriften[1]. 2 Bnde. 1881. 2-е изд. 1889.
Logische Fragen. Vierteljahrsschr. fr wiss. Philosophie, IV, 454 и сл. V, 97 и сл. 1880 и 81.
Vorfragen der Ethik. Festschrift zum fnfzigjhrigen Doctorjubilum E. Zellers. Freiburg, 1886.
Die Impersonalien. Eine Logische Untersuchung. Festschrift zum fnfzigj. Doctorjubilum G. Rmelins. Freiburg, 1888.
Gedchtnissrede auf G. Rmelin 6 Nov. 1889.
Ein Collegium logicum im 16. Jahrhundert. Progr. 1890.
Тюбинген, сентябрь 1904.
Поистине печальное положение философской терминологии на русском языке слишком хорошо известно, чтобы нужно было особенно распространяться об этом. Даже вполне компетентные представители русской философской мысли, не говоря уже о сонме некомпетентных, одни и те же термины передают нередко различным образом. Это лишний штрих из нашей общей некультурности. Такого серьезного дела, как выработка философской терминологии на русском языке, нельзя представлять на волю стихийно развивающегося процесса. И нашим компетентным философским сферам – на первом плане Академии наук – давно пора было бы положить конец этому невозможному терминологическому разброду: к этому обязывает долг ученого и философа.
Даже такая, по-видимому, вполне завершенная дисциплина, как логика, к сожалению, не составляет в этом отношении исключения: и здесь царит тот же терминологический разброд и произвол. Это может послужить некоторым – конечно, слабым – оправданием для возможных в настоящем переводе классического труда Зигварта терминологических промахов и пробелов. – Если даже такие основные термины, как «Anschauung», переводятся то как «наглядное представление», то как «созерцание», то как «воззрение», «интуиция», – то что же сказать о менее основных! Наряду с неизбежным благодаря этому и до некоторой степени субъективным и произвольным выбором между различными обозначениями одного и того же термина нам пришлось прибегнуть также к созданию некоторых новых слов за отсутствием на русском языке соответствующих выражений. Таковы предицирование (die Prdicierung), предикатность (die Prdication), несопредикатный (incomprdicabel), копулятивный (copulativ), конъюнктивный (conjunctiv) и др. Избежать этого решительно не было возможности.
В то же время в видах сугубой точности мы наряду с определением (die Bestimmung) говорим о дефиниции, детерминации (лишь в двух специально оговоренных случаях мы употребили ограничительный (determinierend)), а также определять, дефинировать, детерминировать.
Вполне ясное на немецком языке различие между «das Wirken» и «das Tun» очень трудно поддается передаче на русский язык: das Wirken мы передали через процесс действия, акт действия, das Tun – через деятельность. Лучше было бы das Wirken передать через причинение, произведение; но различные контексты, в каких встречается это выражение (особенно во II т.), исключают всякую возможность такой передачи.
Критика не преминет, конечно, указать возможные промахи и пробелы, и мы с благодарностью воспользуемся ее указаниями при втором издании настоящей книги.
В заключение позволю себе выразить искреннюю благодарность Н. О. Лосскому за ту всегдашнюю готовность, с какой он приходил мне на помощь советами и указаниями при выполнении настоящего перевода.
И. Давыдов 8 мая 1908 г.
Последующее являет собой попытку построить логику с точки зрения учения о методе и тем поставить ее в живую связь с научными задачами современности. Пусть само выполнение послужит оправданием этой попытки, и этот первый том, возможно, самым тесным образом примыкая к традиционному облику науки, содержит в себе подготовление и основоположение к этому выполнению. Я должен предпослать лишь одну просьбу, именно чтобы не вменили в вину мне ту скупость, с какой я явно принимаю во внимание как прежние и одновременные обработки в целом, так и отдельные взгляды. Мне казалось, что в столь необычайно много обработанной дисциплине это было бы простым внешним обременением настоящего труда, если бы я захотел, соглашаясь или оспаривая, привести хотя бы только важнейшие из установленных доселе учений. Я должен был бы также опасаться, что предначертанный моим пониманием задачи ход исследования и изложения оказался бы затененным и запутанным, если бы я поставил себе за правило повсюду обсуждать построения, которые часто возникали из совершенно иных посылок. Таким образом, полагаю, я должен был ограничиться тем, что казалось необходимым для точного изложения и оправдания моих собственных положений. Что я воспользовался более старыми и новейшими работами в довольно значительном объеме – об этом едва ли нужно говорить. Трое мужей, труды которых я по большей части имел перед собой и которым я думал выразить здесь свою благодарность, – Тренделенбург, Ибервег, Милль – с кончались, пока шла моя работа надэтой книгой. Кроме того, я должен особенно вспомнить о том поощрении, каким я обязан грандиозному труду Прантля.
Июль 1873
В течение тех пятнадцати лет, какие протекли со времени выхода в свет первого издания этой книги, логическая литература обогатилась целым рядом ценных работ. Великие труды Лотце, Шуппе, Вундта, Бредли (Bradley) – чтобы только назвать наиболее выдающиеся – исходили из той же самой мысли, которая руководила также и настоящим опытом, – положить в основу логики вместо уже бесплодной традиции новое исследование действительного мышления соответственно его психологическим основаниям, а также соответственно его значению для познания и его применению в научных методах. Отдельные главные вопросы логики получили должное освещение в более специальных исследованиях, среди которых с моим пониманием ближе всего соприкасаются работы Виндельбанда об отрицательном суждении, Мейнонга, трактование понятий отношения, остроумные и оригинальные рассуждения Фолькельта.
Для меня отсюда возникла задача подвергнуть новому испытанию свои собственные построения, кое-что, что могло подать повод к недоразумениям, формулировать точнее, иное дополнить и развить дальше или отграничить от отличных взглядов. Но в силу тех же самых оснований, какие я уже приводил в первом предисловии, я должен был отказаться от того, чтобы в более значительной мере включить в настоящий труд те соображения, какие побудили меня удержать свои положения; или упомянуть в отдельности все те критические замечания, которыми я в изобилии должен был воспользоваться. Там, где они действительно касаются того, что я сказал, я с благодарностью воспользовался ими; там, где они покоятся только на недоразумениях, я полагал, что не следует утомлять читателя бесплодным спором. Равным образом и в том случае, когда я соглашался с рассуждениями других, я должен был все же отказаться от намерения обогатить свой труд включением таких исследований, которые лежали далеко от его первоначальных планов. При неисчерпаемости предмета полнота недостижима – и я предпочел принести в жертву выполнению видимости полноты, нежели ясность плана.
Тюбинген, октябрь 1888 г.
Автор
Уже более года, как новое издание этого первого тома было закончено. Однако автор и издатель согласились выпустить в свет оба тома вместе. Этим и объясняется, что книга может быть предложена только теперь и одновременно с вторым томом.
Для новой обработки первого тома снова имели решающее значение те принципы, какие изложены в предисловии к первому и второму изданию. Как ни тщательно следил автор за вновь появлявшейся литературой, но прямо он ссылался на отдельные работы лишь там, где это казалось ему безусловно нужным в интересах собственных построений.
Тюбинген, сентябрь 1904 г.
Генрих Майер
Введение
§ 1. Задача логики
Существенная часть нашего мышления ставит себе целью придти к таким положениям, которые были бы достоверны и общезначимы. Но цель эта часто не достигается путем естественного развития мышления. Из этого факта возникает задача выяснить те условия, при каких может быть достигнута эта цель, и определить согласно с этим те правила, выполнение которых приводит к этой цели. Если бы задача эта была разрешена, то мы имели бы техническое учение о мышлении (Kunstlehre des Denkens), которое давало бы указания, как можно придти к достоверным и общезначимым положениям. Это техническое учение мы называем логикой.
1. Определить, что такое мышление вообще, чем отличается оно от остальных духовных деятельностей, в каких отношениях стоит оно к ним и каковы возможные его виды – все это есть прежде всего задача психологии. Правда, мы не можем сослаться на какую-либо общепризнанную психологию; но для нашего предварительного исследования достаточно вспомнить о словоупотреблении. Здесь под мышлением – в самом широком смысле, во всяком случае – разумеется деятельность представлений, т. е. такая деятельность, в которой самой по себе нет ни внутреннего субъективного возбуждения, обозначаемого нами как чувствование, нет ни непосредственного действия на нас самих или на что-либо другое как в хотении и поступках; значение этой деятельности, наоборот, сводится к тому, что нечто предстоит сознанию как предмет. Но, в отличии от восприятия и наглядного представления, которые выражают отношение субъективной деятельности к объекту, данному независимо от нее, мышление обозначает чисто внутреннюю жизненность акта представления, которая именно поэтому является самопроизвольной, из силы самого субъекта вытекающей деятельностью. А ее продукты, мысли, отличаются поэтому как просто субъективные идеальные образования от тех объектов, какие восприятие и наглядное представление противопоставляют себе как реальные. В этом смысле язык обозначает как воспоминание – думать, вспоминать о чем-нибудь (an etwas denken), так и воображение – мыслить, воображать себе что-либо (sich etwas denken) одинаково мышлением, размышлением и обдумыванием. Но там, где, как в познании внешнего мира, восприятие и мышление относятся к одному и тому же объекту, мы различаем также и самопроизвольное отыскивание, соединение и переработку непосредственно данных восприятию элементов как принадлежащий мышлению фактор от непосредственной их данности.
2. Если под мышлением мы будем понимать прежде всего все то, что под этим понимает словоупотребление, то не может подлежать сомнению, что мышление необходимо и непроизвольно возникает вместе с развитием сознательной жизни и индивидуум, начиная размышлять над своею внутренней деятельностью, всегда находит себя уже среди потока многообразного мышления. В то же время он ничего не может знать непосредственно о начале мышления и об его возникновении из более простых и более ранних деятельностей. Лишь путем трудного психологического анализа мышления, всегда уже охваченного движением, мы в состоянии сделать обратное заключение к его отдельным факторам и производящим силами и составить себе представление о законах его бессознательного становления.
Далее, непроизвольное образование мыслей совершается в течение всей нашей жизни, и в сознательном бодрствующем состоянии попросту невозможно подавить ту внутреннюю жизненность, которая под влиянием разнообразнейших поводов непрестанно нанизывает одни представления к другим, соединяет их во все новые и новые сочетания и, таким образом, помимо нашей воли преподносит нам внутренний мир мыслей.
3. Но над этим непроизвольным мышлением возвышается произвольная деятельность, хотение мыслить : руководимое определенными интересами и целями, оно стремится упорядочить и направить на определенные цели первоначально непроизвольное течение мыслей; в непроизвольно возникающем оно производит выбор, одно отбрасывает, на другое обращает внимание, удерживает и развивает его, отыскивает и следит за мыслями. Мы можем не касаться вопроса о том, есть ли вообще прямое произвольное образование мыслей или же мы лишь косвенно можем создать те условия, при которых непроизвольное образование мыслей создает желательное, ибо результат, в сущности, один и тот же: под влиянием хотения возникают мысли, удовлетворяющие определенный интерес1.
Но интерес этот двоякий. С одной стороны, произвольная деятельность, которую мы обращаем к своему мышлению, подчинена тому общему закону, что приятное мы ищем, а неприятное избегаем. И вот мышление в двояком смысле может подлежать этой точки зрения приятного: во-первых, поскольку всякая естественная деятельность дает чувство удовлетворения в известных пределах его интенсивности; а затем, поскольку многообразное содержание нашего мышления затрагивает нас, как приятное или неприятное.
Если иметь в виду только это, то получается следующее: мы обладаем склонностью отчасти вообще возбуждать свое мышление и позволять ему возбуждаться, чтобы избежать скуки и создать себе времяпрепровождение; отчасти мы склонны бываем давать своему мышлению такое направление, чтобы мыслимое было нам приятно. Когда мы стараемся удержать в себе радостные воспоминания и стремимся оживить их, когда мы создаем проекты и строим воздушные замки, когда мы стремимся прогнать неприятные воспоминания или рассеять страх и боязнь – во всех этих случаях влияние произвола на наше мышление определяется этими мотивами.
Получающееся при этом удовлетворение носит сплошь индивидуальный характер. Отдельный субъект имеет здесь в виду только самого себя, свою особую природу и положение, и поэтому правилом здесь является индивидуальное различие мышления, и никто не может хотеть уничтожить его.
4. Но это стремление получать со стороны мышления непосредственно приятные возбуждения носит подчиненный характер. Более значительная как по своему объему, так и по своей ценности часть человеческой мыслительной деятельности преследует более серьезные цели.
Прежде всего потребности и нужды жизни подчиняют себе мышление и ставят ему такие цели, которые берутся и преследуются сознательно. Наше существование и наше здоровье зависят от сознательной деятельности, от целесообразного воздействия на окружающие нас вещи. Деятельность эта удается не без труда, здесь нет инстинктивной уверенности – напротив, она обусловливается внимательным и вдумчивым наблюдением над природой вещей и над их отношениями к нам, тут необходимы многообразный расчет и выяснение того, каким образом вещи эти могут служить средством для удовлетворения наших потребностей. Человеческое мышление достигает своей цели – обеспечения нашего благоденствия – лишь в том случае, когда оно, опираясь на познание вещей, правильно рисует себе будущее, т. е. когда предвидение согласуется с действительным ходом вещей, который вместе с тем обусловливается нашим вмешательством.
Но правильного познания вещей и их действий требует, минуя даже практическую потребность, всегда живой познавательный инстинкт. Ради одного только чистого познания наше мышление должно стремиться исследовать природу вещей и в совокупности нашего субъективного знания дать верную и полную картину объективного мира. Удовлетворение познавательного инстинкта включает, следовательно, указанные выше цели практического мышления; познание сущего есть та непосредственная цель, которая приводит в движение наше мышление и определяет его направление.
5. Однако этим интересом познавательного инстинкта отнюдь не исчерпываются цели нашего мышления. Такого же напряжения мы требуем от него и в том направлении, которое нельзя подвести под понятие познания сущего. Фактически мы подчиняемся определенным законам, согласно которым мы судим о ценности человеческих поступков, которым мы стремимся подчиняться в своем хотении и деятельности. Для нашего исследования безразлично, откуда возникают эти законы, и в силу какого мотива мы признаем их значимость для себя. Достаточно того, что мы неустанно стараемся соблюдать правила приличия, обычая, права, долга и каждую минуту от нас требуется ответ на вопрос, что должны мы делать и как должны мы поступать, чтобы оставаться в согласии с имеющими для нас значение принципами, чтобы сохранить в чистоте свою честь и свою совесть. Не реальный результат, который ручался бы нам за совпадение нашего расчета с природой вещей, научает нас тому, достигло или нет наше мышление своей цели; самый результат, который имеется в виду, заключается в одних только мыслях; действительным результатом являются также мысли, которые обвиняют или извиняют, признание или непризнание соответствия отдельного поступка общим правилам, исходящее от других и от нас самих.
6. Если иметь в виду последнюю сферу, которая образует наиболее важную часть как нашего практического мышления, так и нашей оценки практических отношений, то перед форумом нашей собственной совести у нас не будет иного признака, достигло или нет руководящее нашими поступками мышление своей цели, кроме внутреннего сознания необходимости нашего мышления, кроме уверенности, что из общего правила неизбежно вытекает определенный образ действия, кроме очевидности, дающей нам успокоение, что в данном случае хорошо и правильно было поступить именно так, ибо этого требовали общие принципы права и нравственности. Равным образом у нас нет никакого внешнего подтверждения, что мы достигли своей цели, кроме согласия других, которые, исходя из тех же предпосылок, признают необходимыми те же самые следствия.
Когда мы говорим о необходимости нашего мышления, то во избежание смешения необходимо прежде всего помнить, в каком смысле говорится это. С психологической точки зрения, все, о чем думает отдельный человек, можно рассматривать, как необходимое, т. е. как деятельность, закономерно вытекающую из данных предпосылок. То, что индивидуум думает об этом, а не о чем-либо другом, есть необходимое следствие круга его представлений, его душевного настроения, его характера, мгновенного возбуждения, испытываемого им. Но наряду с этой необходимостью психологической причинности есть другая необходимость; она коренится исключительно в содержании и в предмете самого мышления; свое основание, следовательно, она имеет не в изменчивых субъективных индивидуальных состояниях, а в природе объектов, которые мыслятся; и постольку необходимость эта может почитаться объективной.
Если наше мышление успокаивается на этом в сознании своей объективной необходимости и общезначимости, то, строго говоря, те же самые признаки выражают цель нашего мышления, когда оно хочет служить познанию сущего. Равно и здесь цель, к которой стремится наше намеренное мышление, может быть, несомненно, определена лишь таким образом: мышление наше в сознании своей необходимости и общезначимости стремится к покою.
Психологическая необходимость заставляет, конечно, наивного человека объективировать свои ощущения и относящиеся к ним мысли: он представляет себе мир таким, которому он приписывает не зависимое от своих субъективных деятельностей бытие. И когда возбуждается его познавательный инстинкт, то он без дальнейших рассуждений ставит себе целью познать этот объективный мир, так образовать свои мысли, чтобы они согласовались с сущим. Но достижима ли эта цель – это спорный вопрос. Критическое утверждение, что все наше познание прежде всего и непосредственно являет собой нечто лишь для нас, что оно есть система представлений, – это утверждение неоспоримо. Что же касается положения, что этому представляемому соответствует сходное с ними бытие, то это или просто слепая вера, или же, если здесь может быть уверенность, уничтожающая сомнение, то она покоится на опровержении сомнения на том доказательстве, что сомнение невозможно. Другими словами, тут, с одной стороны, доказывается, что допущение сущего не приводит нас ни к каким противоречиям, которых мы не могли бы мыслить; с другой – что качество наших представлений принуждает нас допустить такое бытие. То и другое, следовательно, сводится к необходимости в нашем мышлении. Что всякое допущение вне нас существующего мира есть положение, опосредствованное мышлением, что оно есть лишь нечто выведенное из субъективных фактов ощущения путем сознательных или бессознательных мыслительных процессов – это может быть отнесено к бесспорнейшим результатам анализа нашего познания. Итак, помимо мышления, у нас нет никакого средства удостовериться, действительно ли мы достигли цели познать сущее. Мы навеки лишены возможности сравнить наше познание с вещами, так как они существуют независимо от нашего познания. Даже в лучшем случае мы решительно должны довольствоваться лишенным всяких противоречий согласием между теми мыслями, которые предполагают сущее, – подобно тому, как в области нашей внешней деятельности мы вполне довольствуемся тем, что наши представления и наши движения вместе со своими результатами вполне согласуются как между собой, так и с представлениями других.
Итак, если есть познаваемое бытие, то познание этого бытия возможно лишь благодаря тому, что между бытием и нашей субъективной деятельностью существует закономерное отношение, и благодаря последнему то, что в силу данного в нашем сознании мы необходимо должны мыслить, соответствует также и сущему, и достоверность нашего познания всегда покоится на уразумении необходимости наших мыслительных процессов. Далее, если есть познаваемое бытие вне нас, то оно есть одно и то же для всех мыслящих и познающих субъектов, и всякий познающий сущее должен думать то же самое относительного того же самого предмета. Следовательно, мышление, которое должно познать сущее, необходимо есть общезначимое мышление.
Если же, наоборот, мы станем отрицать возможность познать нечто так, как оно есть само по себе; если сущее есть лишь одна из тех мыслей, которые мы производим, то ведь это означает, что мы приписываем объективность тем самым представлениям, которые мы производим с сознанием необходимости, и что, полагая нечто как сущее, мы тем самым утверждаем, что все другие, хотя бы лишь гипотетически допускаемые мыслящие существа, обладающие той же природой, что и мы, должны были бы производить это нечто с той же самой необходимостью.
Итак, мы без дальнейших рассуждений можем утверждать следующее: если мы не производим ничего, кроме необходимого и общезначимого мышления, то сюда включается также и познание сущего; и если мы мыслим с познавательной целью, то непосредственно мы хотим осуществить лишь необходимое и общезначимое мышление. Именно этим понятием исчерпывается также сущность истины. Когда мы говорим о математических, фактических, нравственных истинах, то общий характер того, что мы называем истинным, выражается в том, что оно есть необходимо и общезначимо мыслимое.
7. Понимая таким образом ту задачу, какую ставит себе изучаемое логикой мышление, мы избегаем, во-первых, тех трудностей, что тяготят надо всякой логикой, заявляющей себя в качестве учения о познании. Ибо тут требуется еще сперва доказать, возможно ли вообще и насколько возможно познание; тем самым такая логика не только переступает в спорную область метафизики, но, доказывая и опровергая, она предполагает уже ту необходимость и общезначимость мышления, из которой должно еще проистечь убеждение в объективности мышления. А с другой стороны, мы избегаем также и той односторонности, в какую обыкновенно впадает теоретико-познавательная логика; последнее имеет в виду лишь то мышление, которое служит познанию чисто теоретического, она забывает о другом мышлении, которое должно руководить нашими поступками. А ведь в обоих случаях духовная деятельность по своей сущности совершенно одна и та же, да и цели подлежат одной и той же точке зрения.
8. Если взять теперь все то мышление, которое преследует общую цель – стать достоверным и общезначимым в своей необходимости, то это позволяет нам вполне установить и его психологические границы. Всякое мышление, подлежащее этой точке зрения, завершается в суждениях, которые внутренне или внешне высказываются в виде предложений. Суждениями завершается всякое практическое размышление о целях и средствах, в суждениях состоит всякое познание, суждениями заканчивается всякое убеждение. Все другие функции имеют значение лишь как условия и подготовления к суждению. Суждение, далее, лишь постольку может быть предметом научного исследования, поскольку оно выражается в предложении; лишь через посредство предложения оно может быть общим объектом исследования, и лишь как предложение может оно хотеть сделаться общезначимым.
9. Факты ошибки и спора свидетельствуют, что наше действительное мышление в создаваемых им суждениях часто не достигает своей цели; что суждения эти отчасти снова уничтожаются самими мыслящими индивидуумами, ибо они убеждаются, что суждения эти лишены значимости, т. е. что необходимо должно иначе судить; отчасти же суждения не признаются другими мыслящими людьми, ибо они оспаривают их необходимость, объявляют их простым мнением и предположением или они отрицают их возможность, поскольку о том же самом предмете необходимо должно судить иначе.
Это обстоятельство, что действительно возникающее мышление может не достигать и действительно не достигает своей цели, вызывает потребность в такой дисциплине, которая научает избегать ошибок и спора, научает так совершать мышление, что возникающие отсюда суждения оказываются истинными, т. е. необходимыми и достоверными, т. е. сопутствуемыми сознанием их необходимости, а поэтому общезначимыми.
Отношение к этой цели разграничивает логическое рассмотрение мышления от психологического. Последнее интересуется познанием действительного мышления; согласно этому оно ищет те законы, по которым определенная мысль при определенных условиях проявляется именно так, а не иначе; оно ставит себе задачей понять всякое действительное мышление из общих законов духовной деятельности и из данных предпосылок индивидуального случая – одинаково, следовательно, как ошибочное и спорное, так истинное и общепризнанное мышление. Противоположность истинного и ложного имеет здесь столь же мало места, как в психологии противоположность доброго и злого в человеческих поступках.
Логическое рассмотрение предполагает, наоборот, хотение истинно мыслить, и оно имеет смысл лишь для тех, кто сознает в себе это хотение, и лишь для той области мышления, какая подчинена этому хотению. Исходя из этой цели и исследуя условия, при каких она достигается, логическое рассмотрение, с одной стороны, хочет установить критерии истинного мышления, вытекающие из требования необходимости и общезначимости; с другой – дать наставление так выполнять мыслительные операции, чтобы цель достигалась. Таким образом, логика, с одной стороны, есть критическая дисциплина по отношению к уже выполненному мышлению, с другой – является техническим учением. Но так как критика имеет ценность лишь постольку, поскольку она служит средством для достижения цели, то высшей задачей логики, составляющей вместе с тем ее действительную сущность, является быть техническим учением.
§ 2. Граница задачи
Логика как техническое учение о мышлении не может ставить себе задачей давать наставления о том, как следует, начиная с известного момента времени, производить одно лишь абсолютно истинное мышление. Она должна ограничиться тем, чтобы показать, какие общие требования, в силу природы нашего мышления, должно выполнять всякое положение, чтобы быть необходимым и общезначимым; с другой стороны, она должна показать, при каких условиях и согласно каким правилам можно было бы, исходя из данных предпосылок, идти дальше необходимым и общезначимым образом. Вместе с тем логика должна отказаться от решения вопроса о необходимости и общезначимости данных предпосылок. Соблюдение ее правил не гарантирует поэтому необходимо материальной истинности результатов, а лишь формальную правильность приемов. В этом смысле наше техническое учение необходимо является формальной логикой.
1. Когда для какой-либо человеческой деятельности устанавливается известное техническое учение, имеющее притязание гарантировать успех той деятельности, для которой оно дает правила, то при этом предполагается, что деятельность эта есть совершенно свободная и произвольная. А отсюда вытекает, во-первых, что условия моей деятельности во всякое время находятся в моей власти, раз только я пожелаю этого; а затем что сознание цели и служащих для ее достижения правил достаточно для того, чтобы всякую отдельную операцию выполнить целесообразно согласно этим правилам. Итак, если бы техническое учение должно было гарантировать эту цель – производить необходимое и общезначимое мышление и при помощи последнего познавать истину, то тем самым предполагалось бы, что все условия для этого имеются в нашей власти и что, начиная с известного момента, мы совершенно свободно можем господствовать над своим мышлением, чтобы выполнять его согласно правилам.
В этом смысле Картезий составил свою Methodus recte utendi ratione et veritatem in scientiis investigandi. Тут имелось в виду раз навсегда положить конец всякой возможности ошибаться, имелось в виду исключить всякое сомнение и создать такой ряд мыслей, который, исходя из необходимо истинного и достоверного положения и развиваясь дальше безошибочным образом, содержал бы в себе одни лишь абсолютно истинные положения. Предпосылкой для него служило то, что если не обладание представлениями, то самый акт суждения есть все же совершенно свободный и произвольный акт, поскольку мы в состоянии воздержаться от согласия на всякое положение, которое мы не с полной убежденностью познаем как истинное и достоверное. Далее, им предполагалось, что таким образом возможно путем радикального сомнения освободиться совершенно от всяких предпосылок, которые содержат в себе опасность ошибок, и начать совершенно новую деятельность мышления. Он допускал также, что главные условия этой деятельности – понятия и основоположения – врождены нам, следовательно, ни от чего не зависят, кроме нашего самосознания.
Если бы последнее допущение было настолько же бесспорно, насколько оно оспаривалось, то по крайней мере в области априорного знания метод этот находил бы себе чистое применение; и лишь для тех, кто мог бы принять и осуществить намерение освободиться от всяких предпосылок. Но совершенно невозможно произвольно оборвать непрерывность между прежним и теперешним мышлением и начать вполне ab ovo. Как произвольное мышление коренится в непроизвольном произведении мыслей и непрестанно питается им, так без запаса всегда уже наличных мыслей и без языка, который выражает этот запас, мы были бы лишены средств двинуться с места. И собственный пример Картезия показывает, что вопреки наилучшему намерению во вновь начатый ряд проникает масса прежних элементов. Столь же неправильно, что мы можем будто бы произвольно воздержаться от всякого суждения, хотя и не от нашего выбора зависит, иметь или не иметь те представления, к которым относится суждение. Ибо, с одной стороны, те предпосылки, которые мы привносим, суть суждения, неизбежно влекущие за собой другие суждения; с другой стороны, природа представлений, которые мы имеем, определяет уже и суждения об их отношениях, и не от нашего произвола зависит, хотим мы утверждать или отрицать.
Итак, вообще не может быть никакого метода начинать мышление сначала, а всегда есть лишь метод продолжать мышление, исходя из уже наличных предпосылок. И если бы даже предпосылки эти были признаны сомнительными, они все же должны были бы служить исходным пунктом нашего дальнейшего мышления.
2. Необходимость ограничить логику регулированием прогрессирования в мышлении имеет особенное значение для того мышления, которое стремится к эмпирическому познанию мира. Предпосылками этого познания служат правильные восприятия, и его целесообразное выполнение зависит не только от сопутствующего этим последним мышления, но также от условий чувственного ощущения и от отношения наших чувств к объектам. Искусство производить правильное наблюдение лишь отчасти зависит от искусства правильно мыслить, отчасти оно покоится на остроте и упражнении органов чувств, на механической ловкости, на искусстве ставить в наиболее благоприятные условия как объект, так и наши органы чувств и на умении погашать связанные с наблюдением ошибки. В своих различных вспомогательных средствах оно должно сообразоваться с многообразной природой предметов, из которых каждый класс требует своей особенной техники. Если бы в области эмпирического познания мы захотели отложить свое мышление и свои акты суждения до тех пор, пока мы не получили бы возможность исходить из абсолютно достоверных и необходимых предпосылок, то вообще тогда не могло бы быть эмпирической науки и относительно значимости и точности наших восприятий нам пришлось бы оставить под сомнением – in suspenso – не только реальность чувственного мира вообще, но и саму возможность общезначимых законов для феноменов.
История развития нашего знания показывает, далее, что истина часто находилась лишь окольным путем, путем исхождения из ошибочных или недостоверных предпосылок; и ход научного исследования непрестанно приводит к тому, что спор сглаживается путем выяснения тех выводов, которые вытекают из ложных положений. Всякое апагогическое – непрямое – доказательство служит примером такого приема.
Наконец, обширная область нашего мышления, стремящегося к общезначимости, связана с такими предпосылками, которые свою значимость выводят из хотения и в этом смысле являются чисто положительными. Если признавать требование, что логика должна обосновывать материальную истинность всех положений, то это значило бы исключить из логического рассмотрения всю практическую юриспруденцию.
3. Итак, то, что только и может выполнить техническое учение о целесообразном мышлении и что оно, следовательно, только и может поставить себе задачей, – это дать указание, как следует в мышлении двигаться вперед от данных предпосылок, чтобы всякий дальнейший шаг был связан с сознанием необходимости и общезначимости. Оно не учит, что следует мыслить, ибо иначе оно должно было бы быть совокупностью всех наук; оно учит лишь о том, что если нечто мыслится так, то и другое должно мыслиться таким же образом. При этом данное, запас так или иначе возникших представлений, отдельных наблюдений, общих положений может носить какой ему угодно характер.
В то же время ясно, что под «прогрессированием», под «двигаться, идти дальше» мы понимаем идти вперед в любом направлении – от основания к следствиям, так и от следствия к основанию, от общего к частному, так и обратно. Так что техническое учение должно находить себе применение ко всем проблемам, какие вообще ставятся нашему мышлению.
4. Итак, в интересах всеобщности и практической выполнимости нашей задачи мы не можем выдумывать такого мышления, которое начинало бы сначала безо всяких предпосылок; вместе с тем в логическое исследование мы должны включать не значимость данных предпосылок, из которых исходит действительное мышление, а лишь правильность прогрессирования от данных предпосылок. В этом именно смысле мы и разумеем, что логика есть формальная наука. Но признавая логику формальной наукой, мы не думаем этим сказать, что она должна сделать тщетную попытку понять мышление вообще как просто формальную деятельность, которая могла бы рассматриваться обособленно от всякого содержания и которая относилась бы равнодушно к различиям в содержании. Мы не думаем также сказать, что логическое исследование должно совершенно отвлечься и игнорировать общие свойства содержания и предпосылок действительного мышления. Именно потому, что мы не знаем мышления, которое начиналось бы в отдельном индивидууме исключительно из себя самого, а знаем лишь мышление, подчиненное общим отношениям и условиям и связанное с общими целями человеческого мышления, – именно поэтому нельзя отвлекаться ни от того определенного способа, каким наше мышление получает материал и содержание от чувственного ощущения и преобразует его в представления о вещах, свойствах, деятельностях и т. д., ни от его исторической обусловленности человеческим обществом. Можно отвлечься только от особенных свойств данного исходного пункта для ряда мыслительных процессов.
§ 3. Постулат логики
Возможность установить критерии и правила необходимого и общезначимого прогрессирования в мышлении покоится на способности различать объективно необходимое мышление от не необходимого; способность эта обнаруживается в непосредственном сознании той очевидности, какая сопутствует необходимому мышлению. Опыт этого сознания и вера в его надежность есть постулат, дальше которого идти невозможно.
1. Если спросить себя, возможно ли и как именно возможно разрешить задачу в том смысле, как мы ее поставили, то вопрос этот сведется к трудности указать верный признак, по которому можно было бы отличить объективно необходимый акт суждения от индивидуально отличного и поэтому в указанном смысле не достигающего цели. И здесь, в конце концов, нет иного ответа, кроме ссылки на субъективно познанную необходимость, на внутреннее чувство очевидности, которое сопутствует одной части нашего мышления, на сознание, что исходя из данных предпосылок, мы не можем мыслить иначе, чем мы мыслим. Вера в право этого чувства и в его надежность является последней точкой опоры всякой достоверности вообще. Кто не признает этого, для того нет никакой науки, а лишь случайное мнение.
2. Надежность общезначимости нашего мышления покоится, в последней инстанции, на сознании необходимости, а не наоборот. Предполагая общий всем разум, мы убеждены, что то, что мы мыслим с сознанием неизбежной необходимости, мыслится таким же образом и другими. Эмпирически доказанный факт согласия всех может, конечно, служить подтверждением в пользу нашего предположения, что другие подчинены тому же связывающему их закону; но он не может ни заменить собой непосредственного чувства необходимости, ни – еще менее того – создать таковое. Согласие опыта с нашими расчетами и привычка, на которую ссылаются эмпиристы, опять-таки касаются лишь значимости наших предпосылок, из которых мы исходим; но все это не может ни создать специфического характера необходимости мышления, ни видоизменить его. Так что здесь мы стоим перед фундаментальным фактом, на основе которого должно возводиться всякое логическое здание. И всякая логика должна уяснить себе те условия, при каких появляется это субъективное чувство необходимости, она должна свести их к их общему выражению. Если скажут, что логика в таком случае есть эмпирическая наука, то это верно в том же смысле, в каком и математика является также эмпирической наукой: она также исходит из внутренних фактов и присущей им необходимости. Но чем обе эти науки отличаются от просто эмпирической науки – это есть то, что в своих фактах они находят необходимость, которой недостает случайному опыту, и необходимость эту они делают основой для достоверности своих положений.
§ 4. Разделение логики
Поставленная задача намечает ход исследования. Сперва необходимо рассмотреть сущность той функции, для которой должны отыскиваться правила; затем необходимо установить условия и законы ее нормального выполнения; наконец, необходимо отыскать правила для того метода, при помощи которого, исходя из несовершенного состояния естественного мышления, на основании данных предпосылок и вспомогательных средств можно достигнуть совершенного мышления. Таким образом, наше исследование распадается на аналитическую, законодательную и техническую часть.
1. Если, как было установлено выше, деятельность, в которой наше намеренное мышление достигает своей цели, есть акт суждения, то прежде всего необходимо правильно уразуметь природу той функции, о правильном выполнении которой идет речь, и познать содержащиеся в ней предпосылки. Тем более что та же самая форма суждения обща целесообразному, общезначимому и не достигающему своей цели мышлению. Истина и ошибка, достоверность и сомнение, согласие и спор обнаруживаются лишь постольку, поскольку мышление принимает облик суждений и хочет завершиться или завершилось уже в суждениях. Итак, одна и та же функция здесь выполняется правильно, там ошибочно, здесь она достигает своей цели, там нет. И лишь тогда можно дать правила для правильного выполнения этой функции, когда мы познали, в чем она состоит.
Это познание достигается лишь путем анализа нашего действительного акта суждения, путем размышления над тем, что мы делаем, когда совершаем акт суждения, путем выяснения того, какие другие функции служат, быть может, предпосылками для акта суждения, каким образом из них образуется акт суждения и какие общие принципы от природы господствуют над этим процессом образования. При этом необходимо предположить, что предварительно известно, какие мыслительные акты подпадают под название суждения; и на первое время достаточно придерживаться языка, и в качестве ближайшего объекта этого исследования должно выделить все те положения, которые содержат в себе высказывание, заявляющее притязание на истинность, высказывание, которое и со стороны других хочет встретить признание и веру в свою значимость.
Итак, из приводимых грамматикой предложений мы предварительно устраняем все те, которые, как выражающие повеление и желание2, содержат в себе индивидуальный и не подлежащий перенесению момент; далее, все те, которые хотя и содержат утверждение, но не устанавливают его как истинное, как вопросительные предложения, или те, что выражают только предположение или субъективный взгляд. Насколько последние предложения могут иметь значение как подготовление к суждению – это может выяснить лишь позднейшее исследование.
Но все предложения, действительно содержащие высказывание или утверждение, составляют предмет нашего исследования, безразлично, чего бы они ни касались. Мы примыкаем, таким образом, к пониманию Аристотеля3 и отвергаем отличие так называемого логического суждения от других утверждений – согласно чему в логике следовало бы рассматривать разве только одно подведение единичного под его общее, а простые сообщения о фактах выходили бы уже за ее пределы. Ибо и эти предложения хотят быть истинными и заявляют притязание на веру к себе, а поэтому, как и суждения подведения, они точно так же требуют, чтобы были исследованы условия их значимости4. Лишь там, где господствует схоластический взгляд на сущность науки, что научной ценностью обладает-де только дефиниция, – лишь в этом случае можно было бы хотеть ограничить логику суждениями подведения. Но там, где живо сознание, что для значительной части нашего знания отдельные факты служат основой и пробным камнем, там и суждения, выражающие факты, точно так же подлежат логическому рассмотрению.
Далее, по плану нашего исследования на анализе суждения мы остановимся там, где оно образуется безыскусственно, безо всякой рефлексии, в естественном течении мышления.
2. Раз исследование того, что совершается в акте суждения, закончено, тогда можно поставить вопрос, каковы те требования, какие должны быть предъявлены к совершенному акту суждения, во всех отношениях соответствующему цели; вместе с тем возможно установить тот идеал, согласоваться с которым наше мышление хочет и должно. Так как мы исходим из требования, что наше мышление должно быть необходимым и общезначимым, и требование это мы предъявляем к функции суждения, которая познана со стороны всех своих условий и факторов, то отсюда вытекают определенные нормы, которым должен удовлетворять акт суждения. Вместе с тем отсюда вытекают и определенные критерии для различения совершенного и несовершенного акта суждения. Насколько логическое исследование в нашем смысле может проследить эти нормы, они сводятся к двум пунктам: во-первых, элементы суждения все без исключения определены, т. е. фиксированы в понятиях; а во-вторых, самый акт суждения необходимым образом вытекает из своих предпосылок. Таким образом, в эту часть входит учение о понятиях и умозаключениях как совокупность нормативных законов для образования совершенных суждений.
3. Но познание того, какой характер должно носить идеально совершенное мышление, само по себе не создает еще возможности действительно достигать этого идеального состояния, этим не дано еще и познания ведущего к этой цели пути. Поэтому тут необходимо выяснить, каким образом, исходя из данного нам состояния, пользуясь теми средствами, что предоставляет в наше распоряжение природа, и при тех условиях, от которых зависит наше человеческое мышление, – каким образом здесь можно было бы достигнуть логического совершенства. Следовательно, речь тут идет о тех методах, которые дают возможность придти к правильным понятиям и надлежащим предпосылкам для суждений и умозаключений. Это и есть область технического учения в узком смысле, область собственно технических указаний, и обе предшествующие части служат для нее подготовлением. Наиболее важной частью здесь является теория индукции как учение о методе, дающем возможность из отдельных восприятий получать понятия и общие положения.
Таким пониманием задачи и порядка исследования мы надеемся объединить все те различные точки зрения, какие обнаружились в обработке логики, и воздать всякой должное ей. Ибо если, с одной стороны, задачу логики усматривали в том, что она должна установить естественные формы и естественные законы мышления, каким оно необходимо следует, то и мы в свою очередь признаем необходимость установить такие естественные законы, которым подчиняется вообще всякий акт суждения, и найти те принципы, каким он необходимо должен быть подчинен как сознательная функция этого определенного вида. Но мы отрицаем, что этим будто бы исчерпывается задача логики, ибо логика хочет быть не физикой, а этикой мышления. Если, с другой стороны, логику определяли как учение о нормах человеческого мышления или познания, то и мы также признаем, что этот нормативный характер является в ней существенным. Но мы отрицаем, что эти нормы могли быть познаны иначе, как на основе изучения естественных сил и тех функций, которые должны регулироваться указанными нормами; мы отрицаем также, чтобы простой кодекс нормальных законов был плодотворен уже сам по себе и давал бы сам по себе возможность достигать той цели, ради которой вообще имеет смысл устанавливать логику Напротив, то, что в большинстве случаев трактуется лишь в виде дополнения – именно учение о методах, это мы почитаем необходимым сделать собственной, последней и главной целью нашей науки. Так как учение о методах своим главным предметом должно иметь развитие науки из естественно данных предпосылок знания, то тем самым мы надеемся удовлетворять и тех, кто, спасаясь от пустоты и абстрактности формальной школьной логики, приписывает ей теоретико-познавательные задачи. Но мы при этом, конечно, исключаем все вопросы о метафизическом значении мыслительных процессов и держимся исключительно в преднамеченных рамках, рассматривая мышление как субъективную функцию. В то же время предъявляемые к мышлению требования мы не распространяем на познание сущего, а ограничиваем их областью необходимости и общезначимости. Да и словоупотребление всегда и всюду усматривает в этих характерных чертах отличительную сущность логического5.
ПЕРВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ АКТА СУЖДЕНИЯ
§ 5. Предложение как выражение суждения. Субъект и предикат
Предложение, в котором нечто высказывается о чем-то, есть грамматическое выражение суждения. Последнее первоначально является живым актом мышления, который во всяком случае предполагает, что у лица, совершающего и высказывающего акт суждения, имеются во время этого процесса два различных представления – представление субъекта и предиката. Внешним образом представления эти могут прежде всего различаться так: субъект есть то, о чем нечто высказывается; предикат есть то, что высказывается.
1. То, что является перед нами как суждение, т. е. в форме высказанного предложения, содержащего утверждение, прежде всего есть готовое целое, некоторый законченный результат мыслительной деятельности. Результат этот как таковой может повторяться в памяти, он может входить в новые комбинации, путем сообщения его можно передавать другим, его можно на все времена закрепить в письменной форме. Но это объективное бытие и это самостоятельное существование, благодаря которому мы обыкновенно говорим, что суждение высказывает, связывает, разделяет, есть простая видимость, и выражения эти суть тропы. Но так, как мы собственно хотим говорить, суждение как таковое имеет свое действительное существование только в живом процессе суждения, в том акте мыслящего индивидуума, который совершается внутренне в определенный момент. И всякое дальнейшее существование суждения как живого процесса в мышлении становится возможным лишь благодаря тому, что акт этот повторяется всегда вновь и вновь, сопровождаясь сознанием своего тождества. Объективное существование никогда не принадлежит самому суждению, а лишь его чувственному знаку, высказанному или написанному предложению. Последнее предстоит для других и распознается ими внешним образом, и тем оно свидетельствует, что определенный мыслительный акт совершился в живом мышлении.
Но предложение, как этот внешний знак, можно рассматривать с двух сторон, которые с самого же начала важно точно разграничивать. С одной стороны, предложение указывает на свой источник, на внутренние процессы в том, кто высказывает его и тем обнаруживает свои мысли. С другой стороны, оно обращается к слушающему и хочет быть понятым. Слушающий приглашается дать истолкование внешним знакам и на основании этого конструировать ту мысль, которую выразил говорящий. Но функции того, кто понимает сказанные слова, иные по сравнению с функциями того, кто говорит; хотя при совершенном понимании, конечный результат в уме слушающего должен совпадать с тем, из чего исходил говоривший. Я выражаю, положим, в словах полученное восприятие «замок горит». В таком случае моим исходным пунктом служит образ горящего замка; в нем я познаю знакомый образ здания и бьющее из него пламя. Различая сперва оба эти элемента и затем объединяя их в предложении, я описываю то, что видел. Тот, кто слышит мое предложение, должен сперва объединить до сих пор разрозненные представления, которые пробуждены в нем благодаря обоим словам; и лишь затем благодаря этому он имеет в заключение то представление, из которого исходил говоривший.
Сама природа вещей приводит к тому, что грамматика и герменевтика, которая исходит из сказанных или написанных слов, склонны бывают становиться преимущественно на точку зрения слушающего: они обращают внимание на те функции, которые проявляют свою деятельность при понимании, и рассматривают их в том порядке, в каком их выполняет слушающий. Но для психологического анализа, который хочет исследовать сущность мышления, совершающего акт суждения, на первом плане имеет значение другая сторона, деятельность говорящего. Тем более что не всякое мышление, облекающееся в слова, необходимо имеет тенденцию сообщаться другим.
Итак, исследовать сущность суждения – это значит для нас рассмотреть тот мыслительный акт, какой мы совершаем, когда переживаем процесс живого суждения, и которому мы затем даем выражение в словах. А так как всякое (внутреннее или высказанное) повторение суждения предполагает его первичное образование, то нам приходится иметь в виду те случаи, когда в процессе мышления мы вновь создаем суждение и даем ему его грамматическое выражение (так это бывает, например, всегда, когда мы высказываем какое-либо новое наблюдение).
2. То, что происходит, когда я образую и высказываю суждение, можно внешним образом обозначить прежде всего так: я высказываю нечто о чем-то. Во всяком случае тут имеются два элемента: один есть то, что высказывается, , предикат; другое есть то, о чем или в отношении чего высказывается нечто, , субъект. Но этим дается лишь внешнее обозначение, заимствованное от процесса речи. Высказывание есть деятельность органов речи, и спрашивается, что происходит внутренне в нашем мышлении, когда мы «высказываем нечто о чем-то».
3. Если исходить из высказанного предложения, то прежде всего нужно отметить следующую разницу. Существуют предложения, в которых в качестве субъекта или предиката разумеются лишь слова как таковые, как вот эти определенные комплексы звуков; безразлично, высказываются о них просто грамматические замечания совершенно независимо от их значения (Самиель[2] есть еврейское слово; против есть предлог) или же предложение касается значения определенного слова или имени (оксид есть соединение с кислородом, Александрос есть другое имя для Париса, Iagsthausen есть деревня и замок на lagst). Если прежде всего выделить эти просто грамматические и герменевтические высказывания, то в качестве предмета исследования у нас останутся те предложения, в которых слова являются знаками представлений и в которых предполагается, что как говорящий, так и слушающй понимают их, т. е. связывают с ними определенное и при том то же самое представление; в которых высказывание касается, следовательно, не самих слов, а того представляемого, что обозначается словами.
4. В этом случае если высказывание должно иметь смысл, то оба элемента, субъект и предикат, должны быть для моего сознания чем-то данным, именно теперь представляемым. Для первого и наиболее общего понимания представление, обозначающее субъект, является тем, что дано мне прежде всего; всякий какой угодно объект, который я могу удержать как таковой в сознании, способен сам по себе стать субъектом суждения, безразлично, будет это непосредственное наглядное представление единичного или абстрактное представление, вещь или событие и т. д. В качестве второго к нему присоединяется в нашем сознании представление, служащее предикатом. Существенным для него является то, что оно принадлежит к уже знакомой и обозначенной понятыми словами области наших представлений; что оно, следовательно, есть представление, внесенное в сознание благодаря прежнему акту, связанное со словом, удерживаемое и воспроизводимое вместе с ним, отличное от всех других представлений. Чтобы сказать: «это есть голубое, это – красное», я уже раньше должен знать представления голубого, красного и т. д. и теперь воспроизводить их вместе со словом как знакомые; и акт суждения возможен лишь с того момента, как в сознании легко вступает известное число таких удержанных и различных представлений. Сознательный акт суждения предполагает, следовательно, что представления эти уже образованы.
Конечно, в том процессе, при помощи которого я образую их, уже содержится мышление. Мы можем что угодно в отдельности думать о тех функциях, при помощи которых мы приходим к представлению об определенных предметах и вообще к представлениям, которые мы можем употреблять в качестве предикатов. Но при этом, несомненно, является необходимым различие различных ощущений, объединение многообразия в одно целое, отношение этого целого как единства к его многообразному содержанию – все это такие акты, которые мы можем представить себе только по аналогии с сознательными мыслительными актами, подобными акту суждения. Но эта деятельность, благодаря которой у нас возникают определенные, отличные друг от друга и сами по себе могущие сохраняться представления, совершается до нашего сознательного и преднамеренного мышления и следует неосознанным законам. Когда мы начинаем размышлять, то в сознании имеются лишь результаты этих процессов в форме готовых наименованных представлений. Что же касается самих процессов, то отчасти они должны первоначально направляться психологической необходимостью, ибо у всех людей они в существенном совершаются одинаково; отчасти же путем упражнения они настолько приобретают характер механического навыка, что продолжают совершаться и в пределах сознательной жизни с той же бессознательной точностью. С другой стороны, предполагается также первоначальное возникновение и первое усвоение языка, так как сознательное и произвольное мышление совершается почти исключительно с его помощью. Таким образом, в нашу задачу прежде всего не входит рассмотрение того мышления, при помощи которого впервые возникают представления. Нам нет также необходимости подвергать исследованию возникновение языка вообще и его усвоение индивидуумом, хотя, возможно, дальнейший анализ и должен будет коснуться этих вопросов. Но, конечно, нам необходимо обозреть область представлений, которые могут входить в наши суждения как элементы в качестве субъектов или в качестве предикатов; необходимо также определить отношение внутренне представляемого к его грамматическому выражению.
Отдел первый
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТЫ СУЖДЕНИЯ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К СЛОВАМ
§ 6. Высшие роды представляемого
То, что мы представляем и что может входить в наши суждения, в качестве субъекта или предиката или части субъекта и предиката, суть:
I. Вещи, их свойства и деятельности с их видоизменениями.
II. Отношения вещей, их свойств и деятельностей и при том отчасти пространственные и временные, отчасти логические, отчасти причинные, отчасти модальные.
1. По-видимому, сам язык, различая различные роды словес, дает путеводную нить для отыскания различных видов представляемого. Этой путеводной нитью, во всяком случае, уже пользовался Аристотель, когда устанавливал категории как высшие роды представляемого и сущего. Однако эта путеводная нить небезошибочна. Ибо особенностью образования языка служит то, что его различные формы в течение развития выполняют различные функции. Не для всякого нового вида представлений образуется особенная форма, но как в органической области морфологически равноценные органы все же могут выполнять существенно отличные функции, так оно и со словесными родами имени существительного, глагола, имени прилагательного и т. д. Различия словесных родов не необходимо совпадают с различиями в значении, так чтобы по этим внешним характерным признакам можно было прочесть все. Но имея всегда в виду указания языка, нельзя все же не попытаться получить на основании природы представляемого некоторый обзор и отсюда уже выяснить, насколько различия форм речи следовали внутренним различиям в их содержании.
2. В качестве наиболее общего человеческого достояния является тот круг представлений, совокупность которых образует мир сущего. Хотя мы должны допустить, что достояние это может возникнуть в каждом индивидууме таким же образом и помимо языка, однако фактически оно возникает обыкновенно уже при содействии речи. К этому миру сущего наряду с представлением о нас самих принадлежит представление обо всей окружающей нас обстановке, которая познана опытным путем; представление обо всем том, что мыслится существующим таким же образом, как мы сами и предметы нашего непосредственного восприятия.
a) Основу этого мира образуют представления единичных вещей, которые грамматически обозначаются при помощи конкретных имен существительных. Эти вещи мы представляем себе как несущие на себе свойства или качества, которые находят свое выражение в именах прилагательных. С течением времени вещи эти, согласно тому же нашему представлению, развивают из себя деятельности и попадают в такие состояния, которые выражаются в глаголах6 7.
b) Это отграничение представлений о вещах от представлений о свойствах, им принадлежащих, и о деятельностях, которыми они охвачены, совместно с необходимостью непрестанно относить их друг к другу, необходимостью каждый сам по себе мыслимый и удерживаемый предмет рассматривать как единство вещи с ее свойствами и деятельностями, – все это имеет здесь для нас значение основного факта нашего процесса представления, ибо всегда уже служит предпосылкой для нашего сознательного и руководимого рефлексией акта суждения. Так оно и есть во всех более развитых языках – а лишь в пределах таковых мы можем установить логику, – где в основе высказывания суждения всегда лежит грамматическое разграничение словесных форм. Хотя одни и те же впечатления дают нам представление света и представление святящего предмета, представление твердости и холода и представление твердой и холодной вещи, но для нашего сознательного мышления невозможен уже возврат назад, к той точке зрения, когда разграничение не имело еще места. Это так же невозможно, как для нас невозможно говорить в тех корнях, из которых выросли глагольные формы и формы имен. Значение словесных форм имени существительного, глагола и имени прилагательного выражается лишь в том, что в своем различии они указывают также на то единство; всякий глагол указывает на субъект, всякое имя прилагательное указывает на имя существительное. И мышление успокаивается в относительно замкнутом акте и достигает целого, которое само по себе представимо как самостоятельное лишь тогда, когда эти словесные формы находят свое выполнение. При этом имя существительное преимущественно обозначает единство, которое, однако, всегда стремится развиться в свои элементы; имя прилагательное и глагол выдвигают эти элементы сами по себе, но так, как они всегда вновь стремятся вернуться к единству Итак, там, где объекты процесса нашего представления обозначаются такими словесными формами, которые движутся в формах имени существительного, имени прилагательного, глагола, там проявило свое действие мышление, различающее и связывающее по категориям вещи, свойства и деятельности, и наш способ выражения подчиняется господству привычки, стремящейся подводить всякое содержание под эти категории. В крайнем случае, лишь в некоторых звукоподражательных словах, как хлоп! бух! – мы можем передать впечатление на той ступени, когда то мышление еще не овладело им.
с) Противоположность глагола и имени существительного фактически и грамматически более первоначальная. Если бы было верно, что первоначальные значения корней имели глагольный характер и события, изменения, движения были первым, что стало обозначаться, то это доказывало бы прежде всего лишь то, что живое движение и деятельность производили более сильное раздражение и легче возбуждали сопутствующий звук. А не то, что представление деятельности вообще имело место раньше, нежели представление о деятеле. Ибо то основное наглядное представление, на котором покоится всякое представление о деятельности вне нас, движение, не может восприниматься без того, чтобы не было фиксировано приведенное в движение и тот фон, на котором совершается последнее; без того, чтобы не было произведено сравнение, которое предполагает сохраняющиеся и покоящиеся образы8. Именно в движении легче всего схватить тождество деятеля в его деятельности, как и отличие устойчивой вещи от временного события; труднее в возникновении и исчезновении, в изменении свойств. Ибо свойство, которое выражается именем прилагательным, там, где оно имеет чисто чувственное значение, как, например в цвете, вовсе не отделено от представления о предмете, оно устойчиво, как этот последний. То, что мы воспринимаем от вещи, есть именно ее свойство. Лишь в множестве свойств, благодаря чему то же самое свойство может обнаруживаться на различном в различных комбинациях; лишь в изменчивости свойств в той же самой непрерывно наглядно представляемой вещи – лишь в этом кроется мотив, побуждающий отделить их самих от себя и превратить в само по себе представимое. Лишь в повторении деятельности кроется мотив, побуждающий выразить его пребывающее основание в имени прилагательном. Отсюда вытекают два класса имен прилагательных: один по своему характеру стоит ближе к имени существительному, другой стоит ближе к глагольному характеру.
d) Итак, представление вещи, свойства и деятельности связаны друг с другом, деятельность всегда должна быть деятельностью чего-то, свойство всегда должно быть свойством чего-то, что представляется как вещь, и наоборот, вещь всегда должна представляться вместе с определенным свойством и деятельностью. Однако в различении кроется возможность удерживать свойство или деятельность само по себе и отделять их в мыслях от отношения к определенной вещи. Когда мы таким образом представляем их себе, то мы мыслим их абстрактно, т. е. мы искусственно изолируем их от того единства, к которому они стремятся по своей природе. Наряду с отрешением от единства с определенными вещами абстракция эта приводит вместе с тем к тому, что свойство или деятельность возвышаются до всеобщности, т. е. тут создается возможность отнести их к какому угодно числу индивидуумов, возможность вновь найти их в последних. И оба процесса – как разложение определенного целого представлений на различные элементы свойств и деятельностей, так и образование абстрактных и общих представлений о них – взаимно обусловливаются, или скорее это один и тот же процесс, которого результаты обнаруживаются лишь с разных сторон. Когда я довожу до своего сознания наглядное представление о камне как о некоторой круглой, белой и т. д. вещи, то вместе с тем представления круглой формы, белого цвета и т. д. выделяются во мне из этого определенного сочетания и именно поэтому они способны бывают вступать в какое угодно иное сочетание, и в каждом из них они могут быть вновь узнаны.
e) Так как благодаря различению свойств и деятельностей от вещей то же самое свойство и та же самая деятельность представляется в различных вещах, то этим самым создается основа для сравнения между собой однородных деятельностей и свойств различных вещей и различия их могут, таким образом, доводиться до сознания и мыслятся отчасти как различные степени, отчасти как различные наклонения. И как вещи различаются своими деятельностями и свойствами, так и сходные деятельности и свойства отдельных вещей различаются по степеням и наклонениям; и то и другое можно объединить одним названием – видоизменением. Этим дается новое различение и новое единство, которое грамматически выражается в отношении наречий к именам прилагательным и глаголам. Самая словесная форма наречия говорит уже о том, что оно являет собой несамостоятельный элемент и требует единства с представлением, выражающим свойство и деятельность; лишь благодаря такому представлению, которое мыслится как его более точное определение, наречие приобретает свой понятный смысл.
f) Поскольку абстрактные представления могут удерживаться сами по себе, поскольку они могут являться опорными точками для других представлений, язык, образуя абстрактные существительные, которые обозначают представления свойств и деятельностей, придает им существительную форму. Аналогия грамматической формы позволяет, таким образом, сравнивать их с вещами, поскольку их отношение к именам прилагательным и глаголам должно быть тем же, что у конкретных имен существительных. Однако поэтому они не суть еще вещи и то единство, какое существует между ними и их выраженными в прилагательной или глагольной форме определениями, не есть единство принадлежности (Inhrenz) или деятельности, посредством которых они сами как абстрактные понятия указывают обратно на своих носителей. Напротив, там, где не привходят отношения, лишь особенность общего, видоизменение свойства или деятельности может мыслиться вместе с единством и может быть относимо к нему аналогичным образом, как свойство относится к вещи. И общим в обоих отношениях является прежде всего то, что они допускают синтез, объединение в одно целое в том смысле, что в представлении, выражающем имя существительное, его ближайшие определенности и отличительные признаки, какие находит в нем сравнивающее мышление, вместе с тем доводятся до сознания сами по себе и удерживаются в единстве с представлением. («Мяч кругл»-«мяч движется» – «движение быстро» – «быстрота возрастает» и т. д.)
Общим в рассмотренных до сих пор представлениях вещей, их свойств и деятельностей является то, что они содержат в себе непосредственно наглядный элемент, который своей определенностью обязан деятельности одного или нескольких из наших чувств или внутреннему восприятию. Это наглядное содержание само по себе никогда не является целым представления; оно захватывается и формуется мышлением, удерживается как представление свойства или деятельности вещи и относится к последней как устойчивое единство. И единство это содержится также и в представляемом как чувственно наглядный элемент. Но тогда как те категории вещи, свойства и деятельности повсюду являются одними и теми же, продукт чувственного наглядного представления или копирующего его воображения образует действительное ядро представления и дает ему его отличительное содержание.
3. Этим представления вещей с их свойствами и деятельностями отличаются от второго главного класса – от представлений, выражающих отношения. Эти представления, с одной стороны, всегда предполагают уже представление вещей, а с другой – обладают таким содержанием, которое всегда производится лишь деятельностью, выражающей отношение. Вследствие этого ему с самого же начала присуща всеобщность, благодаря чему соответствующие слова никогда сами по себе не могут пробуждать представления о единичном.
а) з отношений раньше всего и легче всего схватываются отношения места и времени, так как они содержатся уже implicite в нашем наглядном представлении о вещах и их деятельностях. «Направо и налево», «вверху и внизу», «раньше и позже» – суть представления, которые своим возникновением, как сознательно обособленные составные части нашего мира представлений, обязаны лишь субъективной деятельности, и последняя протекает между вещами, которые наглядно представляются уже как расположенные в пространстве и времени. Содержание этих представлений заключается в сознании определенности этой в пространстве и во времени протекающей деятельности; оно, следовательно, с самого же начала нисколько не зависит от данных определенных пунктов отношения. Так как вещи мы представляем себе пространственно расположенными и длящимися во времени и они во множестве лежат перед нами, расположенные в пространственном и временном порядке, то в этом процессе представления заключается уже, конечно, implicite все множество этих отношений. Но они не сами по себе появились в сознании. То, что мы представляем пространственный объект, у которого есть направо и налево, вверху и внизу; то, что наше пробегающее пространство, наглядное представление движется туда и сюда в этих различных направлениях, чтобы иметь возможность удержать пространственный образ как единство, – всего этого еще недостаточно для того, чтобы сознавать самое это движение туда и сюда и его различные направления. Прежде всего в нашем сознании находится лишь результат, определенный образ и его положение по отношению к другим. Лишь тогда, когда мы приходим к сознанию самой этой деятельности движения туда и сюда; когда мы различаем одно направленное от другого, дальше идущее движение глаза или руки от более близкого и фиксируем их, – лишь в этом случае возникает у нас содержание этих выражающих отношение слов. И именно потому, что слова эти предполагают привходящее к непосредственно данному материалу самопроизвольное движение представления, они освобождаются от всякого определенного чувственного раздражения и, таким образом, приобретают совершенно особого рода всеобщность. «Движение» мы всегда можем представить себе, в конце концов, лишь как движение чего-либо, каким бы бледным мы ни мыслили его в качестве чувственного образа; но «направление» предполагает только, что мы сами провели линию в пространстве, оно предполагает сознание различий в проводимой линии. Грамматическим выражением этих отношений являются наречия места и времени. Если они служат для того, чтобы выразить отношения определенных объектов как представляемые совместно с этими последними, то они становятся предлогами или падежными суффиксами или в качестве приставок и т. д. сливаются с именами прилагательными и глаголами. Тогда как в других словах (следовать, падать и т. д.) пространственное или временное отношение слито со значением слова и не находит себе никакого особого выражения.
К пространственным отношениям сводится первоначально и отношение целого и частей. Самое возникновение наших наглядных представлений приводит к тому, что то, что мы понимаем как единую, целостную вещь, оказывается выделенным при помощи ограничивающего различения из той более широкой обстановки, которая была дана непосредственному ощущению одновременно с вещью. Так у нас возникают образы людей и животных вследствие их свободной подвижности, которая побуждает нас отличать их от того фона, на котором они движутся. Так мы понимаем дерево, камень как единство, ибо форма их благоприятствует всестороннему отграничению и различению. Но так как в пределах созданного таким образом первоначально единства обнаруживаются новые различия, так как здесь могут создаваться новые границы, то благодаря этому в рамках первого очертания возникают подчиненные пространственные единства. Члены человеческого и животного тела являются, благодаря своей относительно свободной подвижности, такого рода единствами. Лист сам собой отделяется от дерева; когда мы разбиваем камень, то перед наглядным представлением, перед которым только что была предыдущая форма, совершается отделение различных кусков. Если мы разлагаем таким образом некоторое целое, то тут прежде всего возникает лишь множество новых единств, новых вещей для нас, которые мы отграничиваем. То, что мы наряду с представлением целого тела имеем представление головы, имеем представление пальца наряду с представлением целой руки, – благодаря этому голова не представляется еще как часть тела, палец не представляется еще как часть руки. Хотя благодаря непосредственному, далее идущему наглядному представлению или воспроизведению в дополнение к голове представляется тело, которому она принадлежит; в дополнение к пальцу – рука. Лишь в том случае, когда мы начинаем сознавать отношение подчиненного единства к более высокому единству, когда мы вновь начинаем объединять то, что было разложено, и сопоставляем оба эти процесса, – лишь в этом случае голова оказывается частью тела, палец – частью руки. И с представлением вещей, которые всегда воспринимаются нами лишь в качестве частей, но никогда как изолированное целое – например, члены тела, – с этим представлением наряду с наглядным образом сочетается, конечно, представление об отношении, о принадлежности к целому (голова, рука, член и т. д.). Тогда как по отношению к другим объектам является случайным, представляются они как части или как самостоятельное целое (цветок как целое, цвет как часть).
Затем это представление об отношении является предпосылкой всякого представления о величине. А является большим по сравнению с В когда В есть часть А или когда оно (благодаря прикладыванию и накладыванию и т. д.) может рассматриваться как часть А. Всякое сравнивание величин и всякое действительное измерение покоится не на чем ином, как на наблюдении или создании отношения частей к целому. И аксиома, что целое больше своей части, собственно говоря, содержит в себе толкование представления «большой». (Лишь на втором плане, именно когда у нас создалась привычка к определенному масштабу, «большой», «высокий» и т. д. могут приобретать видимость абсолютных предикатов, видимость свойств.)
Далее, представление целого как вещи со свойствами и деятельностями не относится безразлично к представлению частей. Эти последние не стоят друг возле друга просто внешним образом, они не находятся в целом, просто как в объемлющих их рамках. Напротив, тут имеется причинное отношение – целое объемлет части, держит их вместе, имеет их. Но об этом ниже.
То же самое разграничение необходимо производить и по отношению ко времени. Слово распадается на слоги, мелодия – на отдельные абзацы. Также и здесь развиваются представления о временных величинах, более долгого и более короткого, по мере того как временные отношения сами по себе доходят до сознания.
b) Итак, эти группы представлений сводятся к соотносящей деятельности, которая движется в пространстве и во времени, и свое содержание они получают от наглядного сознания прохождения пространства и времени. Однако для того чтобы могли произойти эти группы представлений, необходимо, чтобы вместе с тем проявляли свое действие функции соотносящего мышления; необходимо, чтобы возникли другие представления об отношении как результаты различения и сравнивания. Представление различия не есть нечто данное. Дабы в сознании могло быть несколько различных объектов – для этого предполагается уже, конечно, различение. Но прежде всего до сознания доходит лишь результат этой функции, который заключается в том, что несколько объектов находятся друг возле друга и каждый из них удерживается сам по себе. Но представление различия, сходства или несходства развивается лишь тогда, когда различение совершается с сознанием и мы размышляем об этой деятельности. Представление о тождестве не только предполагает, что тот же самый объект имелся налицо сравнительно долгое время или неоднократно, но и возникает оно лишь благодаря отрицанию существенного различия в двух или нескольких последовательных представлениях и свое содержание получает от этой деятельности. Оно может приписываться объекту лишь постольку, поскольку тут имеются налицо условия и основание для этой деятельности. Различие, тождество, сходство никогда не следует понимать как простые абстракции от наглядного содержания, которое всегда может дать только себя самого, – они суть осознанные мыслительные процессы и свое содержание получают от этих последних. Из таких мыслительных процессов возникают числа: тут одинаковое различается пространственно или временно, и деятельность различаемого повторения того же самого наглядного представления доходит до сознания как таковая, каждый шаг повторения удерживается в памяти и вместе с рядом предшествовавших шагов сливается в некоторое новое единство. Представление о числе три дается не благодаря тому, что я вижу три вещи и эти последние производят иное впечатление, нежели две или одна. То, что здесь имеется числовое различие, это я узнаю, когда считаю, т. е. выполняю с сознанием акт перехода от одного единства к другому.
с) Третий, главный класс образуют причинные отношения, бесконечно и многообразно видоизмененным содержанием которых является представление о процессе действия (Wirken), о деятельности (Tun), относимой на что-либо другое, – действительные глаголы. Здесь не место объяснять или хотя бы только желать дать более точное определение происхождению причинного понятия. Об этом речь будет ниже, в иной связи. Однако здесь необходимо определить то место, какое причинное понятие занимает во всей совокупности наших представлений. И сделать это не так легко. Ибо благодаря тесной связи процесса действия с деятельностью понимание процесса действия как отношения приводит к тому, что как процесс действия, так и деятельность начинают рассматриваться одинаково. В то же время отношение деятеля (Das Ttige) к его деятельности легко может рассматриваться как простое отношение: деятельность субъекта оказывается тогда чем-то вторым по отношению к нему, как нечто самостоятельное, произведенное им. И мы тем легче начинаем рассматривать отношение вещи к ее сменяющейся деятельности с точки зрения отношения, что без объединяющего синтеза невозможно даже удержать тождество вещи во всех ее изменениях, и эти последние действительно должны быть отличаемы от нее. Невозможность провести точную границу, по-видимому, находит себе подтверждение в двояком отношении. Когда человек идет, то он приводит в движение свои ноги; то, что, с одной стороны, изображается как простая деятельность, с другой – оказывается действием на его члены, которые суть нечто относительно самостоятельное. То же самое имеет место во всех тех случаях, когда у нас могут быть колебания относительно того, что мы должны принять за единую, целостную вещь и что следует рассматривать как комплекс различных вещей. Даже покоящееся отношение целого к частям является как процесс действия, которое целым производится на свои части или, наоборот, которое части производят на целое. Целое имеет, т. е. содержит в себе, части, связывает их в единство посредством акта действия; части «образуют» целое. Если, далее, обратить внимание на то обстоятельство, что то, что мы обыкновенно понимаем как свойство – как цвет, запах и т. д., – с развитием знания разлагается на действие, производимое на наши органы чувств, то многое, оказывается, говорит в пользу того положения, что и процесс действия, и свойство переходят друг в друга, что субстанция в своих свойствах является причиной; и принадлежность, и причинность оказываются тогда лишь различными способами рассмотрения одного и того же отношения.
Но ведь все эти соображения подчеркивают лишь трудность решения вопроса о том, к чему могут применяться с объективной значимостью определения свойства, деятельности, процесса действия, так, чтобы не уничтожалось различие понятий «свойство», «деятельность», «процесс действия» как различных элементов в нашем представлении. Если мы знаем, что то, что мы первоначально рассматривали как принадлежащее вещи свойство, как, например, цвет, не принадлежит вещи, а есть ее действие на нашу чувственность, то ведь она все же действует благодаря свойству, которое теперь только не познается прямо чувственным путем, а должно быть выведено благодаря структуре своей поверхности и благодаря своей способности отчасти отражать, отчасти поглощать световые волны. И чтобы быть в состоянии действовать






