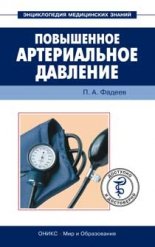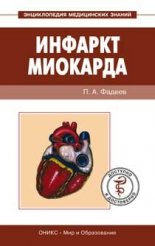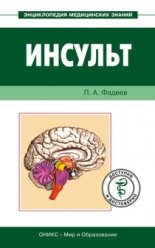Детородный возраст Земскова Наталья
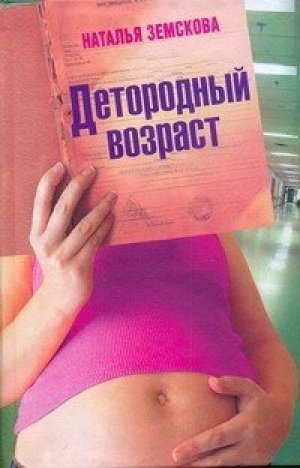
Глава I
20–22 недели
Я лежу на холодной кушетке, смотрю в тусклый потолок и думаю о том, что проблема-то, собственно, одна. Но, как всё глобальное, находится в двух противоположных плоскостях: а) как забеременеть и родить и б) как этого не допустить во что бы то ни стало. Про пункт «б» мне, плюс-минус здоровой женщине, известно всё. Про пункт «а» – ничего, кроме того, что это случается, когда совсем не надо. Мне – НАДО. И надо – СЕЙЧАС. Мне тридцать девять, и у меня последний шанс.
– В браке состоите?
– Что?..
– Замужем, говорю, или нет?
– Да, да, конечно…
– Когда начали половую жизнь?
– Что?..
Тетка из приемного покоя смотрит на меня как на умственно отсталую и громко повторяет, помешивая что-то в больничной кружке:
– С какого возраста живете половой жизнью? Какая по счету беременность?
– Вторая.
– Роды были?
– Ну конечно.
– Когда?
– В… Ммм… Семнадцать лет назад.
– Чем болели в детстве?
Матка сжимается, тянется вниз с неистовой силой, и я представляю ее чем-то вроде толстого резинового мяча, резко вытянутого и сплющенного вдоль собственной оси. Она живет своей собственной, параллельной жизнью, не желая ни считаться со мной, ни подчиняться. Если сейчас отойдут воды – всё… Хочу с ней поговорить, упросить вернуться на место, успокоиться, ведь мы уже в больнице. Но вместо этого впиваюсь глазами в медсестру и трясу ее взглядом:
– Ничем я не болела, делайте что-нибудь, там же всё написано: угроза прерывания, ребенок в самом низу…
Орать мне нельзя, чтобы не напрягаться, поэтому я шиплю как змея и начинаю беззвучно реветь от страха, что из-за своих дурацких вопросов они ничего не успеют сделать.
Тетка перестает писать, смотрит на меня несколько секунд и говорит без выражения:
– У всех ребенок внизу… Не вверху же. Николай Степанович всегда объясняет: мы можем помочь лишь иногда, и то процентов на пятнадцать.
– Что может знать ваш Николай Степанович? Он своего Лёвушку не воспитывал, интересовался лишь собой да Белой армией…
– Господь с тобой, какого еще Лёвушку? У него три девочки, у Толстоброва Николай Степаныча. – И, махнув рукой, кричит куда-то в недра дородового отделения: – Зина, каталку! В тридцать пятую ее. Вены-то у тебя хорошие?
Вены – хорошие. Только капать в таких случаях, как у меня, можно всего два лекарства – магнезию и гинепрал. Вначале делают одно, затем второе, а дальше разводят руками и ждут.
– Боли есть?
Нет у меня никаких болей, только страшная тяжесть внизу живота, будто вот-вот что-то выпадет. Весь последний месяц я лежу в постели и боюсь, боюсь, боюсь. Чувствую, что-то неладно, не могу понять, что, и от этого совсем цепенею от страха. Сегодня эта тяжесть стала пульсирующей, я вызвала такси и поехала на УЗИ, врач взглянула на экран и стала шипеть не хуже, чем я сейчас:
– Быстро лечь! Ребенок в самом низу, угроза прерывания. Вызываю «скорую».
Нет, я, конечно, знала, что так случится. Сильно хотеть нельзя. Боялась, что не смогу забеременеть: вдруг он, организм, за семнадцать лет забыл, как это делается? Оказалось, нет, бедняга только того и ждал: менял циклы, расставлял ловушки, требовал фруктов и сохранял фигуру. Ему бы исполнять положенную функцию, а я вместо деторождения какой-то ерундой занимаюсь – пишу в газетку, сплавляюсь на байдарках. И всю дорогу с ним договариваюсь: вот Анька чуть подрастет – тогда, ну вот квартиру получу – тогда, да и мужа бы иметь совсем неплохо… Пока образовывались квартира и муж, стало понятно, что это не самое главное. Так что природа здесь ни при чем: зачем она будет отбирать то, что дала? Должно быть, это там, наверху, засомневались, и нужно подтвердить свою настойчивость.
Всё время, пока мы ехали, сначала на такси, потом на «скорой», лил какой-то сверхъестественный ливень. На дорогах забурлили потоки мутной воды, и мы то и дело стояли по дверцы в волнах. И прохожие тоже встали, застигнутые стихией, невесть как проникшей в лабиринты мегаполиса. Все пугались, ругались и прятались – лишь меня эта репетиция всемирного потопа немного отвлекала и даже успокаивала. Декорации всегда отвлекают, отключая сознание и давая возможность подсознанию выбрать оптимальную схему действия. В моем случае она выглядит так: я должна…
– Хватит реветь-то! – Санитарка осторожно обходит мокрой тряпкой мою капельницу и поправляет одеяло. – Раньше никаких гинепралов не знали. Хочешь выносить – значит, лежи. Плюнь на всё и лежи ноги кверху. Я тут тридцать лет полы мою и вижу: кто хочет – тот вылеживает, да! Вон Сорокину из шестнадцатой третий раз привозят, дуру. Как выпустят, она к компьютеру своему глаза пялить – закровило! Ее откапают, она опять туда – опять кровит. Вот доскачет: поднимут и вычистят…
– Что поднимут?
– В гинекологию, говорю, от нас поднимут и сделают аборт.
– Зачем аборт?
– Ну, если закровит так, что сохранять будет нечего. У тебя не кровит? И лежи ноги кверху. Вон Толстоброва тебе вызвали, не реви – попадет.
– Петровна, кого ты тут мне воспитываешь? Гончарова?
В дверном проеме появляется темноволосый гладковыбритый мужчина лет сорока пяти или чуть постарше и, бегло улыбаясь, направляется ко мне.
– Гончарова…
– Ну, значит, так. Немедленно прекратить все разговоры, со словами уходит сила. Лечь на дно, убрать из головы все мысли. Забыть работу и семью. Всё это на другой планете. А вы пока на этой. И чтобы выжить, в вашем случае выносить, надо отгородиться от мира, слиться с ландшафтом, переждать, затаиться. Это трудно, но в принципе можно. Мы сделали экспресс-анализы – страшного ничего не нашли. И шейка плотно закрыта. Она коротковата, это плохо, но закрыта. Схватки между тем идут самые настоящие. Но пока, слава богу, редкие. Попытайтесь стать равнодушной, спокойной. Расслабьтесь, это поможет. Я сегодня дежурю, загляну пару раз.
Ну вот и ответ, который я знала: стать амебой, не думать, не думать. Хоть трава не расти, хоть потоп. Кстати, потопа не будет, потоп уже был. Хорошо, что меня увезли. Дома Анька, Алеша дома. Какой же дома покой? Нужно сосредоточиться, уцепиться за что-то, держаться. Это просто опасный участок. Бывают же на реке опасные участки, когда байдарку несет на камни, а потом минуешь – и ничего. Вот раньше, двести лет назад, баржи на Чусовой разбивались вдребезги, а кто-то ведь доплывал. Всё зависит от капитана, от его интуиции и удачи. Главное – от интуиции.
Интуиция у меня есть. Правда, часто берет отгулы. Однажды, когда она, интуиция, была на посту, я спасла жизнь своему ребенку. Аньке тогда было годика полтора. Мы отправились погулять. Вечер. Зима. Небольшая метель. Дочка побежала вперед, и расстояние между нами быстро увеличивалось. Причины для беспокойства не было, этой хорошо утоптанной дорожкой мы ходили не раз, – но что-то меня толкнуло, и я помчалась за ребенком. Догнала в три секунды и похолодела от ужаса: в метре от нас зиял разверзнутый канализационный люк, из него валил пар. Даже сейчас, пятнадцать лет спустя, не могу вспоминать этот случай без содрогания. Но что-то же предшествовало «толчку». Что? Какая-то пустота в голове. Короткая пустота и отсутствие мыслей. Вот он, ангел-хранитель, и достучался. Надо освобождать голову. Надо – не думать.
Нет, сначала додумаю про удачу. Удачлива ли я? Как будто бы не очень. В институт поступила со второго раза. Но в Ленинград, в нашем городке ни одного вуза не было, да я, кроме Питера, ни о чем и не думала. На экзаменах тянула то, чего не учила, но всегда выпутывалась. Не выиграла грант на поездку в Америку. Про лотерейные билеты уж и не говорю. Зато не умерла от жуткого перитонита в детстве. То есть удачи абсолютной – нет. Но, как ни странно, мне многое разрешается. Разрешили же выжить, учиться в престижном вузе, даже первого мужа дали в нужное время и, следовательно, не отправили по распределению в глушь, хотя всё уже было расписано… Вывод, значит, такой: даром ничего не дают, но, если копошусь настойчиво, взять позволяют. Мир вообще устроен так, что всё определяется количеством попыток. Сто раз попытаешься – три раза получится. Но теперь-то в том и беда, что времени на попытки у меня нет.
А Толстобров и в самом деле не похож на Гумилева: среднего роста, отнюдь не худой, и девочки его, должно быть, точно такие. И хорошо, что не похож. Гумилев – принц для сказки и любви. Влюбляясь и любя, хорошо погружаться в его стихи, как в туман Серебряного века. А с беременностями и детьми он как-то не монтируется, расстрелянный принц.
Магнезию прокапали, эффект – ноль. Мой резиновый мяч сжимается, тянется вниз и нехотя возвращается назад. Через некоторое время всё повторяется. Кладу руки на живот и в отчаянии начинаю его согревать и разглаживать, хотя Толстобров говорил, что живот лучше не трогать. Но это сильнее меня: пальцы тянутся сами, чтобы занять определенное место.
Пять минут, десять, двадцать, сорок. Час. Еще час… Мне делают какие-то уколы, опять капают – и так до ночи. Держу руки на животе, прошу, умоляю, пытаюсь не думать. Матка, этот кусок мышцы, мне кажется живым существом, которому тоже нужны флюиды заботы. Посылаю флюиды заботы, договариваюсь, пытаюсь наладить контакт. Не знаю что, но что-то меняется. Она откликается на мои мольбы, напрягается всё меньше, становится будто ленивой и часам к двум ночи вроде начинает успокаиваться. Убираю руки – снова недовольно собирается в комок. Возвращаю ладони назад – расправляется и поднимается вверх. Хуже всего то, что я не могу повернуться на бок. Она сразу стекает вниз и расслабиться в этом положении совсем не может. Вконец измученная, долго-долго лежу на спине с приклеенными к животу руками и, в конце концов, засыпаю в этой позе с тенью догадки, что нащупала тонкий прутик, за который можно зацепиться и выплыть.
– Ну ты спать!.. Снотворное, что ли, дали? – Вся палата смотрит на меня и ждет, пока я осознаю реальность, что почему-то дается с трудом.
Ах да, больница, капельница, руки на животе. Проснулась в той же позе, что и засыпала… Неужели я так пролежала всю ночь?
– Двенадцать часов. – Молоденькая Вика, напоминающая стрижа, смотрит на меня с изумлением в круглых глазах. – Толстобров приходил два раза, уж и обход сделал, а ты – как сурок. Вот бы мне так.
Прислушалась к животу – порядок. Убираю руки – всё хорошо. Значит, это возможно – договориться с маткой тактильным способом. Во всяком случае, вчера у меня получилось. А потом я убежала в сон, и это тоже сработало. Я всегда убегаю в сон, когда плохо или непонятно.
Вика, достав из тумбочки пачку сигарет, принимается ее совать куда-то за пазуху. Возмущаться у меня нет сил, я избегаю любого напряжения. Да она ведь и сама всё понимает.
– Вот рожу – сразу брошу. – Вика улыбается лучезарной улыбкой, вскарабкивается на довольно высокий подоконник и лихо спрыгивает вниз.
Вика исчезает, и мои соседки начинают говорить все разом:
– Закуришь тут, второй ребенок без отца. И что за судьба у девки! Не жизнь, а сериал какой-то.
Как узнаю скоро (а очень скоро я узнаю всё про всех), сериал Викиной жизни начался смертью матери – кстати, в родах. Сейчас вроде бы всех спасают, но ее не спасли. Ни ее, ни новорожденного сына. Вике было пятнадцать, ее младшей сестре – четырнадцать, но отец упорно хотел мальчика. Получив два гроба, он, как водится, запил года на полтора, потом протрезвел, почистил перья и женился на молоденькой соседке. В результате долгожданный сын появился, но квартира оказалась тесной, девочки – неудобными, денег, естественно, мало. По настоянию мачехи Вику отправили к тетке, пришлось идти в училище. Там общага, танцы, пиво. Вика, хоть и не красавица, была одной из самых видных девчонок потока и пользовалась этим, как могла: парни решали ей задачки, покупали колготки и сигареты, водили на дискотеки. Потом появился Пашка и, чтобы все остальные испарились, забрал Вику к себе домой. Пашкина мать, проводница на поездах дальнего следования, поворчала, а потом смирилась, рассудив, что лучше сын на глазах, чем на улице. Пусть и с этой девчонкой. И жили бы они какое-то время тихо и даже, возможно, счастливо, но Пашку забрили в Чечню, а из Чечни он не вернулся. То есть вернулся – в цинке.
Беременная Вика пила всякую дрянь и таскала ведра с водой, чтобы вызвать выкидыш. Но молодой организм на это не обратил никакого внимания, и вскоре у Вики родился здоровый мальчик. Это понятно: дают ведь когда не надо. А не надо, потому что сплошные «не»: не расписана, не прописана, не работает. Не вдова, не сноха.
Пашкина мать оказалась человеком и оставила их у себя. С внуком она вообще не расставалась, даже хотела усыновить ребенка, но Вика не согласилась. И может быть, впервые после смерти матери она почувствовала себя и дома, и нужной. Но дом – это зависимость. Костику исполнилось пять, Вике – двадцать три, и ей захотелось свободы. Свобода – это снова общага, неустроенный быт и ухажеры. Вернее, так: ухажеры, а значит, общага и неустроенный быт. Во второй серьезный роман Вика вступила во всеоружии опыта и с отчаянной жаждой жизни, когда хочется, чтобы всё время что-то происходило. От этой жажды довольно скоро материализовался герой, который приезжал на «десятке», объяснял, что Вика делает неправильные ударения в словах, не звонил по неделе, водил ее по барам и снова исчезал – словом, вел себя независимо и ужасно. И Вика пыталась вести себя независимо, но вместо этого дулась по три дня, плакала и, что хуже всего, ни на кого, кроме этого Степана, смотреть не могла.
После очередного двухнедельного отсутствия он возник с бутылкой ликера «Бейлиз» и с порога объявил, что разводится с женой и хочет ребенка от Вики. Месяц прожил в ее комнате (Костик к тому времени практически перебрался к бабушке), а потом уехал утром на работу и пропал. На этот раз надолго. Дальше всё было, как в старом меньшовском фильме о главном – когда героиня лежит лицом к стене и повторяет: «Ребенка не будет, не будет, не будет…» – а потом показывают роддом. Вике действительно скоро рожать, Степан исчез окончательно, но она его ждет, убежденная в исключительных, не зависящих от него обстоятельствах.
Привезли ее с кровотечением. Кровотечение остановили, но анализы плохие. Приходит Пашкина мать, приводит Костика. Они втроем сидят под окнами дородового отделения и подолгу об этом молчат.
– Вот это что, я вас спрашиваю? – кивает Громкая Зоя вслед выпрыгнувшей Вике. – Предохранялись бы, что ли!
В нашей палате две Зои, которые по манере говорить поделены на Громкую и Тихую. Они и внешне антиподы. Громкая – крупная брюнетка, Тихая – малогабаритная блондинка.
У Громкой Зои – двое почти взрослых детей, образцовый муж и внеплановая беременность в сорок три года. Вика для нее – инопланетянка, с которой она никогда бы не разрешила дружить своей дочери.
– И в каждой палате их по три – по четыре! – страдает она. – Помню, пятнадцать лет назад я сына рожала – на всё отделение таких было две, в крайнем случае три. И все на них пялились. Да пусть рожают, я не против, если есть на что растить. Но когда нищета, не могу… И дети такими же станут. На ее месте тут Галка лежала: тридцать лет, три аборта, теперь захотелось ребенка – вот сможет, не сможет? Мужа нет, декретные не платят. Это что, я вас спрашиваю?
– Детородный возраст, что же еще. – Тихая Зоя, которой, оказывается, как раз вчера надо было защищать диссертацию по политологии, уже три месяца по больницам. Она говорит – будто шепчет, и все сразу начинают прислушиваться. – Женщины делятся на два типа: те, у кого инстинкт деторождения сильный – их большинство, – и те, у кого так себе. Если ты из первых, всё-всё бросаешь и бежишь его реализовывать. Всё, всё ради этого – выглядеть, быть веселой, учиться…
– Ну, можно и не учиться…
– Именно что учиться, а также преуспевать в своем деле, чтобы на рынке невест быть конкурентоспособной и выйти замуж не за придурка, как все, а за перспективного самца, чтобы потомство тоже было перспективным. Вот ты думаешь, что собираешься на дискотеку – как бы отдохнуть и подвигаться. Не-ет… Ты идешь ре-а-ли-зо-вы-вать программу. Нет, правда, я восхищаюсь женщинами, живущими собственной жизнью, независимо от инстинкта. Но таких почти нет.
– Они страшные, вот и не нужны никому. – Вика появляется на подоконнике и смотрит на Тихую Зою во все глаза.
– Скорее, им никто не нужен. Они свободны для творчества, отдыха и прочих приятных вещей. У них есть время для себя. Вот ты, Оксана, сколько лет потратила на инстинкт?
– На что, на что? – Маленькая кругленькая Оксана даже приподнялась на кровати.
Оксана вынашивает пятую беременность, первые четыре закончились выкидышем, один – на шести месяцах. Перед тем как забеременеть в пятый раз, она долго лечилась, ушла с работы – ладно хоть институт успела закончить.
– Сколько лет пытаешься родить, говорю?
– Семь. Нет, почти восемь.
– Ну вот… Страшные, говоришь? Никому не нужны, говоришь? – Это Тихая Зоя Вике. – Актрису, мммм… помнишь, играла Лауру в «Маленьких трагедиях» – высокая восточная красавица. Я домой на выходные бегала, по телевизору ее видела. Сидит на набережной Москва-реки, ветер полощет волосы, дает интервью. Точных выражений не помню, но смысл такой: она не замужем, детей нет. «Не дал, говорит, Бог, да я особенно и не стремилась». Жила как жилось, очень даже неплохо. А под конец сказали, что ей пятьдесят. На вид – тридцать пять максимум. И она не врала, не играла. Чисто мужская логика: жить как живется, радоваться и цвести.
– Да с чего ты взяла, что она рада-то? – Вика всем говорит «ты», хотя в палате она самая младшая. Здесь все друг другу говорят «ты», потому что в больнице как бы всё аннулируется, становится неважным – статус, материальное положение, должности. Все обезличены, у всех одна цель, и только она – самое важное.
– Ну, видно по ней было. Видно. Человек живет для себя, потому что не развит инстинкт. А мы так не можем. Я даже позавидовала вроде.
– Может быть, не хотим?
– Именно что не можем. Вот о чем ты мечтала в детстве?
– Ну, о чем, о чем… Стать стюардессой… Не помню.
– А в личной жизни?
– Не то чтобы мечтала, но говорила: у меня будет муж и двое детей – мальчик и девочка.
– О том и речь. Вы подумайте: можно путешествовать, летать на Луну, плыть через океан, ходить в горы! Так нет, «мальчик и девочка»!
– А они потом вырастут и улетучатся. Сиди вяжи носки. – Громкая Зоя действительно вяжет носки, совсем не глядя на спицы. – Да не в том дело, улетучатся или нет. Жизнь-то проходит.
…Проходит, конечно, проходит. Тихая Зоя права. Это инстинкт.
Надо встать и хотя бы умыться. Боюсь вставать, боюсь умываться, боюсь шевелиться. Делаю несколько шагов к двери. Матка напрягается, опять сжимается вдоль и вниз, остается в этом состоянии секунды три-четыре и медленно расслабляется. Надо засечь время. Если схватки нерегулярные, это не страшно. Как привидение, бреду до туалета, потом назад – опять сжимается и едет вниз. Быстро съедаю холодный обед, принесенный соседками по палате, и скорее ложусь с руками на животе: всё, всё, уже кончилось. За пятнадцать минут вертикального положения – два сокращения, это немного, немного. Как раз поесть и сбегать в туалет. Отлежавшись, пытаюсь читать – мгновенно собирается в комок и едет вниз. Значит, мне нельзя ничего – ни разговоров, ни чтения, ни ходьбы. И если сейчас в моде всякий экшн – динамичное, активное действие, – то у меня всё наоборот: наступило время антиэкшн, время активного бездействия. Это мой единственный шанс. Счастье, если дотяну до тридцати двух недель – там уже всех спасают, донашивают в кувезе. Господи, дай мне уберечь его хотя бы до этого срока, пусть будет недоношенный, не очень здоровый, только живой. Живая. На УЗИ сказали: будет девочка. Только бы протянуть эти два месяца, хотя бы два месяца, там станет легче.
Снова принесли капельницу – правую руку с живота пришлось убрать.
– С завтрашнего дня у вас электрофорез. Физиокабинет в том конце коридора. Возьмите с собой полотенце. – Медсестра ловко устраивает мою руку, убирает жгут и кладет на тумбочку направление.
– Мне не дойти. Не смогу.
– Объясняйтесь с врачом, если не хотите лечиться.
– Я хочу. Но мне не дойти, это правда.
Не слушая, она уже занимается Оксаной. У Оксаны все вены исколоты и спрятаны, их никто не может найти с первого раза, но она молчит и терпит, терпит и молчит. Тоже не хочет тратить силы на бесполезное напряжение. У нее тоже последний, ну, может, предпоследний шанс. Надо капать, и надо лежать. Лежать и капать. Ничего другого пока не придумали.
Как-то быстро наполз вечер – самое тусклое в больнице время. Днем процедуры, капельницы, все шелестят. Вечер тратится на телевизор, который принес Зоин муж, и вялые разговоры. На телевизор у меня аллергия. Разговоры, по крайней мере, не мешают. Главное – прожиты первые сутки.
Мы рано гасим свет, дружно пытаясь поскорее прикончить этот день и перетечь в следующий.
Сутки тянутся, как неделя, зато неделя проходит, как сутки. Из-за однообразия. Время тянется и одновременно летит. Это известные вещи.
– Не хочу рожать! Не хочу рожать! Не буду! Сделайте что-нибудь! Я не должна!
Так и есть – к нам. В нашей палате единственное свободное в отделении место. Шесть утра, но новый больничный день уже запущен – двери распахиваются, и на каталке ввозят совсем молодую девчонку, лет восемнадцати. Она уже под капельницей – гинепрал. Осторожно перекладывают на кровать, даже не переодев. Следом появляется Маргарита Вениаминовна Реутова, дежурный врач. Говорят, еще в институте ей дали прозвище Белая Ладья – за высокий рост и светлые волосы. Она здесь вторая после Толстоброва и, несмотря на внешнюю строгость, вполне сердечный доктор.
Реутова явно озабочена и говорит скороговоркой:
– Успокойся, Саша. Конечно, рано, тридцать две недели. Но, может, обойдется. Молчи, постарайся расслабиться.
Тридцать две! Рубеж, который я себе назначила.
– Пожалуйста, помогите. Ну пожалуйста! Я же ничего такого не делала – не прыгала, не падала. Ведь еще целых два месяца! У меня мальчик, а мальчики хуже выживают. Это я виновата, потому что его не хотела. Но недолго, совсем недолго, потом подумала и захотела. И мама с бабушкой говорят: надо оставить. Я уж и игрушки стала приглядывать. Сейчас столько всяких игрушек!.. Он выживет, ведь выживет, да?
Реутова слушает сердцебиение ребенка и говорит медленно и гулко:
– Если ты сейчас же не замолчишь, роды могут начаться прямо здесь. А у нас нет перинатального центра, понимаешь? Чтобы спасти недоношенного, нужны кувезы, аппараты для искусственной вентиляции легких и много чего еще. То есть нужен перинатальный центр. Отправлю туда, если не остановим схватки. Но не раньше. Возить туда-сюда тебя вообще нельзя. Всё, помолчи.
– А вдруг он не выживет?
– Мой папа, доктор наук, профессор, родился семимесячным весом килограмм и шестьсот граммов. Да еще упал при этом на лестницу… Моя тетка родила семимесячных двойняшек – оба выжили. Кило четыреста и кило восемьсот. Сейчас двухметровые мужики. Может быть, еще остановим…
Видно, что Реутова переживает не меньше этой Саши и что шансов остановить роды мало. Все замерли, притаились, как мыши, словно от этого что-то зависит.
Реутову уважают, любят и жалеют. Уважают, потому что хороший врач – ездит на все усовершенствования и конгрессы. Любят, потому что сочувствует нам и очень старается помочь. А жалеют из-за другого: столько лет помогать родиться другим, зная, что своих детей никогда не будет! У нее чудесный, говорят, муж. К тому же модный художник, везде выставляется. Говорят, они всю Европу объехали и весь бывший Советский Союз. Только вот детей нет. Сначала он всё не обследовался, а потом, когда она уговорила, не смогла скрыть результаты: у него не может быть детей. Девяносто процентов женщин на ее месте, конечно бы, скрыли и сделали всё, чтобы заполучить эту беременность любым путем. А она не смогла.
– А Дашка, сестра моя, смогла, – сказала Оксана, когда мы в очередной раз переживали-пережевывали трагедию своего доктора. – История точь-в-точь такая же, только сестра сама пошла за анализами, выбросила их в урну, купила мужу каких-то витаминов, велела пить полгода, а сама залетела от бывшего одноклассника. Девочке – родилась девочка – уже десять. И ведь Дарья молчит, даже мама наша не знает. И все довольны, Игорь, муж, девчонку любит без памяти. Что самое удивительное – они похожи как две капли воды. А так бы разошлись, наверное…
В общем, всё по Стриндбергу, который еще в конце позапрошлого века изрек: «Отец всегда неизвестен». Видно, сильно взволновала этого шведа проблема отцовства, раз он написал драму «Отец»: там жена сообщает мужу, что, возможно, не он настоящий отец их единственной и горячо любимой им дочери. Мужик два акта корчится. Посмотрела я этот спектакль и подумала: пожалуй, это и есть наша единственная и реальная им месть за всё – и родить сами не могут, и отцовство их всегда можно поставить под сомнение. Потом даже статистику посмотрела: примерно шестая часть всех детей на планете рождены не от тех отцов, которые ими считаются. Процент усыновления есть, но совсем небольшой. И этим утешимся.
– Я тоже смотрела как-то легковесную передачку, – оживилась Тихая Зоя, – опрашивали бывших беременных, то есть уже молодых мамаш. Вопрос такой: ваша первая мысль после того, как вы узнали, что беременны? Одна говорит: как буду доучиваться, всего третий курс и вообще не на что жить. Это понятно. Вторая охала-ахала, что у нее какой-то мегапроект на телевидении и как она от него откажется. А третья сразила – никаких, говорит, мыслей не было, кроме одной: кто отец?
– А я про детей своих старших подумала – скажут: совсем мамаша сдурела, – выдохнула Зоя. – Не сказали, даже обрадовались.
– А я: неужели снова не выношу?
– И я.
– И я тоже.
Выношу – не выношу. Этим кончаются все наши разговоры, с чего бы они ни начинались и куда бы ни текли.
За окном жизнь, лето перетекает в осень. Весь больничный дворик усыпан сухими листьями, и даже в пурпурных цветах заметен намек на увядание. Сейчас полежу, соберусь с силами и пойду умываться.
Самое страшное – это утро. Утром самые сильные сокращения. После еды и сладкого чая матка лениво расслабляется. Я заметила, что она хорошо реагирует на сладкое, но не могу же я сидеть на одном сахаре! О том, чтобы выйти на улицу, и не мечтаю, но панический страх вертикального положения притупился и уже отпускает ненадолго пожить – минут пять пошагать по палате. Мне капают и колют, но существенно ничего не меняется: чуть реже, чуть меньше, но матка всё время сжимается, всё время едет вниз, и если раньше я думала, что это приступы, которые пройдут, то сейчас ясно: ничего не пройдет, так и буду лежать до родов в одной позе. Пока срок маленький, это возможно, но потом все беременные устраиваются на боку, «укладывая» живот рядом, – что я буду делать тогда? И вообще на спине лежать не рекомендуют, пережимается нижняя полая вена. Спросила Толстоброва, он только рукой махнул: лишь бы долежать до конца, бог с ней совсем, с этой веной.
Да и вена сейчас не главное. Главное, они не могут найти причину моего состояния, анализы нормальные. Реутова подозревает внутриутробную инфекцию, Толстобров склоняется к тому, что причина, скорее всего, «в голове», назначил мне психолога. Вплыла дама, приятная во всех отношениях, долго рассказывала, как она занимается с беременными в бассейне, как там хорошо и какие у них чудесные купальники – сочных цветов. Потом выдержала мхатовскую паузу и поинтересовалась:
– Может, и вам плюнуть на всё и поплавать в бассейне?
– Мне лучше покататься на коньках или, как его, на скейтборде. Тем более, я это уже делала.
Дама похлопала глазами, что-то бодро записала в моей карте и удалилась. Толстобров потом меня ругательски ругал, объясняя, что я пренебрегла светилом, которое нас вообще из милости консультирует.
Поругал, ушел. И я сразу подумала, что в этом что-то есть. В том, что я каталась. А я действительно каталась – на коньках и по льду. И срок был такой же, пять месяцев. Неважно, что было это сто лет назад и с Аней (дура, конечно, набитая, двадцать лет, а ума нет, упала бы на попу – сразу выкидыш), но было же и, главное, имело счастливый финал. Значит, я Та, Которая Катается На Льду. Вот противоположная сторона, куда нужно бежать, то есть просто повторять эту фразу, как утверждает одна парапсихологическая книжка в мягкой обложке. Книжек таких, понятно, сейчас вагон и маленькая тележка, но эта меня развлекала два вечера подряд рецептами придурковатых ритуалов вроде «посушите выстиранное белье в трамвае, и будет вам счастье». Позже у доктора Норбекова я прочитала полунаучное объяснение связи между счастьем и высушенным в трамвае бельем (как и любым другим нелогичным и лучше публичным, а главное, дурацким действием), но сначала просто поверила. Мы даже как-то веники на пустыре закапывали, чтобы, наконец, завелись деньги – и точно, получили какую-то внеплановую премию.
Значит, так: я Та, Которая Катается На Льду. Не Та, Которая Лежит и Ничего Не Может, а Та, Которая Катается На Льду. Это называется – переименоваться.
Мы бегали в парк Победы – благо, он был совсем рядом – и катались на катке. Есть даже фотография: стою на льду на коньках, в «беременных» штанах и нелепой шапке.
Бессознательная юность – великое дело. Помнится, я и на учете-то нигде не стояла, но у меня и мысли не было, что это может плохо кончиться. Помимо коньков я летала самолетом, ездила на велосипеде, зачем-то посещала сауну и совершала массу совершенно излишних перемещений, и, когда меня все-таки упекли в роддом чуть раньше положенного, я искренне горевала о не догулянных на свободе трех-четырех днях, мечтая скорее вернуться в строй.
Сейчас не могу даже читать – слава богу, хоть спать получается. И, получается, спать – мое единственное развлечение. Во сне мне хотя бы не страшно.
Саше зарядили магнезию. Реутова, которая в восемь должна была уйти домой, не ушла и всё время заглядывает к нам. Саша то ли дремлет, то ли в прострации, словно это утро застыло вокруг нее. В конце концов, она совсем молодая, есть время на попытки и перемены. Не то что у меня. Но ведь этим ее не утешишь.
Матка недовольно напрягается, сжимается и начинает ползти вниз. Опять забыла про руки! Руки на живот, согревать и разглаживать, сейчас всё пройдет. Не думать, не думать. Нет, она точно живет своей, независимой от меня жизнью, которая подчиняется непонятно каким законам.
Вдруг девчонка приподнимается и растерянно просит:
– Позовите врача. У меня потекло что-то…
Вика приводит запыхавшуюся Реутову, и та сразу же приказывает вызвать «скорую»:
– В перинатальный.
Толстобров велит мне думать о хорошем. Но координаты не уточняет. Запретила себе думать о будущем – приходится о прошлом. Прошлое – это детство, юность и более-менее взрослая жизнь. Детство и юность – отсутствие опыта, зависимость, а главное – незащищенность. Потом, годам к тридцати, вырастает панцирь, в который в случае чего можно и спрятаться.
А тут наступает самое вкусное десятилетие нашей жизни – от тридцати до сорока. У кого-то от двадцати восьми до тридцати восьми, у кого-то от тридцати двух до сорока двух. Пьянящее ощущение свободы: тьма возможностей, а к ним бездна времени. Можно то, можно это. А можно вообще всё задвинуть подальше, потолок еще далеко.
Мои от тридцати до сорока, точнее, от двадцати семи до тридцати семи – это газета, Олег и Ольга. Впрочем, Ольгой ее никто никогда не звал – все называли по фамилии: Шуман. Фамилия не родная, по мужу, но Ольга ее при разводе оставила, как сделал бы всякий пишущий человек. И когда газета, в которой работала Шуман, попадала мне в руки, я искала только ее фамилию. Ольга писала материалы на «человеческие» темы, которые всегда оказывались срезом какого-нибудь культурно-социального явления. Естественно, ими зачитывались. Сидя у себя на кухне глубокой ночью и наслаждаясь очередным оригинальным извивом ее мысли, я воображала Шуман толстой старой еврейкой. Ну, может быть, не очень старой, но обязательно толстой и обязательно еврейкой.
Статья, «адресованная» мне, начиналась так: «Она прожила не свою жизнь…» Это я теперь понимаю: господи боже мой, кто же из нас ее свою-то прожил? Может быть, один из десяти. А тогда будто небеса разверзлись, и Тот, Кто Выше Всех, сказал: «Маша, делай же что-то со своей жизнью». Называлась статья «Письма самой себе» и рассказывала о том, как жила-была женщина, вышла замуж не за того, профессию получила не ту, двадцать лет просидела не там, то есть в каком-то НИИ, и, чтобы не сойти с ума, по выходным писала себе письма, оказавшиеся чудесной прозой. История настолько совпадала с моей (разве что писем я себе не писала и в своем «НИИ», будь он неладен, высидела всего пять лет), будто кто-то всё про меня разузнал и донес этой Шуман.
Прочитала я ту статью раз тридцать, а потом написала сразу два заявления: на развод и увольнение. А через полгода уже работала в газете, и сидели мы с Шуман в одном кабинете.
Но сначала я к ней пришла. Без договоренности, без звонка. Решила: если застану ее на месте и разговор получится – значит, там, наверху, это мне разрешили.
И мне разрешили. Отрыдав у нее часа два, я полетела в садик за ребенком, а Шуман, как потом мне рассказывала, до вечера сидела в оцепенении с единственной мыслью в голове: вот так, напишешь всякую ерунду – и сломаешь человеку жизнь.
Ни еврейкой, ни тем более толстой она никогда не была. Тридцатитрехлетняя шатенка, в девичестве Третьякова.
Мы не виделись года три-четыре, но разве можно забыть ее по любому поводу ликующие глаза и обращенный к тебе интерес! Только Шуман могла бы помочь мне сейчас, и я знаю, что бы она сказала. То же, что и всегда. В очередной раз, когда у меня рушился мир, она спрашивала со своей очаровательной картавостью:
– Машка, ну скажи, скажи, неужели тебе никогда не было хуже, чем сейчас? Говори честно.
– Не было, Шуман, не было. Честное слово.
Она расцветала в улыбке:
– Ну вот, видишь, значит, дальше будет только лучше, потому что критическую точку ты уже миновала.
Если же ответ звучал: было, конечно, было, – она улыбалась еще лучезарней:
– Ну вот, значит, и это вытерпишь.
Был у нас художник Гена Зорин. Отработал он в газете лет пятнадцать, сказал, что это его разрушает, и переехал в заброшенную деревню – писать и радоваться жизни. Не видела его лет шесть, а тут случайно на вокзале столкнулись прямо перед моей свадьбой, и Генка говорит:
– Ой, Машка! Только вчера с тобой разговаривал, а вот теперь повидались!
– Не могли, – говорю, – Гена, мы с тобой нигде разговаривать ни вчера, ни месяц назад. Тебе, наверное, показалось. Ты здоров?
– Ой, прости, прости. Я объясню. Видишь ли, чтобы поговорить с нужным или просто приятным тебе человеком, совсем необязательно его видеть и слышать. Это понимаешь только на хуторе, в одиночестве. Мы частенько с тобой беседуем. И с тобой, и с Ольгой.
Вот и я теперь как Гена научилась. Сижу (лежу!) на хуторе.
Но мне не хочется говорить о своем состоянии. Мне нужно – не говорить. Поэтому я запретила приходить в больницу всем, кроме Алеши и Ани. Анька бывает редко: начался одиннадцатый класс, подготовительные курсы. Алеша – каждый день, хотя работает за городом, а живем мы в двух часах езды от больницы. Он не знает, чем мне помочь, да и, собственно, нечем.
Не надо, не надо, не надо про это. Буду снова думать про Ольгу. Такого искреннего, неподдельного интереса к людям, как у Шуман, я никогда ни у кого не встречала. Она сама была насквозь настоящая, без примесей.
– Ты, Оля, натуральное дерево, дорогих пород, – сказал ей какой-то поклонник, и этот комплимент она хранила.
Шуман была напичкана историями и людьми. Даже в устных мимолетных ее рассказах эти люди превращались в героев, действия которых обретали тайный смысл и высокую цель. И я заражалась этим интересом, хотя вне Ольгиной системы координат персонажи часто становились безжизненными куклами, лишенными воли и стратегии жизни.
Поехала она, скажем, по письму в какую-то дыру (тогда еще газет было мало, в них писали письма, время от времени приносившие истории), а вернулась с очерком про «сухопутного» моряка Пашу Кошкина, полтора года сидевшего в греческом порту на судне, куда он завербовался то ли поваром, то ли механиком. По непонятным, скорее всего финансовым, причинам судно не могло вернуться домой, зарплату давно никому не платили, и голодающий Паша жаловался в письме к родителям, что всё, что можно, они с корабля свинтили и продали, и теперь домой хоть пешком. Кто-то рассказал ей про этого Пашу в сельском автобусе, и она вышла прямо на следующей остановке, в его деревне – собирать материал. Тронули ее трагикомичные и в то же время романтичные Пашины послания с подробностями выживания в чужой стране до того, что она всю ночь переписывала их от руки, неделю нам о них рассказывала и выдала потрясающий текст. Через полгода вернулся домой этот Паша, ввалился к нам в редакцию с ящиком шампанского и оказался напичканным анекдотами затрапезным дядькой. Не более.
В жизни каждого человека она видела ТЕМУ, и, рассказывая ей что-нибудь, я всегда набредала на нужные мысли. С ней я была умнее и лучше, чем сама с собой. И жизнь с ней была интереснее и значительнее, чем жизнь без нее.
У Шуман был долгий и трудный роман с одним режиссером, и, когда он наконец прекратился и наступило время зализывать раны, она, поплакав так с недельку, вдруг просияла и в ответ на мое изумление изложила мысль, которой я долго потом утешалась:
– А знаешь, Машка, ведь я неправильно реву. Ведь это же было! Пусть и закончилось, но ведь было же, а значит, его, то есть прошлое, никто уже не отнимет. И, значит, оно со мной.
Шуман жила с мамой и дочкой-подростком, и, когда я говорила, что вот, хорошо бы ее, Ольгу, выдать замуж, она отвечала, что не получится, потому что в ее жизни всё и так стоит на своих местах.
– Понимаешь, – говорила она, – у меня уже есть семья, и роли в ней давно распределены. Я – это муж, добытчик, я у нас зарабатываю. Соня – в роли жены, ведет хозяйство, учится и всё такое прочее. А бабушка у нас – ребенок.
Она заливалась смехом, рисовала рожицы на углах всех бумаг и добавляла страшным шепотом:
– Но ведь можно иметь связи на стороне!
Поклонников у нее и в самом деле была масса. Время от времени она выуживала кого-нибудь из этой массы («Та-ак… Ты у нас будешь принц!») – и заводила роман на всю жизнь. Заканчивались романы довольно быстро, в основном из-за несоответствия принца занимаемой должности, Шуман хмурилась дня два и срочно отправлялась в командировку:
– А то сижу тут у вас – ни украсть, ни покараулить!
«Ни украсть, ни покараулить» – ее любимое выражение, это из Шукшина.
Я тогда как раз придумала рубрику «Вечные сюжеты», и мы долго забавлялись, прикладывая классику к сегодняшнему дню. Ту, которая прикладывалась: «Кому на Руси жить хорошо», «Гробовщик», «Отцы и дети», «На дне», «Мертвые души», «Герой нашего времени»… Было интересно рассматривать и разбирать жизнь, я в этом нуждалась.
Олег был героем нашего времени. Героем – в смысле типажом. Человеком, Который Ни В Ком Не Нуждался. Он пришел в редакцию, принес какой-то материал и завис у нас в кабинете, потому что Шуман, как обычно, включила свой интерес. Да она его и не выключала, появись на пороге девяностолетняя бабка, всклокоченный мужичок или студентка-первокурсница. Потом мы вместе вышли, посадили Ольгу на трамвай и отправились домой пешком, так как выяснилось, что живем почти рядом.
Я плохо помню ту прогулку, потому что Олег оказался человеком из сна, моего сна, показанного мне год назад. Год назад у меня умер папа, и вскоре он мне приснился. Я его будто о чем-то спросила, и он показал мне мою будущую семью: мужчину, поразительно похожего на Олега, и маленького мальчика, которого тот держал за руку. С тех пор я всматривалась в знакомых и незнакомых мужчин – впрочем, безрезультатно. Но и забыть о той картинке решительно не могла: подобные сны мне просто так не снятся. И вот он появился. Я была уверена: он. И в то же время какое-то опасение мешало радостному чувству узнавания. Я что-то подозревала, и это подозрение о чем-то меня предупреждало. О чем? А о том, что этот человек мне не предназначен. Будто кто-то невидимый стоял за плечом и шептал: «Бесполезно, ты только потратишь время…» «А сон?» – с надеждой возражала я невидимому. Тот, наверное, пожимал плечами и отворачивался.
Практически в молчании мы добрели тогда до моего дома, развернулись и пошли провожать Олега, потом опять меня.
– Я бы непременно сделал вам предложение, если бы был уверен, что не испорчу вам этим жизнь.
Я спросила:
– Вы всегда делаете предложение в вечер знакомства?
– Нет, – просто ответил он, – но сейчас мне его хочется сделать.
И исчез.
Худой, высокий, гибкий. Небрежный в одежде и точный в словах. Всегда ироничный и молчаливый.
Нет, он, конечно, не исчез, но увяз в своей физике, диссертации, грантах. Он и в самом деле, в отличие от меня, ни в ком не нуждался.
Спустя месяц мы столкнулись где-то в городе, он подвез меня на такси и предложил пойти на лыжах. Учитывая, что на лыжах я последний раз стояла в десятом классе, вариант был, прямо скажем, трагикомичный, но выбор всё равно отсутствовал.
После лыж он пригласил меня на горячие бутерброды, и я уже знала, что увижу: забитую книгами, видео– и аудиоаппаратурой однокомнатную, сто лет не ремонтированную хрущевку, в которой днем и ночью горит свет. На три года она стала для меня лучшим местом на свете.
Диссер Олег писал прямо на коленях, поминутно отвечая на телефонные звонки и варя себе кофе. Вечерами мы сидели в кафе, возвращались из театра или просто гуляли. Аньку забирал на выходные отец, а меня, получается, Олег. И сначала всё было логично.
Первый раз мы поссорились, когда я в его отсутствие вымыла плиту. Олег внимательно посмотрел на меня, отправил все тряпки в мусорное ведро и сказал:
– Никогда больше этого не делай.
– Почему?
– Потому что не нужно.
Я была гостьей, частой гостьей, но плита оказалась запретной зоной, и он выбросил предупредительные флажки.
Он был женат два раза – оба брака с треском лопнули. И никаких браков он больше не желал.
– Ты что, не узнаешь интимофоба? – увещевала меня Шуман. – Ну, почитай про них, почитай. Люди, бегущие от близких отношений как черт от ладана.
Еще скептичнее, чем к Олегу, она относилась к моему навязчивому желанию завести второго ребенка:
– Тебе сколько? Тридцать два. Пока то да се, забеременеешь, родишь – будет тридцать пять – тридцать шесть. Бабушек у тебя здесь нет – значит, лет на семь ты вычеркнута из жизни. В самые светлые годы.
– Лучше их потратить на живого человечка, чем на газету и беготню по презентациям.
– Не знаю. Вот мне тридцать девять. Положим, в тридцать пять я его родила и сейчас у меня четырехлетнее дите… Нет, ни за что, никогда! Ни за что, никогда.
– Почему?
– Мало сил. Этот ребенок заберет всё, что еще осталось.
…Да, тогда, семь лет назад, у меня появилась эта мысль. Аньке исполнилось десять, и я почувствовала пустоту. Даже не пустоту, а потребность, ежедневную потребность в ребенке, как будто кто-то крохотный стучался в мою жизнь, ласково и властно требуя его туда впустить.
Чтобы попасть в место назначения, нужно бежать в противоположную сторону. Знать-то я это знаю, только применять не могу. Бежать в противоположную сторону – значит, не хотеть и вообще жить как живется.
…Близилось лето, и мы с дочкой умчались на море, где не было ни плит, ни флажков, ни интимофобов. В конце концов, это его, Олега, выбор: я-то при чем? Выкинув всё из головы, я по-настоящему радовалась жизни, удивляясь, почему мне не удавалось это раньше.
Вот тут-то он проснулся… Наше спокойствие и радость жизни без них – вот чего они не выносят по-настоящему. И нормальные, и интимофобы. И если последний месяц перед моим отъездом я видела его рассеянно-скучающий взгляд из-под очков, то после нашего моря Олега точно подменили. Из рассеянного взгляд стал потерянным и был красноречивее всяких слов. Он сразу заговорил о свадьбе.
И вроде бы надо было радоваться, кроить платье и новую жизнь, если бы не одно: ощущение того, что этот человек мне не предназначен. А значит, предназначен другой.
Когда он позвонил и сказал, что получил грант на десятимесячную учебу в Англии, я почти обрадовалась. Всё решалось помимо моей воли. Точку ставили без меня, и это было облегчением. А в том, что это точка, я не сомневалась.
Кроме бесценного опыта, лыж и оригинального рецепта глинтвейна, он подарил мне байдарку. Если бы не Олег, вряд ли я до нее добралась бы когда-нибудь. Заядлым туристом он не был, но раньше сплавлялся: байдарка пылилась на антресолях.
Это чудесно в своей простоте: набиваешь рюкзак, садишься в электричку, выходишь где-нибудь у воды, собираешь лодку и – вниз по реке. Не надо сдавать на права, проходить техосмотры. Сел – и поплыл среди скал и вековых елей. Обычно мы выбирали Чусовую – из-за оборудованных стоянок и относительной предсказуемости маршрута. В глушь вдвоем не поедешь, а в компанию нам не хотелось. Однажды мы стояли где-то у скал, в сплошных камнях (еле-еле отыскали кусочек земли, чтобы разбить палатку), я принялась по ним лазать и прыгать и наткнулась на гигантский старинный жернов – такие раньше устанавливали на баржах для устойчивости. Значит, в восемнадцатом веке здесь кто-то разбился… И так жутко и странно было сидеть на этом историческом жернове в совершенно безлюдном месте, что я даже испугалась: вдруг вот сейчас время начнет раскручиваться вспять? До сих пор помню это ощущение тока времени – именно здесь, в крошащихся, как сахар, скалах.
Раза два мы сплавлялись осенью среди красных осин и синеватых елей по свинцовой густой воде, и было так чудесно потом притащиться домой, бухнуться в ванну, а после сидеть в гигантском кресле и пить глинтвейн под песни Городницкого о том, как «держит осень красной лапой меня за мокрое плечо». В одной фразе – всё послевкусие наших поздних сплавов, и, повторяя ее сейчас, я кожей вспоминаю те ощущения. Это к вопросу о хорошем, о котором мне велят думать.