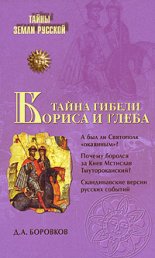Вокруг себя был никто Шехтер Яков
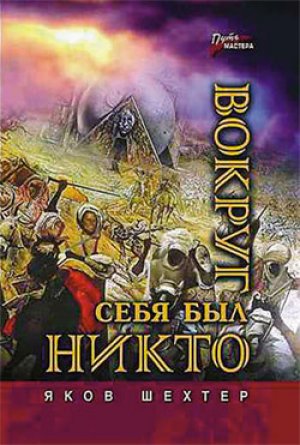
На бульваре ничего не изменилось. Те же платаны, скамейки. Даже «Лондонская» того же салатового цвета. Зеленый Дюк грустно глядит в море… Оп-па-па, уже не в море.
– А это что за безобразие?
– Гостиницу построили, «Кемпински» называется, – мрачно отвечает Мотл, – для богатеньких буратинушек. Нашли место, прямо за Морвокзалом. Весь вид перекрыли, ублюдки. Теперь ждем цунами, может, снесет к чертовой бабушке шедевр современного зодчества.
Плохо, Мотл плохо. Минус два очка. Впрочем, чего ожидать от самоучек? Раньше, когда открыто действовали психометрические школы, мальчиков в пятнадцать лет отсылали учиться подальше от дома. Чем меньше привязок – тем лучше учеба. Связь у психометриста должна быть лишь одна – с психометрией.
Человек, на самом деле, проверяется не в больших вещах. Они на виду, в них проще напрячься, перебороть себя. Мелочи, мелочи, вот где зарыты все кошки и собаки. Установить уровень продвижения я могу по двум вещам: по тому, как проверяемый спит и как завязывает шнурки на ботинках. А уж так огорчаться по поводу испорченного вида непростительно даже для начинающего.
Он неровный, Мотл, вернее, ломаный. Для гладкости недостаточно прочитать правильные книги, мало только желания и плохо помогают самые лучшие советы. Психометрию нужно впустить в себя с детства, вдохнуть вместе с запахом старых фолиантов, отрепетировать на школьных уроках. Правильные привычки плохо приобретаются в зрелом возрасте, на месте ступеньки, через которую перепрыгиваешь, зияет пустота.
После женитьбы, оказавшись отцом трехлетней девочки, я спросил одного «старого психа»:
– С какого возраста нужно приступать к воспитанию?
– За двадцать лет до рождения, – ответил он. И тогда я понял, почему мои родители так не хотели Веру. Вернее, понял-то я давно, а вот тогда ощутил, физически, кожей.
В юности кажется, будто противоречия можно затушевать, а несоответствия заглушить. Вера была не из семьи психометристов, но мне представлялось, будто ее любовь ко мне поможет преодолеть все препятствия. Сегодня, спустя жизнь, я должен признать, что ошибся.
Все началось с детского садика. Мы тогда уже жили в Израиле, и я мог спокойно записать девочку в лучшее психометрическое учебное заведение. Но Вера встала на дыбы.
– Не позволю калечить ребенка! – заявила она. – Дадим ей все, а как вырастет, пусть решает сама.
Когда вырастет… Место в душе не остается пустым. Если не заполнить его благовонным маслом, туда набьется всякая грязь, в избытке плавающая по волнам массовой информации.
После долгих разговоров Вера с трудом согласилась на садик для начинающих, серединка на половинку. Я рассчитывал, что с годами удастся убедить ее отдать девочку в хорошую школу, но моя надежда оказалась пустоцветом. Название школы мне приходилось скрывать от друзей и сослуживцев. От стыда. Да, от стыда.
– Налюбовался? – Мотл, похоже, просто не понимает своей проблемы. Ну, не мне ее решать. Сходу в такие вещи не лезут. – Теперь на кладбище?
– Теперь и всегда. Помни о конечной станции и никогда не ошибешься.
– Помни о кладбище! Класс! Сам придумал? Хотя, мне кажется, нечто похожее я уже слышал.
– Жми на педаль, змей.
«Ниссан» покатил вдоль бульвара. Насчет «Кемпински» Мотл, пожалуй, прав. Только ни выразить, ни сформулировать свои ощущения он пока еще не умеет.
Символы места не пустой звук. Символы образуют фантомы, на которые качают энергию миллионы людей. Сначала человек создает такой призрак, а потом призрак начинает формировать атмосферу и менять народы. Кремль –не просто визуальный образ, так же, как и египетские пирамиды, черный камень в Мекке, Стена плача, небоскребы Манхэттена. Эти фантомы образуют то, что принято называть национальным самосознанием. Энергетический поток, подвигающий француза быть французом, а не чехом или бельгийцем, протекает через старое железо Эйфелевой башни. Уничтожьте или перестройте башню, и французы станут иными.
Пушкин, в начале приморского бульвара, обернувшись спиной к символу власти – Городской думе, а потом облисполкому, больше сотни лет рассматривал Дюка. Дюк, в свою очередь, глядел на море. Энергетика дышала: волны, метавшиеся между двумя символами, уходили в открытое море, и возвращались оттуда, очищенные, преобразованные отдельной волей миллионов тонн свободно живущей воды.
«Кемпински» закрыл, замуровал амбразуру, энергетика сникла, бегая без конца по замкнутому треугольнику. Вольное дыхание, символ приморского города, закончилось с окончанием строительства гостиницы. И пока стоит «Кемпински», Одесса будет хиреть, превращаясь из города-вдохновителя поэтов в обычный портовый придаток инфраструктуры, вроде Новороссийска или Керчи.
– Не забыл? – Мотл чуть притормозил перед дворцом Воронцова.
– Нет, не забыл.
Как было приятно, после продувающего насквозь ледяного ветра, очутиться в теплой тишине, заполненной запахами надраенного паркета, старой мебели, ухоженными фикусами с тщательно протертыми листами, долго перелистывать страницы, выбирая книги, – больше трех не давали, а трех хватало на полтора дня,– глядеть из-за двойной рамы на безобидное отсюда свинцовое море, с белой полоской льда у берега, серьезно обсуждать с пожилой тетей-библиотекаршей характеры героев из сданной книжки.
Тетю звали Римма Львовна, когда в библиотеке было пусто, она украдкой выдавала мне четыре книги, вместо положенных трех, а иногда даже угощала конфетой, соевым батончиком. Она предложила мне «Остров сокровищ» и тем самым впустила в мою жизнь пиратские песенки, звон пиастров, скелеты в виде указательных стрелок и прочую дребедень, от которой мне потом пришлось избавляться долго и мучительно.
В юности чердак кажется безразмерным, но когда в зрелые годы начинаешь наводить в нем порядок, выясняешь, что он битком набит ненужной рухлядью. Она отрывается вместе с досками пола, оставляя за собой пугающие дыры в черноту подсознания. Лучше не возвращаться к ним, не оборачиваться, иначе призраки беспощадно оживают.
У нас в доме книг почти не было. Несколько фолиантов по психометрии, еще довоенного издания, школьные учебники, и все. Отец решительно противился всякому погружению в «смутные сумерки чувств», мать не соглашалась, но терпела. До того, как я научился читать, вместо сказок отец рассказывал мне истории про психометристов. Имен он не называл, означая их просто: А., Б., В. Мне тогда казалось, будто их так и звали, но, выучив алфавит, я понял, что за этим кроется некий умысел.
– Когда-то давно, а потом совсем недавно, – объяснил отец, – наше движение преследовали и травили, и настоящие имена пришлось скрывать.
– Да и зачем везде толкать свое имя, – добавил он, внимательно глядя на меня. – Слава – дурная штука, настоящий психометрист предпочитает оставаться в тени. Ты ведь будешь настоящим, да, сынок?
Он погладил меня по голове – неожиданная и редкая ласка. Горло перехватило, слезы навернулись на глаза.
– Да, папа, – я с трудом сумел выдавить из себя слова.
– Обещаешь?
– Обещаю.
Много лет прошло с тех пор, но эта детская клятва почему-то навсегда запечатлелась в моей памяти.
Телевизор так и не появился в нашем доме, радио тоже. Все свободное время отец проводил над своими книгами и упражнениями. Меня он привлекал сначала как бы играючи, а потом все жестче и жестче. К восьми годам я уже умел делать многое. Но вместе со «многим» в душе собралось немало горечи и обиды за время, которое, как мне тогда казалось, я трачу на всякие глупости.
Мои сверстники гоняли футбол, ловили бычков с обросших зеленой тиной пирсов, катались на велосипедах, а я сидел с отцом в полутемной комнате и в сотый раз проделывал упражнения по концентрации и расслаблению. Теперь я понимаю, что на самом деле, «всякими глупостями» занимались мои сверстники, но тогда, в детстве, обида часто сжимала мне виски горячими пальцами.
Часами я заучивал наизусть длинные тексты, переполненные непонятными словами, записывал их на бумагу, а отец сверял написанное с оригиналом, слово в слово. Мы начали с нескольких предложений, потом перешли к абзацам. К десяти годам я спокойно ловил на слух и воспроизводил по памяти около пяти страниц мелкого текста, а к пятнадцати мог без труда запомнить содержание газеты типа «Черноморская коммуна».
– Ты должен стать умельцем самоотчета, – повторял отец, – фиксировать каждый свой шаг, слово, мысль и вечером пропускать сквозь сито психометрических правил. Иначе превратишься в краснобая-пустомелю.
Надо ли говорить, какой смех, – внутренний, разумеется, – вызывали у меня старания одноклассников, с трудов разучивавших наизусть несколько стихотворений или законов физики. Я пролистывал учебник за две минуты до звонка и мог ответить на любой вопрос.
Мама, украдкой от отца, записала меня в библиотеку. Подальше от дома, во дворце Воронцова. Принесенные книги я прятал в ящике для грязного белья и читал до возвращения отца с работы. Несколько раз я доставал их поздно вечером, после того, как отец засыпал. Но, спустя несколько минут, он выходил из спальни и начинал беспокойно кружить по квартире.
– Что случилось, что ты мечешься? – отвлекала его внимание мать, пока я судорожно маскировал книги под школьными тетрадками.
– Воздух сменился,– отвечал отец, – чужой в доме.
Во мне затейливым образом перемешались уважение к отцу, интерес к забавному миру приключений и чудес, дверь в который раскрывалась сразу за обложками книг, и твердая уверенность в справедливости психометрии. В общем-то, я был хорошим сыном; мелкие пакости, без которых не обходится ни одно нормальное детство, я старался делать незаметно для отца. Единственное по-настоящему большое огорчение я причинил ему гораздо позже, женившись на Вере, женщине не нашего круга и совсем других интересов.
Мы познакомились на вечере во Дворце студентов, она пела в самодеятельном вокально-инструментальном ансамбле, солировала. Не влюбиться было невозможно, и я влюбился, как мальчишка. Впрочем, я тогда и был мальчишкой, семнадцатилетним безусым щенком, правда, с волшебной палочкой психометрии в потайном кармане. Без ее помощи вряд ли бы Вера обратила на меня внимание. Штучка сработала, но потом бумеранг со свистом вернулся. Веру я по существу изнасиловал, то есть влюбил в себя против ее воли. Такое состояние не может продолжаться долго, и, когда через несколько лет чары закончились, мне пришлось начинать все с начала. Завоевать женщину просто, удержать и повести за собой куда сложнее. Не могу сказать, что у меня получилось.
После психометрических штудий, искрящийся мир литературы увлек и очаровал меня. Сколько драгоценных минут юности, каждая из которых стоит многих часов в зрелом возрасте, я разбазарил на увлеченное блуждание по ее тропинкам. Искусство – грязная пена на волнах страстей человеческих. Но тогда оно представлялось средоточием правды, свободы и веселья. Психометрическая техника позволила мне соединить иллюзорный мир книг с живой реальностью.
Долгими часами я слонялся по дворцу Воронцова, пытаясь ощутить места, по которым ходил Пушкин. Выйдя наружу, я медленно дефилировал по бульвару, сначала до Дюка, потом к фонтанчикам, брызжущим из постамента памятника поэту, потом снова, медленно-медленно к дворцу. Мне казалось, будто я повторяю его прогулки, а иногда чудился едва заметный запах, даже не запах, а предощущение запаха, след тени на брусчатке мостовой или на стене дворца. И тогда мне казалось – я поймал…
– Кстати, Пушкин никогда не бывал в этом здании, – заметил Мотл и вывернул руль, вписываясь в пролет узкой улицы. – К тому времени, когда дворец был закончен, Александр Сергеевич давно гонял зайцев по заливным лугам Михайловского.
Неужели он улавливает? Не похоже. Наверное, случайно совпало. Но все равно, молодец Мотл, просто молодец.
Пожалуй, расскажу я им сегодня вечером про Пушкина. Раз магия имени до сих пор работает, уложим-ка ее гирькой на чашу наших весов. Надо только выдвинуть нужный ящичек…
Годы занятий психометрией приучили меня раскладывать накопленную информацию по отделениям-ящичкам в голове. На освоение приема уходит довольно много времени, но, когда достигаешь прочного результата, эффект получается совершено фантастический. Множество всякого рода знаний лежат тихонько, не мешая свободному полету мысли, и подключаются только в тот момент, когда ты сам словно выдвигаешь нужный ящик. Говорят, будто впервые такой способ применили испанские психометристы около шести столетий тому назад. Меня ему научили в реховотской школе, почти сразу после приезда.
Мотл слегка зевнул. Осторожно, не разжимая рта. Но челюстные мышцы взбухли, и горло раздулось. Да, он ведь сегодня поднялся чуть свет.
– Ну, как. Похоронил парня?
– Похоронил. Порезали его будь здоров, все кишки наружу. Пока собрал, пока зашил, вымыл, одел. Еле успел к двенадцати.
– Я бы не смог. Ты, наверное, особый человек.
– Какое там, особый. У меня все случайно получилось. Помнишь Г.?
Еще бы, массивный старик, с остатками рыжих прядей в седой бороде. Он сохранил голос почти юношеской свежести и на собраниях всегда первым заводил напев.
– Ты уже уехал, а я только начинал первые телодвижения. Мы с ним сошлись довольно близко. Он мне упражнения показал, давал книги читать. А потом один из стариков умер, и выяснилось, что Г. – похоронщик.
– Вот как, а я и не знал! Хотя при мне никто из «старых психов» не умирал.
– Ну, и я не знал. Он когда меня позвал, попросил помочь, у меня от ужаса и отвращения слюни текли, даже рукава намокли. Я украдкой рот вытирал. Когда Г. отворачивался.
Он дело делал и мне объяснял: куда, сколько, зачем. Я почти не слушал, в сотый раз давая себе клятву больше не подходить к телу даже на километр. Но через полгода еще один старик умер, и снова Г. позвал. Я заотнекивался, но он и слушать не стал.
– Я тебя выбрал, – говорит, и брови так хмурит. Пришлось пойти.
А через год Г. сам умер. Старые «психи» меня срочно вызвали на квартиру, где собрания проходили.
– Давай, – говорят, – парень. Больше некому.
Ну и пошло. Сейчас я сам пугаюсь, насколько стал к чужому горю нечувствительным. Нет, на нормальном уровне все по-прежнему, то есть помочь кому-то, или вникнуть в обстоятельства. Детей больных жалко. Стариков тех же. Бездомных особенно. Но как дело доходит до главного, самого страшного для всех, у меня словно механизм выключается. Или наоборот, включается. Этакий профессиональный азарт. Быстро, четко, точно. Работа, короче говоря. Бывают, впрочем, особые случаи, когда кожная болезнь или поздно находят, и разложение уже пошло. Тогда тяжеловато.
– Так ты сегодня легко отделался?!
– Легко,– философски отметил Мотл, – это в бане пописать, не нужно штанишки снимать. Лег поздно, вот это тяжело. Спать по три часа, как настоящий психометрист, мне еще дается с большим трудом.
– Так мы же расстались довольно рано, мог успеть.
– Ну, пока приехал, с женой немного поговорил, книжечки правильные почитал, потом упражнения маленько поделал. Так время и прошло. Если б не утренний чай совсем бы туго пришлось. Да, – не отрывая глаз от дороги, Мотл отвешивает в мою сторону легкий полупоклон. – Жена передает тебе личное спасибо. Чай она готовит по рецепту из твоего учебника и просит подтвердить, что все обещанное в рецепте – сбывается.
– Ну, это не мой рецепт. Я только записал...
– Знаю-знаю. Но после твоей книжки, она у меня другим человеком стала. Чай, кстати, всегда сама готовит. Когда бы я ни встал, она поднимается за полчаса, настраивается, варит и будит. Меня от маленькой чашечки, словно к аккумулятору подключают. Просто праздник, а не жена. И все благодаря твоему учебнику.
Н-да, несколько лет назад я имел неосторожность выпустить учебник по психометрии. Курс лекций незаметно перерос в «методичку» для преподавателей, которая уверенно превратилась в книгу. Нового я ничего не сочинял, просто очертил школы, показал отличия, ну, и в конце привел несколько десятков упражнений и рецептов. Намерения у меня были самые лучшие: облегчить вход в Храм психометрии, чуть-чуть скрасить горечь и боль первых шагов.
Но шум поднялся страшный. Меня тут же обвинили в том, будто я не поднимаю человека до Психометрии, а опускаю Ее на человеческий уровень. Некоторые учебные заведения даже разорвали со мной договор о курсе лекций, зато другие прислали самые лестные предложения. В общем-то, мнения разделились почти на равные части, беда только в том, что в числе противников оказались самые старые и уважаемые школы, а в защитниках – начинающие и дилетанты. Но, с другой стороны, книгу-то я писал не для «старых психов» и не для потомственных психометристов, а для новичков, неофитов. Им то она и пришлась по душе.
А Мотлу просто повезло. Написано в наших книгах: первая жена – это судьба, а вторую Космос посылает по заслугам. Моя Вера первые полгода замужества тоже поднималась раньше меня, словно настоящая жена психометриста, но потом заболела дочка, за болезнью явилась другая напасть, короче говоря, тут праведность и кончилась.
– Как искать будем? – спрашивает Мотл. – Есть номера участков, или по фамилиям?
– Есть номера захоронений, – я достаю из кошелька вчетверо сложенный листок.
– Замечательно! Тогда попробуем отыскать на плане. Хотя, по опыту, порядок на кладбище давно кончился, если вообще когда был. Иногда мне кажется, будто погребальные орлы специально все запутывают, дабы потом взимать мзду за поиски. Но, как говорят, надежда – мать дураков, да без нее не прожить. Будем надеяться!
Я смотрю на дорогу, и опять наваливается смутное ощущение тревоги. Зондирую. Просто чертовщина какая-то, чисто! Вот бы отыскать вчерашнего Мастера, он бы наверняка объяснил, что со мной происходит.
Собственно говоря, на кладбище я еду именно за этим. Печальное продолжение моей психометрической судьбы.
Каждый психометрист хочет стать Мастером. Держать поле – наивысшее раскрытие потенциала человека. Ни материальных благ, ни власти процесс не приносит, но сам он есть высшая награда, величайшее из всех доступных удовольствий.
К сожалению, мне это известно лишь по рассказам. Упражнения по удержанию поля и вообще вся психометрическая техника передается только от Мастера к ученику, будущему Мастеру. Не существует ни книг, ни объяснений, ничего. Те же, кто входят в круг посвященных – молчат.
Мастера прилагают значительные усилия оставаться незаметными. Они выбирают самые невзрачные профессии и никогда не продвигаются по служебной лестнице. Внешний вид у них самый простецкий, речь примитивна. С чужими они обмениваются короткими предложениями или междометиями, не более того.
Когда я учился в реховотской школе психометристов, Ведущий нашего курса пообещал лучшим студентам показать Мастера. Весь семестр мы из кожи вон лезли, и после экзаменов Ведущий повез первых трех в Тель-Авив. Я занял первое место, поэтому видел Мастера собственными глазами.
В Тель-Авиве мы долго рыскали по кривым улицам вокруг старой автобусной станции, забитыми разного рода лавчонками, пока не оказались напротив обувной мастерской.
– Я отдал в ремонт туфли, – сказал Ведущий, – вот квитанция. Забери, и продолжим.
В мастерской, на низком табурете сидел седенький «аидлык» и дремал, выводя носом замысловатые рулады. Сильно пахло кожей, сапожной ваксой. Жужжали мухи. Черный халат «аидлыка» был изрядно перепачкан клеем и краской, а сверху припорошен перхотью. Мне стало противно.
– Туфли, – громко произнес я, желая поскорее закончить со своей миссией. – Вот квитанция.
–А? – замычал «аидлык» и приоткрыл глаза. – Квитанция?
Он протянул руку и взял листик из моих пальцев. Наверное, Мастер на секунду приоткрылся, и меня словно током ударило.
– Передай Ведущему, – сказал он, – что старые туфли я вернул ему двадцать четыре года назад, а новые никуда не годятся.
Это был мой приговор, но тогда я не понял, о чем идет речь, и честно передал его Ведущему.
Старая психометрическая поговорка гласит: Мастером не становятся, Мастером рождаются. Невозможно определить, кто из психометристов удостоится посвящения. Мастера сами выбирают себе учеников и критерии отбора тщательно скрывают. Видимо, на их уровне возможности души видны настолько, что обсуждать «как и почему» бессмысленно. Нам же обсуждать их приговоры бессмысленно по другой причине. По причине уровня.
Тогдашний приговор преследует меня по сей день. Вернее, не приговор, а оценка моих возможностей. Я достиг многого, наверное, в глазах других, очень многого, но ни один из Мастеров не выбрал меня в ученики.
Впрочем, есть еще одна дорога, по которой я пытаюсь пройти. Ученик сам находит Мастера. Такое случается редко, крайне редко, но случается. Проблема состоит в том, как его отыскать.
Спустя несколько месяцев после вынесения приговора я снова отправился в сапожную мастерскую, но уже один. Повод я сочинил достаточно благовидный: через неделю начинались очередные экзамены, и я решил попросить благословения Мастера. В моей просьбе скрывалось и второе дно; Мастера обычно благословляют только учеников.
«Аидлык» сидел на том же табурете и выводил носом те же рулады. Полная маскировка, абсолютное затемнение. По этой стороне улице можно было гулять во время самого безжалостного артобстрела.
На мои покашливания он не обращал внимания. Через минут десять я, наконец, я решился и дрожащим от волнения голосом изложил свою просьбу.
«Аидлык» открыл один глаз, и я тут же понял – передо мной настоящий Мастер.
– Мальчик, – сказал он, – учиться надо, а не благословения выпрашивать. Будешь учиться, будешь знать.
Приговор не изменился. Но, в общем-то, фраза могла означать и напутствие, указание. Мы крутили ее с Ведущим на разные лады и пришли к тому, с чего начали: Мастер показал дорогу.
Спустя много лет я понял, что Ведущий – такой же неудачник в психометрии, как и я, а мой поход к Мастеру был очередной попыткой Ведущего привлечь его внимание к собственной персоне. Но Ведущий, по крайней мере, нашел Мастера и пытался стать его учеником, я же, за всю жизнь, не добрался даже до этой ступени.
Кроме сапожника, из Мастеров я видел только Х., главу движения. Собственно, из-за него мы и оказались в Реховоте. О другом городе отец даже слышать не хотел.
– Сколько лет прозябали на выселках, в провинции, – говорил он,– теперь я хочу хоть немного пожить в столице.
Столицей для него, даже центром мира являлось место, где пребывает главный Мастер.
Мастер приехал в Эрец Исраэль еще в тридцатые годы. Все были уверены, что он поселится в Иерусалиме, где уже несколько столетий существовала большая община психометристов, но Мастер, сойдя с корабля в Хайфском порту, отправился прямо в Тель-Авив.
На железнодорожном вокзале его встречала большая группа психометристов. Не успел Х. отпустить поручень вагона, как к нему подскочил журналист крупнейшей газеты:
– Как вы сможете ходить по Тель-Авиву, – спросил он, – ведь в нем так много проституток?
Х. обвел глазами толпу.
– А где здесь проститутки? Я вижу только психометристов.
На следующий день газета вышла с огромным заголовком:
«Первые слова Х., главного Мастера психометристов на Святой земле: – „А где здесь проститутки?“
На следующий день Мастер уехал в Иерусалим, но, пробыв там всего несколько часов, вернулся в Тель-Авив, а спустя несколько дней перебрался в Реховот. Из этого небольшого городка, окруженного апельсиновыми садами, он выезжал всего несколько раз. Почему он выбрал именно Реховот, никто толком не может объяснить до сих пор. Я думаю, что моя «История реховотской крепости» немного приоткроет завесу.
Руководители еврейского ишува не придавали движению психометристов большого значения. Им казалось, будто оно целиком принадлежит старым городам Европы, где на пыльных чердаках, под высокими черепичными крышами гнездятся сумерки средневековых страхов.
– Меняющий место меняет судьбу! – Бен-Гурион, посмеиваясь, приводил психометрическую поговорку и продолжал:
– В новой стране не будет места суевериям! Мы строим свою судьбу на прочной основе труда и воли.
Приезд Х. сразу изменил расстановку сил. Он означал, что центр психометрии перемещается в Эрец-Исраэль, а значит, сюда потекут не только сотни и тысячи психометристов со всего мира, но и деньги, много денег.
Через несколько месяцев Бен-Гурион приехал в Реховот. Мастер жил в небольшом домике, почти на окраине, неподалеку от развалин восточной башни цитадели. Роскошный автомобиль руководителя ишува, сопровождаемый двумя джипами с охраной, остановился перед домиком, секретарь бодро выскочил из машины и постучал в дверь. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, уже настойчивее. Тишина. Секретарь недоуменно оглянулся: день и час встречи был оговорен за несколько недель.
– Давайте я попробую, – предложил Бен-Гурион.
Он выбрался из глубины автомобиля и подошел к двери. Секретарь почтительно отступил на несколько шагов. Дверь тихонько приоткрылось, Бен-Гурион с трудом протиснулся в образовавшийся проход, и дверь встала на свое место.
Встреча заняла немногим более часа. О чем точно шел разговор никто не знает. Обе стороны многие годы предпочитали отмалчиваться. Известны лишь несколько эпизодов.
В самом начале встрече Бен-Гурион спросил у Х. чего он, собственно, ищет в Эрец-Исраэль.
– У меня есть программа-минимум и программа-максимум, – ответил Мастер. – Минимум, чтобы вы не стаскивали с меня картуз психометриста, максимум – чтобы вы надели его на свою голову.
Середина разговора – сплошной пробел. Ни в одном архиве я не отыскал ни одного упоминания. Зато многие приводят концовку.
– На востоке есть правило, – сказал Х., – когда два верблюда подходят к узкому мосту, дорогу уступают более нагруженному. Мы полны и пойдем первыми.
Бен-Гурион улыбнулся и протянул руку. Мастер приотворил дверь, выпуская гостя: больше они никогда не виделись, но после этой встречи отношение руководства ишува к психометристам значительно улучшилось.
Я застал Главного Мастера уже глубоким стариком. На правах слушателей реховотской школы, наш курс один раз в месяц приходил к нему домой. Мы делали упражнения в небольшом зале, Мастер сидел в кресле, укрытый шотландским пледом, и как будто дремал. Через полчаса мы уходили, но на прощание выстраивались в ряд возле Мастера и по очереди жали ему руку. Иногда он задерживал руку в своей и еле слышно произносил несколько слов, а то и фраз. Счастливчик долго расшифровывал, что Х. имел в виду. Мне такая удача не выпала ни разу.
Бывает еще один вид ситуации, когда Мастер зовет ученика, но тот не слышит. Об этом рассказывают много историй и притч, и каждый психометрист, всю жизнь ожидающий Зова, с ужасом примеряет на себя такой вариант судьбы. Со мной такого пока не произошло. И, надеюсь, не произойдет. Очень надеюсь.
– Во дает! – Мотл резко затормозил и, упираясь руками в руль, погасил инерцию. Мой ремень безопасности натянулся и крепко поддел меня почти под горло.
– Думает, если он автобус, так может ездить, как ему хочется, да?! Я тоже автобус, только маленький.
«Ниссан» почти уткнулся носом в забрызганный грязью зад огромного автобуса. Табличка с номером, словно приглашая записать, оказалась прямо перед нашими глазами.
– Мотл, запиши номер, сообщи в милицию. Пусть приструнят маленько.
– Милицию! – Мотл презрительно фыркнул. – Я же тебе говорил: любое нарушение правил стоит десять гривен. Подаешь «менту» вместе с правами, и делу конец. А моя жалоба только позволит им лишние деньги с водилы скачать, не более того. Впрочем, для него десять гривен не деньги.
Автобус плюнул нам в лицо струей дыма и тронулся с места.
– Кстати, – сказал Мотл, – обрати внимание на номерной знак. Я, когда вернулся из Иерусалима, после стажировки в похоронной компании, долго успокоиться не мог.
– Из-за номера?
– Из-за него. Обрати внимание, он весь белый, как у палестинских машин. Израильские-то номера желтые, белые сразу бросаются в глаза – опасность! Сел я после возвращения за руль, выехал на улицу и – оторопь взяла. Страшно ездить! Пока сообразил в чем дело, несколько дней прошло.
Ай-да Мотл, ай-да молодец! Это он мне, израильтянину с пятнадцатилетним стажем, втолковывает. Я сам должен был догадаться и Мотлу объяснить, а не наоборот! Постоянно пропускаю, опаздываю, не ловлю.
Сегодня утром чистил зубы, рассматривал себя в зеркале. Волосы поредели, да чего там, скажи честно, залысины в полголовы. Борода седая, морщины, мешки под глазами. Брюки опять не сходятся, завязывать шнурки все трудней и трудней. Трудно поверить, будто морщинистый почти старик – это я. Бывший кудрявый зайчик с лукавыми глазками, а теперь уважаемый красавец и «любезный канарей». Метаморфозы, н-да…
На место свежести мышц и густых волос должна прийти мудрость, но и она запаздывает. С пустыми руками бреду я по склону жизни.
– Узнаешь места? – прервал Мотл мое самобичевание. – Доставай список, приближаемся к кладбищу.
Доставать, собственно, нечего, список лежит в нагрудном кармане и ждет своей очереди. Роль его чисто маскировочная, настоящая моя цель – вовсе не могилы родственников. И цель эту, настоящую, я прогавил, пока дошло до дурня, куда бежать, за что хвататься. Две трети жизни утекли на всякие глупости. Впрочем, я ведь тогда, в сапожной мастерской понял – вот он, адрес, но не знал, как подступиться. И сейчас не знаю.
Придти в третий раз к «аидлыку» я решился только через пять лет. К тому времени школа психометристов была закончена с отличием, и меня оставили для преподавательской работы. Пока в качестве младшего воспитателя, но с большими перспективами. Так оно и оказалось, после исчезновения Ведущего я получил его место.
В психометрической практике исчезновение – вещь, встречающаяся не часто, но известная. Так происходит, когда ученик находит Мастера. Для перехода на иную ступень необходимо вырваться из привычной среды, сбросить те маски, которые привык носить годами. Самые ярые враги в духовном путешествии, как ни странно, наши самые близкие люди. Они не хотят расставаться с привычным и милым образом и всячески напяливают его обратно. Поэтому иногда Мастер решается на крайнюю меру и отправляет ученика куда-нибудь в Патагонию, где он сможет беспрепятственно лепить из него новую личность.
Место я нашел с трудом, сапожную мастерскую сменила фалафельная. Владелец, грузинский еврей с массивной золотой цепью на крепко волосатой груди, долго не мог понять, чего я хочу.
– А, сапожник! – наконец сообразил он. – Не было тут сапожника. Будка заброшенная стояла, и все, понимаешь. Будку я сломал и посмотри, какой красивый ресторан построил. Садись, покушай, у меня сегодня баран очень свежий. Сам жарить буду, хочешь?
Дешевая забегаловка в его глазах представлялась рестораном. Типичный взгляд нормального человека.
Я попрощался и пошел к выходу. У самого порога он меня окликнул.
– Ты кто ему будешь, родственник, да?
– Нет, просто знакомый.
– Хороший знакомый?
– Хороший.
– Тогда возьми, – «грузин» вытащил из-под прилавка бумажный пакет. Когда будку ломали, я на столе взял. На видном месте лежало, может, оставили для кого. Может, для тебя.
Если «грузин» был Мастером, то явно не моего полета. Пробиться сквозь его маску я не смог даже на миллиметр. А может, никакой маски и не было, просто Космос вел меня по намеченной дороге, в нужный момент подкладывая нужные знаки.
В свертке оказалась вырезка из дешевой газетки для новых репатриантов. Плохая бумага пожелтела, шрифт выцвел, и разобрать текст оказалось совсем не простым делом. Но я пробился. Статья рассказывала о еврейском погроме 1905 года в Одессе. Что означал этот знак, я не мог уразуметь многие годы. Так и по-другому я подбирался к теме погрома, и каждый раз откатывался, так ничего и не разобрав. И только попав в отдел «железной кровати», я случайно наткнулся в архиве психометрической общины Николаева на упоминание о гибели Мастера во время еврейского погрома.
Случай, прямо сказать, исключительный. Психометрист, вышедший на такой уровень, практически неуязвим. Нет, физически он ничем не отличается от прочего человечества. Выделяется он тем, что умеет просчитывать ситуации и поэтому успевает уйти от опасности еще до того, как она приобретает угрожающие формы.
Можете мне поверить, я поднял на ноги всех и вся, объездил всю страну, побеседовал с сотнями старых психов. Не было такой психометрической общины, в которую я бы не направил запрос. Постепенно, по крупицам, мне удалось восстановить картину происшедшего. Особенно помог отчет сенатора Кузминского.[2]
Погром начался 18 октября, после того, как командующий одесским военным округом генерал Каулбарс распорядился «всем войскам не показываться на улицах – дабы не нарушать среди населения радостного настроения», вызванного опубликованным накануне высочайшим Манифестом. Одесский градоначальник Нейтгард тут же поддержал порыв генерала и приказал снять городовых со всех постов. Таким образом, город был оставлен совершенно без охраны, и радостное настроение мгновенно переросло в грабеж винных магазинов. Уже к середине дня по всей Одессе начали возникать спонтанные стычки между отрядами еврейской самообороны и ликующим населением. Хулиганы принялись ловить и избивать евреев, а затем перешли к разгрому и разорению еврейских домов. В ответ отряды самообороны открыли беспорядочный огонь из револьверов. Нарушив распоряжение градоначальника, пристав вызвал роту пехоты, которая прекратила дальнейшие столкновения.
Утром следующего дня улицы заполнили толпы с иконами в руках и портретами государя императора. От громогласного исполнения «Боже царя храни» дрожали стекла в оконных рамах. Нейтгард знал, чем закончится подобного рода демонстрация, но, тем не менее, разрешил ее, и она прошла мимо канцелярии градоначальника, направляясь к собору. По всему пути следования демонстрации еврейские лавки и магазины подвергались безжалостному разграблению. В ответ, засевшие на крышах бойцы самообороны стреляли по толпе из револьверов и несколько раз бросали самодельные гранаты. Одной из таких гранат было убито шесть демонстрантов. Каждый выстрел сопровождался звериным воем «бей жидов» или «смерть жидам» и вскоре манифестанты рассыпались по улицам и принялись разбивать еврейские магазины. Единичные случаи перешли в общий погром: все еврейские квартиры, попадавшиеся на пути, подвергались совершеннейшему разрушению. Имущество истреблялось, а евреи подвергались истязаниям, часто с особой жестокостью, независимо от пола и возраста. По свидетельству врачей, погромщики выкидывали детей со второго и третьего этажей вниз на мостовую, и, схватив за ноги, разбивали детские головки о стены. Отряды самообороны отвечали огнем из подворотен, окон, крыш.
Согласно безмолвному распоряжению Нейдгарта, полиция отсутствовала, изредка ходили патрули, но весьма неаккуратно. Полицейские чины, считая евреев виновниками политических смут, вполне сочувствовали совершавшемуся погрому и даже не считали нужным скрывать этого. Более того, во многих случаях полицейские в штатском платье, без блях и гербов, сами направляли толпу на разгром и грабеж.
20 октября погром не только не прекратился, но напротив, принял еще более ужасающий по своим размерам характер. Этому немало способствовало решение Нейтгарда вывезти из всех оружейных магазинов города запасы револьверных патронов, а имеющиеся у самообороны подошли к концу. Во многих кварталах еврейское население, вооруженное, чем попало: топорами, секачами, оглоблями, – оборонялось с такой решительностью и ожесточением, что совершенно отстояло свои улицы. Но в большинстве мест зверства нападающих превзошли все мыслимые размеры.
Погромщики продвигались к Мясоедовской, улице с наибольшей концентрацией еврейского населения, редкие выстрелы только раззадоривали толпу и, казалось, ужасы предыдущего дня и ночи будут превзойдены во стократ.
В этот момент вмешался Мастер. Вместе с двумя учениками он сумел перенаправить азарт толпы, выпустив несколько фантомов в виде полуголых убегающих девушек, и разделить ее на части. Волна зашипела и сошла на «нет», за квартал до Мясоедовской. И тогда, непонятно почему, Каульбарс приказал «принять самые решительные меры против громил, истреблять на месте всех без исключения грабителей, нападающих на дома, магазины и мирных жителей».
Три казачьи сотни рассыпались по Одессе, избивая нагайками всех без разбору, и спустя несколько часов порядок в городе можно было считать восстановленным.
Мастер умер под утро от обширного кровоизлияния в мозг. Та же участь постигла двух его учеников. Их похоронили вместе с жертвами погрома, указав фамилии на мемориальной доске. Один из «старых психов» помнил, что их фамилии были выбиты на мемориальной стеле под номерами 272, 273 и 275. Ради этих фамилий я и затеял поездку в Одессу.
– Прибыли! – Мотл повернул ключ и вытащил его из рулевой колонки. – Пошли на рекогносцировку.
«Ниссан» остановился возле хибары, покрытой рваным толем. В выемках небеленых стен чернела плесень. Дверь в хибару была открыта, и оттуда доносились бодрые голоса.
– Кладбищенские работнички, – отметил Мотл, – раньше это были нищие разбойники, а сегодня просто разбойники. Держи с ними ухо востро.
– Мотл! – на пороге хибары возник приземистый мужик в ватнике и черных, заляпанных цементом брюках. Резиновые сапоги покрывал толстый слой подсохшей грязи. – Работу привез, или просто в гости?
– Здорово, Мишаня. Пока просто в гости, – улыбнулся Мотл. – Вот гость из Израиля, надо родственника найти. Номер участка есть.
– Для психометриста услуга стоит всего десять долларов, – улыбнулся в ответ Мишаня. Глубокие складки над бровями разошлись, явив миру россыпь мелких прыщиков с белыми головками гноя. – А не для психометриста всего … десять долларов. Тут у нас полное равноправие, коммунизм, можно сказать.
– Ладно, ладно, попробуем без тебя обойтись, – Мотл приглашающе кивнул мне головой и двинулся к задней стене хибары.
– Попробуйте, обойдитесь, – снисходительно процедил Мишаня и скрылся.
На задней стороне хибары висел огромный план. Даже неопытному глазу было видно, что устроители изо всех сил старались запутать такую, казалось бы, простую вещь, как нумерация могил. Рядом с первым номером почему-то находился сто двадцатый, а второй оказался в совершенно другой части кладбища. Помимо номеров могил существовали еще номера участков и линий. Все цифры кто-то старательно перемешал, а образовавшийся салат щедро рассыпал по плану, выбрав самый маленький шрифт и самый блеклую краску. Мишаня не зря снисходительно улыбался.
– Давай номер,– протянул руку Мотл. Я вложил в его ладонь бумажку с цифрами.
– Так, так, – замурлыкал Мотл, – так, так. Двадцать пять на ум пошло, двадцать два с ума сошло. Пошукаем, пошукаем…
Через несколько минут он облегченно вздохнул и ткнул пальцем в почти незаметный квадратик посреди куролесицы.
– Вот он, твой родственник. Захоронению лет пятьдесят, не так ли?
– Так. А как ты догадался?
– Элементарно, Ватсон! Хоть разбойники тут и намудрили, но определенный порядок все-таки есть. На этом участке хоронили после войны. Потом, только если членов семьи докладывали. Но в основном – после войны. Так что догадаться не трудно. Пошли?
– Пошли.
Кладбище начиналось через дорожку, покрытой потрескавшимся, изломанным асфальтом. На асфальте удобно расположились лужи: оконца холодной дождевой воды, цвета спитого чая. Перемытые ливнями, перевеянные ветрами могильные памятники густо поросли плющом, загрубевшим, словно проволока. Дождь кончился, и сквозь черные ветки деревьев на памятники смотрело небо.
Кладбище напоминало парк; заросли шиповника подходили к самой аллее – неширокой тропинке между рядами деревьев. Кроны переплетались, образуя шатер, и летом на кладбище царил уютный полумрак, нарушаемый проникающими сквозь листву желтыми столбиками лучей.
– Видишь эти домики? – Мотл ткнул пальцем в ряд бетонных саркофагов, действительно напоминающих маленькие дома.
– Тут раввинов хоронили. В первом ряду. Человек, когда мимо проходит, инстинктивно читает имя на памятнике, иногда вслух произносит. А каждое упоминание имени мертвого идет ему в заслугу.
Вот караимская часть, могилы в другую сторону развернуты. Евреев хоронят ногами к Иерусалиму; как Машиах придет, они сразу поднимутся и, не теряя секунды, в путь. А караимы перпендикулярно, им, наверное, в Крым топать, в Чуфут-Кале.
Черную землю под ногами хорошенько вымочил ливень. До полноценной грязи ей не хватило десяти минут дождя, но и в такой консистенции она скользила под подошвами ботинок и липла на каблуки. Обходя лужи, в которых отражалось высокое голубое небо, мы осторожно шли по аллее. Неосторожный шаг мог закончиться падением, поэтому ногу приходилось опускать в три приема: сначала на каблук, вдавливая его в землю, затем плавно накатывать ступню и лишь в конце твердо упирать носок, давая возможность второй ноге начать аналогичное движение.
Мотл остановился возле огромного памятника из черного мрамора. С полированной поверхности самодовольно улыбался мужчина восточного вида. Изображение скопировали с фотографии с большой тщательностью, можно было различить складки кожи на двойном подбородке, волосы в расстегнутом вороте рубашки и узор на тяжелых перстнях.
– Тоже караим?
– Да нет, – усмехнулся Мотл. – Тут совсем другая история.
Прибежал ко мне мой учитель, «старый псих» Г.
– Пошли, скорее, – говорит, – поможешь ругаться.
Я еще не знал, что Г. занимался похоронными делами. Психометристов тогда хоронили на еврейском кладбище, вместе со всеми, это сейчас власти выделили отдельное. Кладбище есть, только хоронить почти некого.
Ну, да ладно, в общем, выскакиваем из дому, Г. ловит такси, и мы мчимся. По дороге выясняется, что заведующий еврейским кладбищем дал разрешение похоронить на нем цыганского барона. Г. просто трясло.
– Ладно, еще с евреями лежать, но с цыганами!
– А зачем барону понадобилось еврейское кладбище? – прерываю я рассказ Мотла. – Других разве мало?
– Христиане в его глазах язычники, поклоняются изображению, у евреев с этим все в порядке.
Короче, примчались мы на квартиру к заведующему, Г. ворвался к нему в дом, словно сотня разъяренных чекистов. Но после первых же трех фраз его накал исчез.
– Я жить, жить хочу, понимаешь, – со слезами на глазах объяснил заведующий. – Они пришли целой бандой, и пачку денег на стол. Я – ни в какую, не положено, говорю. Тогда один из них, вертлявый такой мальчишка, наглый, наглый подонок, через стол перегнулся, и нож прямо к горлу приставил.
– У тебя, – говорит, – дядя, два выхода. Либо деньги взять и жить красиво, либо вместе с нашим бароном лечь.
– Вот ты бы, что сделал на моем месте, а? Что бы ты сделал?