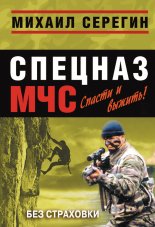За колючкой – тайга Зверев Сергей
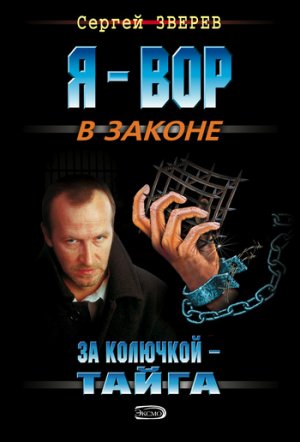
То ли на радости, то ли по глупости, он в этот же вечер вместе с друзьями отпраздновал победу адвоката, и этим же составом они взяли разбоем квартиру. Взяли их на пороге, поскольку хозяева, умные люди, перед сном ставили квартиру на охрану. И снимали лишь после того, как убеждались в том, что прибывшие не унесут из квартиры деньги, только что вырученные за проданный в деревне дом. За ними, собственно говоря, Зебра с друзьями и шел. Положительная характеристика из жилищно-эксплуатационного участка на этот раз на судью не возымела никакого действия, и он прямо-таки пошел на поводу у государственного обвинителя. Двенадцать лет лишения свободы за выбитые зубы хозяина квартиры и инфаркт хозяйки. Плюс те четыре, которые повезло не получить ранее. Из шестнадцати имеющихся Зебра провел на «даче» пять, и теперь в некотором смысле считался старожилом.
– Ну, друзья, – не особенно налегая на смысл слова, согласился Андрей.
– Так ты мне скажи тогда, Летун, почему ты постоянно смотришь на небо?
Литуновский переставил пилу на другую от себя сторону и полез в карман за сигаретами. До обеда оставалось чуть больше десяти минут, и вряд ли конвой будет настаивать на том, чтобы работа возобновлялась. Они сами голодны, хоть и не так, как Андрей.
– Чтоб я сдох, – без чувств разозлился Зебра. – Что ты все время молчишь? Мы вместе уже четыре месяца, а я никак не могу понять, стоит ли мозолить язык, чтобы расположить к себе человека. Не хочешь – скажи бугру, он разъединит нас, и ты получишь в пару того, с кем тебе будет легче проводить срок.
Спрятав сигарету в мятую и чуть сырую от собственного пота пачку, Андрей вернул ее в карман и поморщился. Мошкара любит пот, она летит на его малейший запах и пытается попасть туда, где может доставить жертве массу неудобств. Например, в глаза. Или в нос, как сейчас Зебре.
– У тебя остался кто-то на воле?
– Да, – уже не расстраиваясь от этой темы, буркнул Саня. – Как без этого. Жена есть. Пишет, что ждет. Я, конечно, как и все здесь, в сомнениях, но, судя по тексту, эти сомнения излишни. Понимаешь, я жену чувствую. Она, бывало, когда я еще на свободе был, говорит что-то, а я чувствую напряг. Начинаю выяснять – точно, опять у матери своей была, и та ее жизни учила. Поэтому сейчас, читая письма, понимаю – скучает. А Татьяна, если в чувствах, никого к себе не подпустит. Знаю, дождется, что бы ни произошло. Хотя что произойдет? – Зебра очертил прутом около своих сапог круг и зачем-то перечеркнул его повдоль. – Одиннадцать лет еще. Но письма приходят регулярно. Танька, она верная. И дочь растет. Жена пишет, что в школе у нее порядок, вот только с математикой небольшой рамс.
Сигарету Литуновский все-таки достал. В его жесте, когда он вынимал ту же сигарету из пачки, была некая едва заметная досада, но понять это мог лишь человек, хорошо знающий Андрея.
– Что еще пишет? Какая погода в Подмосковье?
– А откуда ты знаешь, что я из Подмосковья? – удивился Санька и тут же спохватился: – Ах, да, я же тебе сам вчера говорил. Когда ты опять на небо смотрел… Я забыл – о чем ты спрашивал?
Вместо ответа Летун встал, с трудом закинул на руку пилу, и решительно подался к остальным. Но, отойдя на несколько шагов от удивленного напарника, вернуться назад все-таки нужным счел.
– Вот поэтому я здесь никогда ни с кем не разговариваю, если речь идет о доме. Скорее всего да и – не скорее всего, а так оно и будет – таким же через пару месяцев стану и я. Лживым сукиным сыном, требующим, чтобы перед ним самим распахивали душу.
Сплюнул куда-то в кусты и продолжил движение в сторону сбора, где уже покрикивал конвоир и рвались с поводков овчарки.
– Подожди! – возмутился Зебра.
Схватив с земли длинную палку, он стал догонять Литуновского.
– Да ты что, с цепи сорвался? Почему это я – лживый сукин сын?! Мы напарники, так будь добр, ответь.
Идти быстро ему было так же тяжело, как и Андрею, года пребывания на «даче» стали брать свое, и вскоре он стал кричать уже из-за спины.
– Ты хороший человек, Летун, но ты совершенно непереносимый фраер! Постой, черт тебя побери!..
Андрею нужно было передохнуть, и лишь поэтому он скинул с плеч «Тайгу». Встал как вкопанный и принялся вытирать со лба льющийся ручьями пот. Дождавшись, когда Зебра подойдет, он одной рукой подцепил воротник его фуфайки и приблизил его лицо к своему.
– С математикой, говоришь, рамс? Теща жену жизни учит? Твоя жена давно наплевала на тебя. И ты, не желая казаться одним из многих здесь забытых, красишь свою жизнь и слух других фантазиями о том, как все было бы, окажись ты не здесь, а дома!
– Ты что несешь? – зашипел Зебра, вырываясь из пока еще сильных рук напарника. – Сдурел, что ли?
– Я не сдурел. И понимаю тебя, Саня. С каждой почтой тебе приходит письмо из дома, и ты, кивая головой, читаешь его на нарах и делишься событиями с другими.
Санька молчал и темными, похожими на маслины глазами смотрел на подбородок Андрея.
– Здесь, как и везде, не любят неудачников. Быть может, если бы почту от Хозяина постоянно забирал не ты, а я, мне пришлось бы тоже, каждый раз, раздавая вскрытые конверты, один из них прилюдно вручать себе. Один и тот же конверт, ты понял? Один и тот же! Старательно хранимый в целлофановом пакете, чтобы, не дай бог, не затерся до следующего раза. Ты держишь его в тумбочке, и всякий раз, направляясь за письмами, забираешь с собой. На этом конверте один и тот же рисунок, и одни и те же, что и в прошлый раз, места замазаны маркером. Кажется, это вижу один я, и боюсь – ты слышишь? – я боюсь того момента, когда стану понимать, что начинаю тебе верить. Придет этот страшный момент, и я, подыгрывая тебе, превращусь в такого же лжеца, коими тут являются все!
Литуновский отпустил воротник Зебры и легонько стукнул его кулаком в грудь.
– И после этого ты хочешь, чтобы я распахнул перед тобой душу? Зачем, Саша? Мы прокляты, и снисхождение божье на нас уже никогда не сойдет. Никогда, ты понимаешь? Земля вращается, и мы находимся в мертвой зоне, не видимой не только господу, но и остальным.
Вот теперь стало действительно трудно. Сколько кедров свалено? Десять, двадцать? Зебра знает. Он все знает, и Литуновскому считать не нужно. Зебра черта с два даст их обмануть. Доплестись бы до походной кухни. Что там сегодня? Ах, да, он опять забыл. Перловка без масла и щи из прелой капусты с тушенкой. Тушенки нет, какая тушенка может быть на два рубля в сутки на содержание особо опасного преступника? Тушенка у конвоя. Вон, один свою собаку ею кормит. Собака косится на зэков, чтобы, не дай бог, к миске не приблизился кто, и жрет, всасывая волокнистое мясо, как пылесос. И зэки косятся. Хочется мяса, хочется, но как у собак попросишь?
– Андрюха, зачем ты так?
– Чтоб не врал мне никогда, – пояснил Летун. – Свела нас зона, нары рядом поставила, в пару определила, так что будь любезен. Или как ты там говоришь? Будь добр? Так вот, Саня, будь добр, не лечи меня никогда ложью. Первый раз с тобой заговорил и сразу на кривду нарвался. Еще раз солжешь – до две тысячи двадцатого года слова не вымолвлю.
Суп проще есть, если перевернуть котелок углом вверх. За шесть-семь присестов его можно выпить, потом размеренно съесть перловку, и выгадать таким образом, на супе, минуту-другую на перекур. Хлеб лучше спрятать в карман. До ужина прорва времени, а есть хочется уже сейчас. Если не тарить хлеб по карманам, леса много не навалишь. Не будешь лес валить – ШИЗО, будьте любезны. А это тридцать дней на теплой воде с привкусом капусты и по три куска хлеба. За месяц люди сбрасывают килограммов по десять, и после этого с ними начинаются самые ужасные вещи. Сил нет, пополнять их нечем, и человек начинает болеть. С этого момента начинается волшебное исполнение желаний того, кто направил зэка не на «семерку», где рай, а на «дачу».
«Дача» – это богом проклятая больничная палата, где в одиночках лежат больные и ожидают того часа, когда их перенесут в ледник. Выздоравливающих больных на «даче» не бывает. Список зэков составлен поименно, и смыслом их помещения сюда является не исправление, а уничтожение. Эти люди опасны для общества, точнее, для лучшей его части. Исполняется воля высшего света, потому как нет в шестом бараке ни одного, кто на воле не обидел бы власть имущих. Потому лучше не болеть. Болезнь – это командировочное предписание в штрафной изолятор. А ШИЗО – стартовая площадка для рывка на волю. Воля расположена в двухстах метрах от «запретки». Сотни штакетных реек с фанерными щитками, на которых обозначен лишь номер. Литуновский, если вдруг заболеет, да не выздоровеет, будет лежать под штакетиной с цифрами 72555. Зебра – 67323.
Другого пути на волю отсюда нет. Шестеро пробовали за всю историю стояния шестого барака, но все оказались здесь. Заколдованный круг, очерченный двадцатью гектарами тайги, опоясанной колючей проволокой. Внутри – барак, административный корпус, ледник, кладовая для инструмента, караульное помещение и столовая. Снаружи – тысячи километров безмолвия и миллиарды еще не поваленных деревьев. Из населенных пунктов – селения по двадцать домов, где хозяину для поднятия хозяйства достаточно две тысячи триста рублей, да сторожки, в которые прибывают белковать те же сельчане. Никто из находящихся внутри круга не знает точного направления к ним, дорогу сюда знают лишь старожилы из местных, что до сих пор поклоняются прокопченным колодам. Дорогу отсюда не знает никто. Кроме них же. Да пилотов малой авиации, что доставляют из «семерки» тушенку для собак и капусту для зэков. Расстояния здесь меряют сотнями километров, время – десятилетиями срока.
Так-так-так-так-так!..
Цепочка зэков, бредущих с работ, хочет она того или нет, поворачивает головы на звук.
Так-так-так… Сколько мне еще умирать здесь, дятел?
– Шевелись, скоты!..
И зэки шевелятся.
Главное, не нарываться на неприятности. Если вызовут к Хозяину, жди либо беды, либо подарка. Беда приходит, когда заключенному объявляется распоряжение отбыть на две недели в ШИЗО, подарок – если вдруг на «дачу» придет бумага из Москвы о том, что комиссия по помилованию взяла под свой контроль заявление жителя шестого барака. Но даже дед, проживший тут полтора десятка лет, не может припомнить, когда бы зэка при построении объявляли помилованным. Это было бы удивительным, так как здесь отбывают наказание отбросы общества, которые на воле оказались неспособными даже к тому, чтобы зарекомендовать себя для поездки на Остров Смерти. С теми все ясно, им двадцать пять сидеть, книги читать и Библию зубрить. Туберкулез не страшен, от бессилия не загнешься. ОБСЕ каждый год «особые» шмонает, и не дай бог установит, что «полосатому» мяса на двадцать граммов меньше положили. После двадцати пяти напишешь заявление, что осознал и опасности для общества более не представляешь, и, если поверят, выйдешь здоровым, розовым и литературно образованным.
А здесь… Перед отправкой на «дачу» можно получить двадцать четыре, и уже в начале второго десятка загнуться от комплексной терапии, которую над тобой учинили туберкулез, чистка, язва и энцефалит. Замполит вон о простате еще говорил, да о почках… Парацетамолу не хватает, беда без парацетамола.
В середине апреля в зоне произошло событие, которое едва не поставило под вопрос авторитет Толяна Бедового. Смотрящий, собственно, совсем не при делах был, и о теме той ни ухом ни рылом. И поножовщина, которую устроили в бараке Гена Севостьянов, он же Сивый, и Миша Ячников, он же Яйцо, явилась даже не взрывом накопленного за годы гнета отчаяния, а сиюминутной бытовой склокой, вызванной обычным недопониманием сторон. Конвой, слава богу, привлекать не пришлось, и Хозяин ничего не узнал. Но бойня была знатная, и закончилась она лишь после вмешательства доброй половины жителей барака.
Началась эта история с того, что в конце рабочего дня, часов около семи вечера дня тринадцатого месяца апреля Сивый почувствовал жуткое жжение в месте, коим он доселе отправлял естественные надобности в деревянном туалете на улице. Не столь уж это редкое явление было в бараке, мойка для которого организовывалась раз в неделю, и Сивый решил подождать. В конце концов, подумал он, совершенно не подозревая, что думает именно о предмете своего беспокойства, я сам виноват в случившемся. Другие, кому небезынтересна судьба откровенных мест, каждый день, а то и по два раза в день, производят омовения и не считают это зазорным. Я же с таким попустительством отнесся к самому дорогому, и винить теперь за случившееся можно только себя.
Так в общедоступной, легко усваиваемой для слуха и чтения форме выразил свои мысли Сивый. О чем он думал на самом деле, никому не было известно, да только около восьми часов вечера он отправился в лазарет, где уже готовился смотреть по телевизору фильм врач, лейтенант службы Колосников. Вышка для удобства связи с Большой землей была выстроена еще в начале шестидесятых, а впоследствии ее оборудовали под прием единственного канала Красноярского телевидения, и руководство этому было несказанно радо. Телевизоров на «даче» было три, и место их нахождения определено Хозяином его же приказом. Первый – в лазарете, совмещенном с жильем офицеров колонии, второй – в казарме (для комиссий из Москвы, если такие наконец-то случатся) и третий – у Хозяина.
Начинался «Блеф», и Челентано уже зашел в сортир столыпина, чтобы опереться на будущего подельника и бежать, как вдруг лейтенант услышал стук в дверь.
Через три минуты, выполняя просьбу начальника лазарета предъявить симптомы заболевания, Сивый взял в руку потяжелевший предмет и коротко объяснил:
– Вот.
– Понятно, – сказал врач, понимающий, что триппер, гонорею, сифилис и трихомониаз в силу специфики местной жизни придется исключить. – Не моемся. Если к нам из «семерки» ко Дню Победы прибудет оркестр и большой барабанщик заболеет, то вы, осужденный Севостьянов, сможете легко его заменить.
– Так что же делать? – ужаснулся перспективам Сивый. – Мне больно ходить в туалет. Я почти кричу, блин.
– Я бы дал вам супрастину… – задумчиво произнес врач.
– Так дайте, – вскричал Сивый.
– Но его нет. А потому вот вам марганцовка и бинт. Будете делать ванночки три раза в день.
И объяснил, как.
Убитый горем Сивый вернулся в барак, выпросил у шныря сломанный котелок и сделал щадящий раствор для ванночек. Когда в бараке погас свет, а в углу, где бытовал Бедовый, продолжилась игра в карты под «коптилку», Сивый вынул из тумбочки приготовленный раствор и в течение получаса делал ванночку. Проведя первый курс лечения, он убрал котелок в тумбочку и улегся спать.
Наигравшись в карты, Яйцо, напарник Сивого по валке кедров и сосед по нарам, вернулся на место и перед тем как лечь полез в тумбочку за сигаретами. Обнаружив при свете спички котелок с водой, он вспомнил об изжоге, набрал в пригоршню небольшую горку соды, и запил ее, не забыв мысленно поблагодарить напарника за бытовую мудрость.
Утром, проснувшись до подъема, Яйцо открыл глаза и вскоре рассмотрел в темноте странную картину. Был еще некто, кто проснулся раньше, и теперь он совершал с котелком действия, не совсем поддающиеся пониманию.
– Ты что делаешь? – шепотом спросил Яйцо.
Сивому, застигнутому врасплох, не удалось додуматься ни до чего лучшего, как до признания.
– И… как давно ты принимаешь ванночки? – задыхаясь от ужасного подозрения, спросил Яйцо.
Сказав правду о главном, Сивый решил не врать в мелочах.
Их разняли еще до подъема, но только через пять минут после того, как Яйцо вскочил с постели. Вскоре оба предстали пред судом, председательствующим на котором был Бедовый, а секретарем, как обычно – Колода. Суд был скорым и, как принято его называть, справедливым. Сивому ставилось в вину, что он не предупредил о характере своего лечения напарника, что явилось причиной оскоромления последнего, и в качестве компенсации было предложено передавать в фонд потерпевшего заработанные за месяц деньги. Понятно, что в этом случае Сивый не мог пользоваться сигаретами и чаем ровно один месяц, и в условиях «дачи» это было более чем строгое наказание. Там же, во время судебного процесса, было постановлено Яйцо оскоромившимся не считать. Инцидент был исчерпан, взаимоотношения урегулированы. Единственное исключение, которое пришлось сделать, это выполнить требование Яйца о замене напарника. Истец сказал:
– Как я теперь буду смотреть на эту рожу, хлебающую баланду из нашего общего котелка?
Суд, рассмотрев ходатайство, его удовлетворил.
И в тот же день в зону прибыл старик из Кремянки.
Глава 3
Лицо Вики стало сводить Литуновского с ума.
Оно стояло перед ним, когда он вгрызался полотном пилы в промерзший ствол кедра, когда помогал Зебре налегать на палку, чтобы повалить векового исполина на землю, и когда Зебра, собирая остаток сил, кричал во время ужасного треска древесной плоти – «Бойся!».
Кедр падал, поднимал ввысь бурю снега, к нему уже торопились, гонимые конвоем, сучкорубы, и снег, оседая, вновь открывал для Андрея лик его прекрасной жены.
– Семнадцать лет и пять месяцев… – шептал он, тая взгляд от напарника. – Семнадцать лет…
Пять, а не восемь – потому что три длилось следствие, и оно засчитывается в срок. Гуманно, не вопрос. Но как быстро его «упаковали»! В камере СИЗО, где он сидел на следствии, были люди, живущие там шестой месяц за превышение полномочий. А по «сто пятой части второй» его проблему разрешили в течение одного квартала. Если бы тормозили дело и волокитили, быть может, на «даче» пришлось бы жить на несколько месяцев меньше. Но кому-то так врезалась вожжа под хвост, что это, наверное, первый в истории Старосибирска случай, когда подозреваемого обвинили, а подсудимого судили в такие короткие сроки за тройное убийство.
Но Андрей не берет в учет эти три месяца. С таким запасом спокойнее жить. Говоришь и думаешь – «семнадцать лет и восемь месяцев», иначе говоря – ноябрь две тысячи двадцатого, а на деле выйдет – начало августа. Все легче.
Ясные глаза Виктории Литуновской возникали перед ним из темноты. Как на том снимке, за два месяца до ареста, она сидела, прижимая к своему лицу головку Ваньки. Она улыбалась, была молода и красива, и эти две пары глаз, смотрящих на него из темноты, заставляли его сжимать зубы и молить бога о забытье.
Все, чем он жил, что было для него в этой жизни главным, осталось за двадцатью гектарами этой проклятой людьми и богом земли. Колючая проволока и собаки, рвущиеся с цепи, унижения, холод и голод – все было ничтожно в его страданиях. Две пары глаз, жены и сына, и мысль о том, что, может быть… Что, быть может, он все-таки будет нужен им через семнадцать лет и восемь месяцев – вот то, что заставляло его не вскочить с нар и не побежать под автоматный огонь конвоя.
Он бы давно уже сделал это, случись так, что не осталось бы на воле самого главного. Тычки в спину и мат, зуботычины и оскорбления, все то, к чему давно привыкли старожилы этого ада, были для Литуновского настоящей мукой. Он никогда не позволял поступать с собой подобным образом, когда был равен в правах со всеми. Он любил жизнь и знал, что она может подарить, будь к ней снисходителен, а к себе беспощаден. Он верил, что все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать, и мог терпеть и крепиться. Но впереди была цель, которую следовало достигнуть, и он шел к ней, превозмогая трудности. Сейчас же цели не было. Можно было бы назвать ею желание снова увидеть Вику и Ваньку, но стоящие между ними семнадцать лет и восемь месяцев превращали эту встречу в утопию, а цель в миф.
И снова вставал в голове вопрос – а будет ли он нужен им через семнадцать лет и восемь месяцев? И сам себе отвечал, что ответа не имеет. Однако сама форма риторического вопроса давала повод однозначно ответить – даже если и дождутся его Вика и Ванька, то уже никогда не будет между ними того чувства, которое могло в них жить, не окажись он здесь.
И не будет времени, чтобы все вернуть и исправить. Не хватит жизни. Останется недосказанность, подозрения, и рука, протягивающая ему стакан воды, будет дрожать не от любви, а от раздражения по поводу того, что он вернулся, чтобы лечь в постель и оказаться в ней совершенно бесполезным.
Семья, встретив больного человека, жизнь в которого вдохнуть уже невозможно, теперь будет желать лишь одного. Чтобы он поскорее ушел, облегчив их страдания, и вернул им прежнюю жизнь. А какова она, прежняя?
Нет, не где они втроем, под Новый год, катались на санках у городской елки. И не та, где Ванька плавал на спине отца по Обскому водохранилищу, а мама, махая с берега рукой, кричала: «Мужчины, немедленно вернитесь, а то накажу!»
Нет, их прежняя жизнь, Вики с сыном, будет та, которой они будут жить эти семнадцать лет и восемь месяцев. В нужде, экономя и изыскивая средства для покупки летом шапки для Вани, а зимой – туфель для Вики. Вот это и будет их прежняя жизнь. Возможно, судьба внесет кое-какие коррективы в эту константу, и появится некто, который будет содержать их, требуя в ответ лишь любовь и понимание. Скорее всего он окажется приличным и порядочным человеком. Зная Вику, Андрей мог безошибочно предположить, что с подлецом Вика свою судьбу не соединит никогда.
Раз так, то, может быть, оно и к лучшему. Значит, Ванька не будет нуждаться. Возможно, даже забудет об отце. Пять лет – что это такое? Дети легко все забывают и так же легко привыкают к новому. Если это новое, конечно, хорошо и приятно.
Придя в себя, Летун почувствовал, что его зубы ноют, а уголок подушки, набитой ватой, трещит.
– Ты чего, Андрюха? – спросил из темноты Зебра.
Разжав зубы, Литуновский секунду помедлил, давая возможность горлу расслабиться, и только потом выдавил:
– Сон дурной.
– А… – отозвался Саня. – Значит, не обжился еще. У меня поначалу тоже беда была… Сны как дичь.
Еще секунда, и среди десятков перехрапов и перестонов Андрей слышит сап Зебры.
Зэк на «даче» усталый, но бдительный. Малейший звук для него – повод его обсудить.
Сны как дичь. Нет. Это явь как дичь. И, самое главное, за что все это?
Жизнь уже не начать сначала, второй не будет, а та, что дана, перечеркнута и растоптана. У него отобрали свободу. У него отобрали жену, сына. Теперь хотят отобрать остаток жизни.
Перевернувшись на спину, Андрей посмотрел в темный потолок и снова вспомнил, как молча сидела на стуле жена, когда после объявления приговора его выводили из зала суда.
Он хотел крикнуть ей – «Все встанет на свои места!», но вместо этого смотрел на нее глупым взглядом и не мог выдавить из себя ни слова. Что он мог сказать ей? Что могло встать на свои места потом, если не встало до сих пор? А чем было ободрить Вику еще? «Все будет хорошо»? «Не волнуйся»? Понимая, насколько идиотично будет выглядеть в этом случае, как низко и как малодушно, он лишь не сводил с жены взгляд. А та сидела, помертвевшая, с восковой маской на лице, прижимая к губам руку. Эти белые пальцы до сих пор стоят перед глазами Андрея. До сих пор.
За четыре месяца он не получил из дома ни одного письма. За три месяца следствия получил четырнадцать. Каждый вечер, после работы, он привставал с нар, чтобы встретить вернувшегося из административного здания Зебру. Услышав клички счастливчиков, получивших заветные конверты, он обреченно опускался на топчан и мучил себя одним и тем же вопросом: «Почему?»
Почему она не пишет? Почему не дает шанса привыкнуть к необходимости разрыва? Остальные, кого забывают, получают известия сначала часто, потом реже, а потом не получают вовсе. Но к этому сроку притупляется боль, прививаются инстинкты самосохранения в зоне, вырабатывается иммунитет изгоя. Почему она не дает ему возможности испытать то же? Он должен превращаться в скотину постепенно, как остальные, почему она убивает его сразу, не дав ему этой возможности?
– Андрюха, извини…
– Пустое.
– А я все со старым…
– Я знаю.
Бам. Бам… Бам, бам… Бам-бам-бам-бам…
Стекло чуть дребезжит.
Дождь в тайге тринадцатого апреля.
То ли еще будет…
– Литуновский!
Андрей, услышав голос начальника отряда и свою фамилию, встает с топчана. Лучше это делать побыстрее, иначе недолго нарваться на пару пинков.
– К замполиту.
Это нехорошо. Когда кого-то часто вытаскивают в Белый дом, это начинает вызывать подозрения у соплеменников. Зачем честному фраеру частить к «красным»? Вот так частят, частят, а после устраивается шмон, и в бараке изымаются из привычных мест карточные колоды, спирт и прочее, что хранению в бараке не подлежит. А зачастивший в администрацию зэк внезапно переводится из рабочих в кашевары или писари. Нехороши эти вызовы, Андрей об этом уже знал.
Картина проясняется, когда он, выводимый конвоем, видит у ворот телегу с коробками и мешками, а поверх этого груза – знакомого деда из Кремянки.
– Понравился ты чем-то старику, Литуновский, – улыбается замполит. – Хочу, говорит, того на разгрузку, что был в прошлом разе. Мы им не отказываем в малостях. Правильно делаем, Литуновский?
– Откуда я знаю, – пробормотал сквозь обветренные губы Андрей и поморщился.
– Здорово, касатик! – приветствовал Летуна дед. – Жив еще?
Единственная радость заключается в том, что можно с открытым сердцем признаться, что да, жив. Еще.
– Пусть мальцы тючки кидают, а ты нако, поешь…
На этот раз дед подготовился основательно. Две пачки «Беломора», сало, заранее порезанное, ломти настоящего, домашнего хлеба и очищенные от скорлупы яйца. И, конечно, литровая бутыль молока, знакомая с прошлого раза.
– Ты ешь, ешь, не сдерживайся.
Андрея заинтересовала лишь бутылка молока. Пробовал протолкнуть внутрь яйцо – получилось с такой болью, что лучше бы и не пробовал. Горло настолько отвыкло от объемной пищи, что, следуя законам анатомии, сузилось и окостенело. А молоко – это просто чудо. Он пил бы его каждый день. Что и делал семь месяцев назад.
– Ты, старик, папиросы убери, – Литуновский отодвинул пачки в сторону. – Здесь дают бесплатные, и пока их хватает. Побереги, пригодятся.
Наверняка дед отрывал подарок от себя. Продукты в Кремянку, как и на «дачу», небось доставляют вертолетом. Или железной дорогой, если она неподалеку. Словом, не в избытке их в местном сельпо. Литуновский не станет брать папиросы, он знает, что такое обходиться без необходимого. А за молоко готов благодарить старика горячо и старательно. Вот только отвык Андрей это делать. На «даче» никогда ничего не просят, а потому и благодарить нет необходимости.
Литр пахнущего свободой молока ушел внутрь, как в сухую землю. Выпил бы еще, да знает – во-первых, у деда нет, да и потом опасно. Такой порции жира и так предостаточно, чтобы в ближайшие дни чувствовать себя не в своей тарелке.
– Нашел деньги-то? – спросил Андрей, чувствуя, как по его телу пробежала искра жизни.
– Да иде их найдешь? Прошлый раз триста сорок выручил, сейчас, дай бог, сотни три выйдет. – Дед перевел взгляд с одной руки с зажатым в ней кнутом и двумя отставленными в сторону пальцами, и посмотрел на вторую. – Теперь еще не менее тысячи семисот нужно. Прошлый день приехал, глядь, мотор на «Кефали» забарахлил. А без рыбы нам сам знаешь…
– Да, конечно, – нехотя подтвердил Литуновский, словно понимая, что без рыбы им жизни нет.
Вокруг занималась весна. Ее дыхание было тем ближе, чем дольше старик рассуждал о каких-то далеких, непонятных для Андрея проблемах – мотор на лодке забарахлил, сама лодка прохудилась, крышу перекрывать нужно, обувку мальцам готовить…
Вот она, жизнь. Вместе с ароматом просыпающейся после зимней стужи весны слух Литуновского ласкает легкая брань старика из красноярской глубинки и рассказ о том, что жизнь, вопреки заверениям правительства (старик слышал это по радио), лучше не становится. Однако, как ни поднимался доллар, деду, для того чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым, нужно две тысячи триста рублей. Доллар за две недели наверняка поднялся, а старику нужны все те же две триста. Даже меньше. Тысяча семьсот рублей, если сейчас продаст товара на триста.
– Очень, значит, нужно? – повторяет, словно сомнамбула, Литуновский.
– Позарез, – подтверждает старик. – Съездил бы в Назарово, мотор отремонтировал…
– Назарово рядом? – Андрей почувствовал, как у него в груди чуть всколыхнулось сердце.
Назарово… Назарово Литуновский знал. Сгущенка знаменитая, привыкнуть к которой, наевшись ею до изнеможения в армии, Андрей не смог за все последующие годы.
– А то, – пожал плечами дед. – Сто километров на северо-запад, и Назарово будет. Там есть ремонтная мастерская, я справлялся. Как думаешь, рублей триста… Ну, пусть триста двадцать, на ремонт бензонасоса хватит?
– Думаю, хватит, – соглашается Литуновский. Вырвав из запрессованной за год сенной подстилки соломину, он сунул ее в рот и покрутил пальцами. Господи, до чего приятно она пахнет избой и коровой… – Да только где ты их возьмешь, старик?
– Вот это и досадно, паря. Взять, по чести говоря, негде. Тут выбирай – либо бензонасос, либо чуни мальцу старшего. Сейчас самая пора дрова заготавливать, да еще подработка есть… Повадился какой-то модный паря к нам, просит лес заготавливать. Мы с мужиками прикинули – если просьбу выполнить, то по тыще за лето заработать можно.
– В Китай, – думая о чем-то, пробормотал Андрей.
– Не понял, – старик насторожился и придвинулся чуть ближе.
– В Китай, говорю. Лес заготовите, а он его вывезет и в Китай отправит. Пятьсот долларов за кубометр кедра. Считай сам. А ты говоришь – по тыще за лето. Меньше тысячи долларов на каждого и не соглашайтесь. Иначе в дураках останетесь. Да и потом, все равно тебе не хватит…
Старик помолчал, степенно помолчал, как принято у деревенских, принял к сведению и так же важно сменил тему:
– Тяжко, паря?
– Терпимо. Ты когда в следующий раз будешь?
Тот пожал плечами и пробормотал что-то о том, что ему чем чаще, тем лучше, что деньги, мол, на дороге не валяются, и заодно спросил, будет Андрей есть яйца или же их убирать.
Значит, через две недели. За эти дни у сельчан накапливается количество продуктов, которые можно готовить к сдаче. Догадаться об этом нетрудно, вся загвоздка в том, сколько даст за четырнадцать дней молока корова и сколько яиц дадут несушки. Четырнадцать дней…
Он хотел повременить, но вдруг ему снова явилось лицо Вики, и сердце заныло от боли. Воля. Что может быть лучше нее? Возможность прижать к себе сына и впиться губами в губы жены… Как она далека и как заманчива.
Он перестал упрямо повторять, что не убивал, после того, как судья, выслушав его последнее слово, беззвучно прошептала:
– С вами все ясно.
Ее не слышал никто, кроме нее самой и Андрея. И столько злости, столько бессердечия и глупости было в этой процеженной сквозь тонкие бесцветные губы фразе, что Литуновский почувствовал, как у него оборвалось сердце. Теперь приговор можно было и не слушать. Его привезли через два дня ближе к обеду, и он сидел, голодный, без сигарет, в одиночке Центрального районного суда, ожидая, пока судья вернется с обеденного перерыва и приступит к чтению приговора. Его ввели в зал, и он, уже готовый ко всему физически, но совершенно не подготовленный морально, стоял, вцепившись пальцами в ограждения клетки, и слушал, слушал, слушал…
И даже сначала не понял, что такое «восемнадцать лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима». Жизненный опыт и образование понять помогали, а вот разум верить отказывался.
И когда его повели к выходу в наручниках, он смотрел на Вику, и его слова ободрения, не в силах сорваться с губ, деревенели и перекашивали рот.
– Старик, тебе очень нужны деньги?
– А то.
– Сколько километров отсюда до сторожки, в которой живут во время белкования твои сыновья?
Непонимающий старик свалил с затылка кепку и почесал затылок.
– Километров тридцать. – Он надул губы – это помогало ему думать.
– А в каком направлении? – Сердце Андрея билось с перебоями, как при инсульте.
– Север без моей помощи сможешь определить? – Старик стал что-то соображать.
– Без проблем.
– А в ночи?
– Нет солнца, есть луна. Нет луны, есть деревья. Без проблем.
– Так вот, отсюда на северо-запад пятнадцать километров. Дойдешь до болота и справа от него увидишь избу малую. Раньше мы ее под зимник подобили, а сейчас нет нужды туды зимой мотаться.
– Старик… – От волнения Андрей стал чуть заикаться. Реальное чувство свободы перехлестывало его и гнало наметом к цели.
– Ну, скоро там? – раздалось из ледника.
– Чуток осталось! – взвизгнул фальцетом дед и снова наклонился к Литуновскому.
– Я дам тебе две тысячи пятьсот рублей, старик. А через месяц после этого дам еще сто тысяч.
– Сколь??
– Сто тысяч рублей, – повторил Литуновский. – А две с половиной, чтобы ты знал, что не обману, дам здесь, сразу. Но через день после того, как ты в следующий раз отсюда уедешь, в сторожку положишь одежды, желательно поприличней, моего размера, и продуктов на два дня.
– Ой, лихо… – взмолился дед.
– Знаю, что лихо, – рассердился Андрей. – Потому что я никого не убивал, старик. Я не убивал тех троих, за смерть которых мне врезали восемнадцать лет. А я не смогу здесь жить, старик. Я умру сам через год. Я не могу жить в неволе, дед, я человек такой… Я к сыну хочу, старый… У меня Ванька без меня другим будет…
– Тихо, тихо, тихо… – прошепелявил сельчанин и осторожно похлопал кнутом по сапогу разволновавшегося Литуновского. – Не егози, паря. Сгоришь зазря раньше времени.
– Ну-ка, давайте, завязывайте там, с разгрузкой! – пробасил выглянувший из ледника замполит, недовольный тем, что работы идут не по обыкновению медленно. – Литуновский, ты долго еще на телеге валяться собираешься?
Андрей встал и нетвердой рукой стал подавать оставшиеся коробки ускорившим разгрузку зэкам.
– Значица, так, паря, – шептал старик. – Сегодня какое у нас? Тринадцатое. В следующий раз я приеду, получается, в конце апреля. Грех на душу беру, не знаю, простится ли, но больно уж жалко на тебя смотреть. Сын, говоришь? Сколько пацану?
– Пять, – сглотнув комок, не веря собственному счастью, глухо выдавил Литуновский.
– Ай, беда… Пацана жаль, и тебя, паря, жаль. Точно не убивал?
– Крест целую, батя…
– Значица, так тому и быть, – старик прихлопнул себя по голенищу войлочного серого сапога и качнул головой. Ты только уж не выдавай меня, если что, паря… Знаешь, всякое случается, а мне на старости лет…
– Батя, богом клянусь… – У Андрея прихватило горло, едва он представил, как выдает старика администрации.
– Да слазь ты с телеги, Литуновский, черт тебя подери! – рявкнул замполит и махнул рукой конвою – «гоните этих троих обратно».
– Как приеду, все расскажу тебе, – пробормотал напоследок старик и вдруг приосанился и взмахнул кнутом. – А ну, слазь, тать!..
«Я хочу домой».
«Хочут все, не все доезжают. С., 1969 г.».
Следуя к бараку под конвоем, Андрей не чувствовал ничего, кроме запаха наступившей весны и того неоправданно радостного, что она приносит с собой.
Через час зэки, глотая с алюминиевых ложек капусту и запивая ее жидким чаем, сквозь приоткрытые окна похожей на барак столовой ловили ноздрями запах яиц, жарящихся в караульном помещении, и аромат куриного бульона, доносящийся из жилой части Белого дома.
– Я, когда приду, попрошу жену сварить борщ со свининой, – сказал Ворон и прополоскал рот остатками чая.
Зэки чуть отвлеклись, но, услышав, что и когда собирается делать Ворон, снова вяло заскребли ложками по днищам котелков.
Сидеть Ворону оставалось еще девять лет.
Глава 4
Весна под Красноярском вошла в свои права решительно и на этот раз окончательно. Ее вестниками стали первые комары, еще маленькие, только что появившиеся на свет, и оттого голодные и злые. Они продирались сквозь одежды зэков, пробирались под сетки накомарников, которые выдавались далеко не всем, и пили кровь, зная, что теперь их власть, а значит, сила.
Шапки сменились на кепи, ватные штаны и куртки вновь залегли на дно каптерки завхоза, и люди, выбираясь на свежий воздух из душного барака, вдыхали аромат тайги полной грудью. Зима сменилась весной, это значит, что срок уменьшился, что еще полгода не будет страха за то, что вдруг подломит простуда, обострится до пневмонии, а в лазарете, как обычно, ни парацетамола, ни димедрола. Неужели «дача» настолько проклята, что даже местный лекарь не получает с Большой земли самые необходимые таблетки? В конце марта заболел Чича. Заболел жестоко, горлом шла кровь, и он уже с трудом добирался до деревянного туалета, чтобы выпотрошить свои исхудалые внутренности от очередного приступа поноса. Дизентерия – поставил диагноз лепила, на том и сошлись. Чича еще неделю провалялся в жару, а когда его состояние уже не попадало под понятие обратного процесса, обещающего выздоровление, капитан медицинской службы вызвал из «семерки» вертолет. Вертолет прилетел и увез Чичу. И это был единственный за всю историю «дачи» случай, когда ее бывшего жильца похоронили не в тайге. Уникальный случай, примечательный. Даже тело родственникам выдали. Денег у матушки не оказалось, и закапывать Чичу пришлось под Красноярском. Теперь, чтобы его навестить, его матушке придется добираться через всю страну. Однако и на том спасибо доктору. Помер бы в шестом бараке – не пришлось бы видаться вовсе.
А кедры продолжали трещать, хрипеть и падать, падать, падать…
Из восьмидесяти семи килограммов живого веса, что принес с собой в зону Литуновский, у него оставалось шестьдесят восемь. По меркам шестого барака он был упитан, и многие дивились тому факту, что человек еще ни разу не переболел, не считая насморка и температуры. Лепила два раза давал ему парацетамол, словно от души отрывая, и Летун на следующий день снова взял в руки «Тайгу».
Через три дня после отъезда старика, семнадцатого апреля, Андрей стал понимать, что теперь все зависит от того, насколько быстро и правильно он сможет одолжить денег. Найти на «даче» две с половиной тысячи рублей – это все равно, что на воле попросить взаймы десять тысяч долларов у первого встречного. Счет тут идет не на тысячи и даже не на сотни. Пачка «Примы» – четыре рубля, чая – двенадцать. Приблизительно половина того, что зарабатывает за день осужденный. Наличных денег в зоне нет, а хочешь чая или табака – направляйся к бугру. Бригадир напишет докладную записку, и писарь из осужденных, следящий за бухгалтерией, закроет твою зарплату и выдаст талон. С этим талоном следует направляться к завхозу, и он, надев очки и послюнив пальцы, приобщит ее к делу о материальных выдачах заключенного. Получив пачку чая и сигарет, можно не заботиться о дне завтрашнем. Это значит есть что курить, значит, не придется клянчить у напарника и других, значит, формально независим. А чифирь в конце дня – это то, что заменяет зэку на «даче» телевизор, шейпинг, тренажерный зал и библиотеку.
Можно достать бутылку водки или спирта, но можно не всем, и даже далеко не всем. Бедовый может. Поллитровка самогонки из Кремянки стоит двести рублей, сто граммов спирта – сто пятьдесят.
– Послушай, Саня, – обратился Литуновский к Зебре во время обеда. – Если бы я хотел достать денег, куда бы мне следовало обратиться?
– Это смотря сколько денег, – резонно заметил, пряча хлеб в карман, тот. – Сколько тебе нужно? Десять? Двадцать? У тебя же есть хорошее мыло, зачем тебе деньги?
– Я просто так, предполагаю. Вдруг понадобилось мне три тысячи рублей. Где я могу их здесь найти?
Зебра некоторое время непонимающим взглядом смотрел на Андрея, потом, блеснув золотыми коронками в широком рту, рассмеялся. Вполголоса рассмеялся, как бы конвой не подумал, что сил много.
– Ты с ума сошел? Три тысячи… Вон, у Хозяина займи, он по средам добрый.
– В смысле – у Хозяина? – не понял Литуновский.
– Когда Чичу улетали, им на «вертушке» зарплату привезли, – понимая, что шутка окончена и она все равно не будет оценена по-должному, Зебра насупился. – Летун, ты здесь уже три с лишним месяца. Но ты никак не можешь вдолбить себе в голову, что здесь иные правила. Здесь невозможно что-то занять. Тем более три тонны. За карточный долг в пять рублей тебя могут опустить под нары, поэтому на интерес здесь шпилят лишь те, у кого на счету есть соответствующие суммы. С воли на строгач переводы слать заказано, поэтому сам подумай – сможешь ты найти три тысячи или нет. Кстати, а зачем тебе понадобилось три штуки?
– Я же сказал, – глухим голосом проговорил Андрей. – Просто предполагаю. Ты смеешься, что я ничего не понимаю в местных обычаях. Как же я смогу их понять, ничем не интересуясь? Странный ты человек, Саня…
Обоснование было настолько резонным, что Зебра преобразился и вновь принял свой обычный вид: чуть задумчивый взгляд, размеренные движения, легкий оттенок деловитости.
– Ну, базара нет, ты прав. Поэтому, если предполагать, то такие деньги могут быть только у «красных». – Подумав, добавил уже тихо, стрельнув взглядом по сторонам: – У Бедового могут быть, его «греет» братва капитально. Но, опять же, если у него занять такую сумму, зная, что возврат невозможен, это заранее стать фуфлыжником.
Кто такие «фуфлыжники», Литуновскому объяснять нужды не было. Проигравший в карты, занявший сумму и не отдавший долг даже с помощью родных на воле, человек мгновенно превращался в изгоя, понукать которым по нужде и без нужды отныне мог любой с разрешения кредитора. «Опускать» по тем правилам, что царили на отмороженных зонах, в шестом бараке было не принято, но и без этого каторжная жизнь должника превращалась в ад. Впрочем, чтобы получить статус отщепенца, брать в долг или проигрывать в карты было необязательно. Достаточно было установленного факта частых визитов зэка к «куму» – оперу, Хозяину или замполиту. О чем говорит зэк с этими людьми по собственной инициативе, не так важно. Главное, что по собственной, потому как порядочному зэку ходить к «ментам» западло даже по принуждению.
Значит, Бедовый…
Когда до обещанного прибытия старика оставалось два дня, Литуновский улучил момент и приблизился на делянке к смотрящему. Решиться на подобный разговор стоило Андрею немалых усилий, однако учащенное биение сердца всякий раз сметало на его пути преграды, едва он задумывался о неблагоприятных последствиях этой просьбы. От Вики не было писем, а это значило, что от него открестились. В конце концов, думалось ему, шесть месяцев разлуки – не срок. Всего один поход атомной субмарины. Живут же люди. Любят друг друга и ждут. Успокаивала мысль о том, что, слава богу, родители не дожили до такого его позора. Старики в этом возрасте впечатлительны, им уже трудно что-то объяснить. Так что лучше, что померли до этого…
Колода, телохранитель, нужды в котором у Бедового не было и держал которого Толян скорее от куража, нежели по необходимости, отреагировал на появление зэка вблизи смотрящего, и тут же подсел к пню, за которым расположился Бедовый.